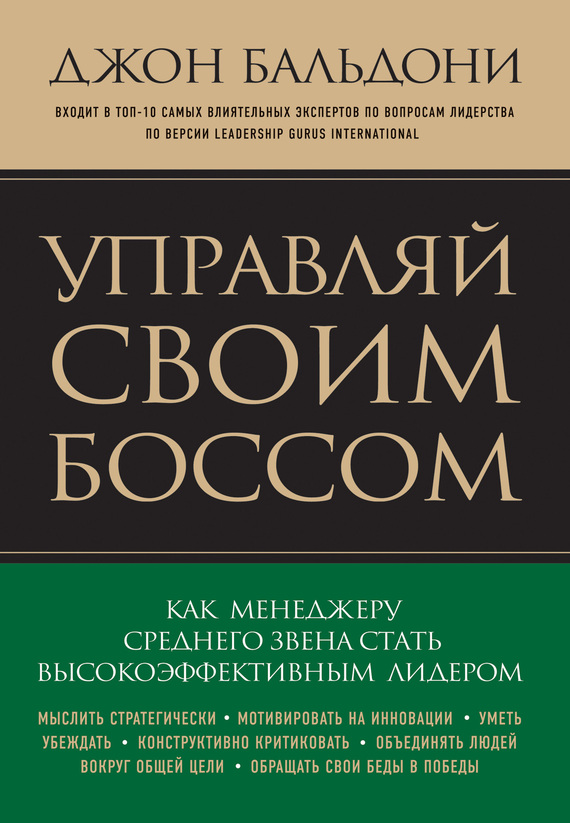Чтиво Келлерман Джесси
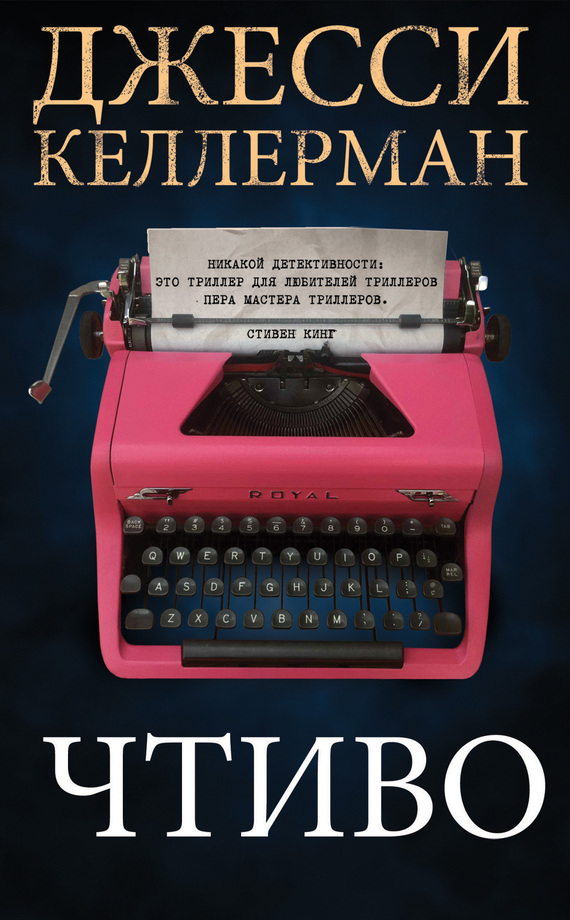
— Два…
Хмурясь, распахнул дверь. На пороге улыбался Фётор, который уже выкинул второй палец. Пфефферкорн представил себя со стороны: хмурая рожа, испуганный взгляд. Неубедительно. Словно в подтверждение этого, улыбка Фётора пригасла, и Пфефферкорн понял: игра окончена. Маски сорваны. Он уже покойник. Хотя с толикой удачи еще успеет добраться до оружия. Предпочтительнее зубная щетка-нож. Дезодорант-шокер гарантирует чистоту, но потребует лишнего движения — снять колпачок. И еще неизвестно, совладает ли с неохватным Фётором. Бог с ней, с грязью, выбираем нож. Как учили, Пфефферкорн мысленно прикинул порядок действий: упасть на пол, перекатиться к шкафу, схватить сумку, раздернуть молнию, отбросить первое фальшивое дно, потом второе, потом третье, цапнуть щетку, выкинуть лезвие и всадить нож. Поди-ка успей. Все хмурясь, Пфефферкорн попятился. Широко улыбнувшись, Фётор крепко ухватил Пфефферкорна за руку.
— Опоздаем, — сказал он и потащил его к лифту.
78
Пфефферкорн не ожидал, что сохранение угрюмой мины потребует громадных усилий, от которых уже сводило пылавшее лицо. По щиколотку в чавкающем навозе, он долго осматривал козье жилье. Одна деталь, прежде не подмеченная, отвлекала внимание: после пересадки кожи с верхней губы подушечка левого указательного пальца стала абсолютно гладкой. Теоретически можно совершить преступление, не оставив отпечатков, — правда, если совершить его одним пальцем. Мелькнула мысль: кажется, любопытная тема. Только, пожалуй, не для романа, а киносценария. Пфефферкорн вновь сосредоточился на хмурости.
В конце экскурсии он получил прощальный подарок — три пузырька навоза, богатого питательными веществами.
Под деревом на обочине дороги Пфефферкорн и Фётор дожидались возвращения кучера, который отвезет их в город. В иных обстоятельствах запах сена и перезвон бубенцов могли бы навеять покой. Хмурясь, Пфефферкорн отметил внешнее сходство между временным помощником заведующего навозом, проводившим экскурсию, и аудитором-ассистентом Министерства газвыделяющих полутвердых веществ, который накануне осчастливил приемом.
— Двоюродные братья, — сказал Фётор.
Пфефферкорн вскинул брови — настоящие, — удивленный столь откровенным признанием кумовства.
— Мы все друг другу родня. Где родился, там и сгодился, так? — Фётор показал на кайму крутых холмов вкруг Злабской долины, загнавших ее обитателей в тесное соседство: — В свете этого наша печальная история обретает подлинную трагичность. Вредим только себе.
Пфефферкорн хмуро кивнул.
— Я уже говорил, что встреча с новым человеком — редкая почесть. — Фётор потрепал спутника по плечу и не убрал руку, словно угомонял взбалмошного ребенка.
Сердце Пфефферкорна екнуло. Он не успел ничего ответить — на дороге в ленивых клубах пыли возникла тройка. Повозка остановилась, забрала пассажиров. Фётор что-то шепнул вознице и сунул ему пару бумажек. Кучер кивнул. Вместо того чтобы развернуться в сторону города, он щелкнул кнутом, направляя коней прямо.
Пфефферкорн нахмурился, уже неподдельно.
— Куда мы едем?
— До чего ж славный денек, а? — сказал Фётор. — Давайте прогуляемся.
Повозка громыхала вдоль полей в буйстве клевера. Солнце крапило меланхоличные остовы советских тракторов. Все реже встречались подворья, щербатый асфальт сменился бороздами засохшей грязи, а жужжание насекомых стало таким громким, что Фётору приходилось его перекрикивать. Пфефферкорн не слушал. Мысль о превосходящих силах противника и полной собственной безоружности так его тревожила, что временами он забывал хмуриться, но потом, спохватившись, мрачной гримасой опускал устремленные вверх усы.
Подъехали к развилке. Проржавевший указатель извещал, что до разрушенного ядерного реактора — три километра. Кучер свернул на другую, никак не обозначенную дорогу. Пфефферкорн заерзал.
— Уже близко, — сказал Фётор.
Впереди строй деревьев отмечал северную границу леса Лыхабво — зоны, равно запретной для туристов и местных жителей. Приказав остановиться, Фётор сунул вознице еще пару бумажек.
— Идемте. — Он обнял Пфефферкорна за талию и увлек в лес.
79
Повсюду виднелись следы высокой радиации. Асимметричные листья дубов и кленов были размером с гитару. Под ветерком клонился психоделический папоротник. По валунам, зачерненным лишайниками, шныряли девятипалые пестрые белки. В обычных лесных ароматах (сладком запахе прелой листвы и пикантной волне от нагретых солнцем камней) слышалась странная химическая нота. Рак заработаешь как нечего делать, подумал Пфефферкорн. Но сейчас больше тревожило другое: они вдвоем, вокруг ни души.
— Красота, а?
Хмурясь, Пфефферкорн промолчал. Почему Фётор оставил возницу на дороге? Возникнут вопросы, если в лес вошли двое, а вышел один. Разве что так и предполагалось. Значит, кучер в деле. Но ведь четыре руки лучше двух? Ответ: Фётор не видит в нем опасного противника. Можно счесть это небольшим преимуществом, которое вскоре исчезнет. Надо действовать, и чем быстрее, тем лучше. Пфефферкорн углядел островерхий камень, торчавший из земли. Порядок действий: упасть, перекатиться, выковырнуть камень и ударить, прежде чем Фётор опомнится. Нет, слишком много возможных накладок. Неизвестно, как глубоко камень сидит в земле. Может, его не выковырнуть вообще. Камень остался позади. Шли берегом расширяющегося ручья. Обнимая Пфефферкорна за талию, Фётор рассказывал о тяготах детства в большой семье, ютившейся в крохотной хижине. Известно ли Пфефферкорну, что в злабском языке нет слова, означающего частную жизнь? Хмурясь, Пфефферкорн шарил взглядом по пружинистой земле, укрытой палой листвой и горками хвойных игл длиною с бильярдный кий. Бессчетно рухнувших суков, каждый сойдет за отменную дубинку, если хватит духу его поднять. Когда ж включатся натренированные навыки? Ватное тело послушно подчинялось руке Фётора. Эй, мышечная память, мысленно прикрикнул Пфефферкорн. Удар под дых. Точки пережатия. Кошмар, волокут на заклание, будто тряпичную куклу.
Ручей впадал в заиленное озерцо. Наконец-то Фётор выпустил талию Пфефферкорна и встал у водной кромки, глядя вдаль. Сейчас или никогда, решил Пфефферкорн. Он воровато пригнулся и выдернул из влажной земли предательски чмокнувший камень, но Фётор ничего не заметил. Он рассказывал, как мальчишкой сюда прибегал, чтобы излить свои горести рыбам и деревьям. Давно уж тут не бывал, но счастлив вновь очутиться в этих местах, да еще с новым другом. На уроке о травмах тупыми предметами Сокдолагер говорил, что нужно бить в висок, где много кровеносных сосудов и нервных окончаний. Только бить акцентированно. Ударить нерешительно — хуже, чем не ударить вообще. Пфефферкорн вертел камень в руке. Казалось, вся влага изо рта перекочевала в ладони. Он вспомнил свой единственный опыт насилия над живым существом. В старой квартире водились мыши. Обычно им хватало смекалки избегать липучих мышеловок, но однажды исступленный писк прервал его вечернее чтение. На кухне орала мышь, чьи задние лапки увязли в клее, а передние лихорадочно скребли по линолеуму в попытке выбраться из западни. Он уже не надеялся, что какая-нибудь мышь попадется, и оттого не имел плана на случай ее поимки. Вроде их топят в ведре с водой. Нет, это какой-то садизм. Подумав, он осторожно взял мышеловку за край и кинул в пластиковый пакет. Связал его ручки и вынес на улицу. Пакет дергался и пищал. Развязав ручки, он заглянул внутрь. Мышь обезумела, будто знала, что ее ждет. Он уж хотел ее выпустить, но побоялся, что оторвет ей лапы вообще. Долгую минуту смотрел, как мышь остервенело царапает стенки пакета. Иногда он жалел, что не стал электриком или шофером автобуса. Настоящий мужик не стоит столбом, тупо глядя в пакет. Он знает, как поступить. Так что, работа делает человека, или наоборот? Он вновь завязал пакет и, размахнувшись, ударил им о тротуарную бровку. Что-то хрустнуло, но пакет еще корчился. Он снова ударил. Шевеление прекратилось. В последний раз шмякнув пакетом о бровку, он швырнул его в урну и помчался к себе принять душ. Его трясло, вот как сейчас. Надо разбить задачу на этапы. И мысленно их проиграть. Беда в том, что хорошее воображение конкретизирует каждый шаг, но одновременно живописует его жуткую сущность. Вот рука чувствует отдачу от соприкосновения камня с черепом. Вот слышится хруст, словно кто-то стиснул чипсы в кулаке, вот рана набухает кровью. Пфефферкорн сглотнул едкую горечь и крепче сжал камень в руке. Кажется, еще он прикончил уйму пауков, но они не в счет. Пфефферкорн шагнул вперед. Фётор обернулся. Понимающе улыбнувшись, он сказал «а, верно» и с бесподобным проворством выхватил у Пфефферкорна камень. Пфефферкорн попятился, рухнул наземь и, прикрыв руками голову, отполз за поваленный ствол, где изготовился к бою. Но Фётор не выхватил оружие, не собрался атаковать. Только с неподдельным удивлением смотрел на Пфефферкорна. В полном молчании один другого буравил взглядом. Наконец Фётор пожал плечами и, отвернувшись, запустил камень по озерной глади. Трижды подскочив, тот улетел в кусты на противоположном берегу. Фётор выковырнул другой камешек и протянул Пфефферкорну:
— Теперь вы.
Пфефферкорн не шевельнулся.
Фётор опять пожал плечами и запустил второй камень.
— М-да, паршиво, — сказал он. — Мальчишкой я делал семь «бабочек». — Рукой Фётор изобразил скачки камня. Потом озабоченно глянул на Пфефферкорна: — Как ваша губа?
Пфефферкорн почувствовал, как на загривке вздыбились волоски.
— Наверное, тяжело целый день корчить рожи? Знаете, передо мной не стоит ломать комедию. — Фётор чуть усмехнулся. — У вас вот тут пятнышко засохшего лака.
Пфефферкорн молчал.
— Я повидал таких, как вы. В живых никто не остался.
Поблизости камней не было.
— У вас есть секреты. Понятное дело. У кого их нет? И кто из-за них не страдал?
Ни одного сука.
— Говорите спокойно. Уверяю, здесь нет прослушки. — Фётор подождал ответа. — Что ж, я понимаю ваши опасения. Нам, злабам, не надо это объяснять. Поверьте, дружище: с годами бремя легче не становится. Лишь тяжелеет. Уж я-то знаю, потому что мне пятьдесят пять, и мое бремя так гнетет, что порой кажется — все, больше не могу. Думаешь, хорошо бы просто сидеть, покрываясь пылью и паутиной. Стать бы этаким взгорком. Чего лучше? Гора-то ничего не чувствует, верно? Мне уж не дождаться перемен, я знаю. Но если превращусь в гору, кто-нибудь на меня взберется, встанет мне на плечи и с моей высоты заглянет в будущее.
Повисло молчание.
— Нет прослушки? — спросил Пфефферкорн.
— Нет.
— Откуда вы знаете?
— Знаю.
Молчание.
— Экскурсовод, — сказал Пфефферкорн.
— На досуге.
— А в прочее время?
— Смиренный слуга Партии, — поклонился Фётор.
— В какой роли?
— Начальник службы электронного слежения. — Фётор вновь поклонился. — Министерство наблюдения.
Молчание.
— Понятно, отчего вы так популярны.
— Имею тысячи друзей, но никто меня не любит.
Фётор перевел взгляд на озеро.
— Я знаю, каково это — вечно держать язык за зубами. Похоже, дружище, мой способ служения государству — не случайность, но Божья шутка. А? Секретный человек живет тем, что губит других, вызнавая их секреты. Моя вечная кара. — Он посмотрел на Пфефферкорна: — Скажите что-нибудь.
— А что сказать?
Фётор промолчал и опять отвернулся.
— Ничего не стоило сдать вас, — сказал он. — Я мог это сделать когда угодно.
Пфефферкорн молчал.
— Думаете, я на такое способен?
Молчание.
— Не знаю, — ответил Пфефферкорн.
— Вы не представляете, как больно это слышать, — сказал Фётор.
Молчание.
— Что вам от меня нужно? — спросил Пфефферкорн.
— Дайте надежду, — сказал Фётор.
Молчание.
— Каким образом? — спросил Пфефферкорн.
— Скажите, что мне будет лучше в другом месте.
Пфефферкорн промолчал.
— Расскажите про Америку, — попросил Фётор.
Долгое молчание.
— Откуда ж мне знать, — сказал Пфефферкорн.
Фётор сник, будто из него выпустили дух. Лицо его посерело.
— Ну да, конечно, — сказал он. — Прошу прощения.
Молчание.
Заверещал мобильник. Пфефферкорн вздрогнул, но Фётор даже не шелохнулся. Через шесть звонков телефон смолк. Потом опять затрезвонил. Фётор нехотя полез в карман.
— Та. Ладно. Хорошо. Та. — Он закрыл мобильник. — Жалко, но супруга требует меня домой. — Тон его стал безразлично официальным. — Прошу простить.
Фётор отвесил поклон и зашагал в лес.
Через минуту Пфефферкорн последовал за ним, держась чуть поодаль.
Всю долгую ухабистую дорогу в город оба молчали. За три квартала до гостиницы застряли в пробке, и Фётор, наказав вознице доставить гостя, вылез из повозки.
— А как же вы? — спросил Пфефферкорн.
Фётор пожал плечами:
— Пройдусь пешком.
— Ага, — сказал Пфефферкорн. — Ну, значит, до завтра?
— Завтра, извините, у меня неотложные встречи.
Настаивать не имело смысла, поскольку ложь была очевидной.
— Ладно, — сказал Пфефферкорн. — Тогда до следующего раза.
— Да, как-нибудь.
— Спасибо, — сказал Пфефферкорн. — Большое спасибо.
Фётор промолчал. Не оглядываясь, он зашагал по тротуару и вскоре скрылся из виду, затерявшись в людской толчее.
80
В столовой было тихо и безлюдно — только пьяный полковник и Елена. Подавая тарелку с последней лепешкой, раздатчица одарила Пфефферкорна пристальным взглядом, отчего он, вспомнив об усах, сурово нахмурился. Потом задумчиво сел за угловой столик и поделил лепешку на мелкие кусочки, дабы продлить свой скудный ужин. В мире, где никому нельзя верить, он поступил правильно. Он следовал инструкциям. Никому не верить. Все отрицать. В мире, где никому нельзя верить, одни события логически вытекали из других. Он отверг намеки влиятельного человека, и теперь тот чувствовал себя уязвимым и был оскорблен отказом. В мире, где никому нельзя верить, расплата не заставит себя ждать. Пфефферкорн понимал, что должен почувствовать страх. Было бы разумно кинуться в свой номер, побросать вещи в сумку и действовать по плану Б. В мире, где никому нельзя верить, уже урчит мотор фургона. В мире, где никому нельзя верить, фургон выезжает из подземного гаража и направляется к «Метрополю». В фургоне молодцы в кожаных куртках. Они гуськом войдут в вестибюль, проследуют в столовую, у всех на виду скрутят шпиона, оттащат в фургон, а потом стреножат и тычками погонят в промозглый подвал, где закуют в железы и подвергнут немыслимым надругательствам. В мире, где никому нельзя верить, единственный разумный шаг — бежать. В мире, где никому нельзя верить, тикают часы, перетекает песок и брошен неумолимый жребий.
Неужто кто-нибудь захочет жить в мире, где никому нельзя верить?
Страха не было. Но лишь пронзительное чувство утраты. Посторонний человек отчаянно просил о надежде, а он отвернулся, ибо того требовали инструкции. Мир, где никому нельзя верить, скверный мир. Пфефферкорн чувствовал свое шпионское одиночество и еще — злость. Он был противен себе тем, что поступил как должно. Убогость столовой, которую прежде скрашивало жизнелюбие Фётора, резала глаз. Источенные паразитами стены. Ими же проеденный половик. Липкая, обшарпанная столешница. И столик не тот, что прежде. Это был их столик. А теперь — его гадкий столик. Пфефферкорн отпихнул тарелку с лепешкой. Будь прокляты кукловоды. Будь проклято задание. Наверное, было бы легче, если б чувствовать, что хоть на дюйм приблизился к Карлотте. Но ничего не происходит. Он будто исполняет заглавную роль в паршивой пьесе, состряпанной студентом-неумехой. Человеческая сущность его растворялась в вечерней духоте. Тупо глядя перед собой, Пфефферкорн гонял чай по донышку чашки. От гримас ломило лицо. Всеми силами он следовал инструкциям. Был собран, целеустремлен и не позволял чувствам возобладать над разумом. Но теперь с головой погрузился в пучину безнадежности и уныния. Он соскучился по Карлотте. По дочери. Плевать на долг перед страной. Он просто хочет домой.
Мрачные раздумья прервал пьяный полковник, который звучно хряснулся головой о стол и захрапел. Распахнулись кухонные двери; с бумажным пакетом «на вынос», горловина которого была туго скатана и заколота скрепкой, возникла Елена.
— Голодный, — по-английски сказала она, протягивая пакет.
Урок Фётора о милосердии к нуждающимся явно возымел действие. Трогательно. Есть не хотелось, но из вежливости Пфефферкорн поблагодарил и протянул руку к пакету.
Елена отстранилась.
— Голодный, — повторила она.
Полковник хрюкнул и поерзал. Елена обернулась, а затем послала Пфефферкорну умоляющий взгляд.
Голодный.
В голове щелкнуло.
Пфефферкорн вспомнил.
— Спасибо, я сыт, — заученно сказал он. От волнения вышло пискляво. — Однако возьму на потом.
— Потом, — откликнулась Елена и, положив пакет на столик, занялась уборкой.
С пакетом под мышкой Пфефферкорн опасливо пересек вестибюль.
— Без сообщений, мсье, — известил портье.
Пфефферкорн уже знал, что их нет. Не дожидаясь лифта, через две ступеньки за раз он взлетел в свой номер.
81
Запершись в ванной, Пфефферкорн положил пакет на столешницу и в предвкушении пошевелил пальцами. Оторвал скрепку и развернул горловину. В пакете была пенопластовая коробка. Он вытряхнул ее наружу и поднял крышку: внутри лежал тряпичный узелок. Пфефферкорн осторожно распустил его концы, готовясь получить электронный ключ или микрочип, и растерянно сморгнул, увидев бледный комок плохо пропеченного теста. Нет, подумал он. Не может быть. Ведь он накрепко затвердил пароль и отзыв: Голодный. — Спасибо, я сыт. Однако возьму на потом. — Потом. Слово в слово. Все так. Ведь Елена не отдавала пакет, пока не услышала условную фразу. И решилась на передачу только сегодня, когда рядом не было Фётора. Тогда где микрочип? Пфефферкорн потыкал пальцем в пирожок. Нечто подобное ему давали на конспиративной квартире, приучая к безвкусной злабийской кухне. Пол говорил, это считается деликатесом. Пя… как его… Пяцхелалихуй. «Гостинчик».
Внезапно его осенило. Вот же дубина стоеросовая. Пфефферкорн разломил пирожок и поковырялся в начинке. Он искал микрочип. Или передатчик. Ничего. Только мелко нарезанный корнеплод и крапины семян, засевшие в крахмалистом клейком тесте. Пфефферкорн расправил половинки, надеясь отыскать хотя бы инструкции, начертанные в недрах выпечки. Ничего. Пирожок и пирожок. Вконец расстроенный, Пфефферкорн хотел выкинуть «гостинчик», но в животе заурчало. Нынче он не ел вообще, а неделя в Западной Злабии приучила, что нельзя разбрасываться едой. Пфефферкорн оправил кусочек в рот, а остальное решил съесть в постели под телепередачу «Дрянь стишки!», позывные которой возвещали о ее начале.
Нынешний выпуск был интересный. Студент переделал сто десятую песнь «Василия Набочки», известную как «Любовный плач царевича», где герой размышляет о том, чем пожертвовал ради своего похода, — в частности, любовью красной девицы. Здесь крылась ирония, поскольку читатель уже знал, что девица эта весьма скверная особа, отравившая царя и замышлявшая то же самое проделать с царевичем, когда тот вернется. С тумбочки Пфефферкорн взял гостиничный экземпляр поэмы, чтобы следить по тексту. Открыл последние страницы, откуда ему на грудь выпала визитка Фётора. Он печально глянул: имя, телефон. Персональный экскурсовод. Потом прошел в ванную, порвал визитку в клочки и спустил их в унитаз. Закружившись в водовороте, бумажки сгинули. Пфефферкорн вернулся в постель.
Студент вольно обращался с размером и рифмой, но главной его дерзостью стала нотка развязности, привнесенная в интонацию плача. Автор снизил резкость иронии, однако по-новому представил персонаж, раньше выглядевший паинькой. Пфефферкорну это понравилось. Немного остроты вовсе не помешает. Чтоб вызвать интерес, совсем не обязательно, чуть что, ломать другим хребты и руки, как делали Дик Стэпп и Гарри Шагрин. Проглотив последний кусочек пяцхелалихуя, Пфефферкорн вытер руки о покрывало. Непостижимо, почему эта клейкая резина считалась деликатесом. Он зевнул. Всего лишь двадцать минут десятого, а уже клонит в сон. Жюри взвилось баллистической ракетой, взорвавшись в злобном осуждении: национальное достояние — негожая площадка для экспериментов. Телекамера крупно взяла мокрое пятно, расползавшееся в промежности студента. Пфефферкорну это не понравилось. На его семинарах до такого не доходило. Прозвучали финальные аккорды. Вновь рот разодрало зевотой, всосавшей весь воздух из комнаты. Пфефферкорн хотел сходить в туалет, но почему-то ноги его не нашли пола, и он ничком плюхнулся на ковер. И отчего-то не спешил подняться. Заиграли позывные следующего шоу. «Встань!» — приказал себе Пфефферкорн. Тело не слушалось. Отстань, сказали руки. Отвали, буркнули ноги. Конечности превратились в неслухов. Что ж, знаем, как с вами управиться. Чай, вырастили дочь. Притворимся, что вы нам безразличны. Все хорошо, вот только комната расплывалась. На экране секли учительшу. Казалось, ее растелешили в конце длинного сужающегося тоннеля. Вопли ее доносились будто со дна глубокой пропасти. Все же неблагодарное это дело, преподавание.
За миг до полной отключки Пфефферкорн вспомнил, в чем ценность пяцхелалихуя. Рецепт требовал пшеничной муки, большой редкости в Западной Злабии. Контрабанда с востока — практически единственный способ раздобыть нужный ингредиент, а также преступление, каравшееся смертной казнью. Еще он расслышал угасающий скрежет ключа в замочной скважине и успел подумать, что пирожок не стоил такого риска.
82
Пфефферкорн очнулся. Темнота. Руки и ноги связаны. Во рту кляп. В паху мокро. Тряская качка ощущалась кишками и суставами. Смена передачи и затем тональности мотора. Жаркая духота, провонявшая плесенью. Без вопросов: он в багажнике машины. Паника схватила за горло и стала душить. Пфефферкорн задергался, но стих, после того как крепко приложился головой. Включи мозги, приказал он себе. Как поступил бы Дик Стэпп? Лежал бы спокойно, сберегал силы. А Гарри Шагрин? Считал бы повороты. Пфефферкорн замер, сберегая силы и считая повороты. Под правым плечом задняя стенка багажника. Значит, если упрешься головой, это левый поворот, а если подошвами — правый. Сползешь влево — подъем в горку, прижмешься к стенке — спуск. Казалось, бесконечная дорога состоит из одних поворотов. Паршивая подвеска. На выбоинах Пфефферкорн ударялся о крышку багажника и, болезненно приземлившись, сбивался со счета. После третьего приземления он плюнул на подсчет и отдался отчаянию. Все без толку, если не знаешь, откуда и куда едешь. И как долго был без сознания. Полная безвестность распалила новый приступ ярости. Пфефферкорн дергался, брыкался, мычал и грыз кляп, исторгая потоки слюны, стекавшей за воротник.
Машина притормозила.
Остановилась.
Хлопнули дверцы.
В щеку чмокнул сырой ночной воздух.
Пфефферкорн не буянил, когда сняли повязку с глаз. Дорожный натриевый фонарь высветил четыре головы в оранжевом ореоле. Потом возникло пятое лицо, заслонившее свет. Мешки под глазами, тонкие бескровные губы. Голова луковкой смахивала на перекачанный воздушный шарик. Лицо улыбнулось, показав неестественно ровные зубы. Явно протезы.
— Господи боже мой, — простонал Пфефферкорн. Вернее, попытался сквозь кляп.
— Тсс! — сказал Люсьен Сейвори.
И захлопнул багажник.
5
ДХИУОБХРИУО ПЖУЛОБХАТЪ БХУ ВХОЖТЪИУОЧНУИУИ ЖЛАБХВУИ!
(Добро пожаловать в Восточную Злабию!)
83
— Хорошо выглядите, — сказал Сейвори. — Сбросили вес?
Пфефферкорн не мог ответить. Во рту торчал кляп. Шестерки — раньше Пфефферкорн как-то обходился без этого слова, но теперь, несмотря на очумелость, счел его самым точным для четырех горилл, в ком безошибочно угадывались прихвостни и кто протащил его через парковку и втолкнул в лифт, — осклабились.
— Однако что у вас с лицом? Прям Сальвадор Дали, которому в задницу вогнали кнутовище.
Двери закрылись, лифт поехал вверх.
Сейвори нюхнул. Скривился.
— Господи, — сказал он. — Кажется, вы обмочились.
Пфефферкорн хрюкнул.
— Отдай ему свои, — приказал Сейвори одной шестерке.
Не мешкая, тот скинул спортивные штаны. Трое других раздели Пфефферкорна. Потом двое его приподняли, третий переодел в сухое, точно младенца. Донор остался в подштанниках.
— Только не расслабляйтесь, — сказал Сейвори непонятно кому.
Лифт все ехал и ехал.
— Бесплатный совет: смените мину, — сказал Сейвори. — Он терпеть не может постные рожи.
Пфефферкорн не знал, что выглядит постно. Он хотел промычать: «Кто „он“?» — но сам все понял, когда за дверями лифта открылся невиданной роскоши зал, перед которым особняк де Валле выглядел затрапезным мотелем.
Через резные двери шестерки втащили Пфефферкорна в лабиринт коридоров, окаймленных вооруженными часовыми.
— Не горбитесь, — сказал Сейвори. — Он всегда подмечает выправку. Не егозите, не пяльтесь. Говорите, лишь когда спросят. Если предложат выпить, не отказывайтесь.
Остановились перед стальной дверью. Сейвори вставил карточку, набрал код. Раздался щелчок, и Пфефферкорна ввели в апартаменты.
84
Пфефферкорн понял, что всякая фотография Верховного Президента Климента Титыча есть лишь отдаленное подобие того, кто сейчас предстал во плоти. Застывшее изображение не могло отразить, как в громадных руках любая вещь казалась игрушкой, или передать трубный голос и пристрастие к эрзац-кавычкам.
— Беда коммунизма вовсе не в том, что он попирает «гражданские свободы», порождает ГУЛАГ и хлебные очереди. «История», «судьба» и прочая дребедень сбоку припека. Дело не в Сталине и, уж конечно, не в Драгомире Жулке, которого, если забыть о политике, я весьма ценил. Ведь мы «родня», хоть и не близкая, седьмая вода на киселе, но все же. Когда долго соперничаешь с человеком грандиозных талантов, поневоле проникаешься уважением, если не к его воззрениям, то хотя бы к способу их изложения. Заметьте, я не говорю, что одобряю его позицию. Драгомир был воистину «чокнутый», а методы его сторонников — и вовсе явный перебор. Наверное, через вашу мошонку не пропускали ток, но, я слышал, это очень и очень «неприятно». Пусть Драгомир был неистовый психопат, но, бесспорно, отменный оратор, что меня и восхищало. Не стыжусь признаться: кое-что я у него перенял в умении сплачивать «народ» и еще всякое такое. Так что и речи нет о «вендетте» и прочем. Меня представляют «безжалостным», «садистом», «не прощающим малейшей оплошности». Не мне судить, так ли оно. Скажу по всей совести: личные антипатии никак не влияют на мой взвешенный взгляд по любому вопросу. Знаете, я много размышлял над тем, что я больше «человек рассудка и логики». Можно сказать, это мое «дело жизни». В том смысле, что все индивидуально, а я был рожден в нищете — разумеется, не в американском понимании, когда под словом «бедный» подразумевают «небогатый». Вы не знаете, что такое жить без всякой опоры вообще. Если б неграмотный негр, в середине пятидесятых обитавший на «Глубоком Юге»,[15] вдруг очутился на Гьёзном бульваре, имея всего лишь мелочь в кармане, он бы как сыр в масле катался. Тут «бедность» имеет другое значение. Мой отец по девятнадцать с половиной часов вкалывал на полях. У матери вечно кровоточили руки. От мытья посуды и вязальных спиц. Она все время себя протыкала чем только можно: спицами, булавками, ржавыми шурупами, заостренными кореньями. Тогда я не вполне понимал, что она хочет «сказать», калеча себя, но теперь абсолютно уверен: причина в том, что ей было не по карману сходить в кино. И вот я, «босоногий мальчуган», задавался вопросом: почему? почему жизнь так устроена? Прошли годы, прежде чем я понял, что все дело в нашей «культурной ДНК». И это же ответ на мой первоначальный вопрос — в чем истинная беда коммунизма? И почему мы, люди, так восприимчивы к его идеям? Две стороны одной медали. Попробуете догадаться? Нет? Хорошо, я отвечу: обычный злаб вроде Драгомира и коммунистическая доктрина в целом совсем не умеют радоваться.
Пфефферкорн был прикован к роскошному креслу, специально модифицированному для пленников: толстые железные обода удерживали руки на подлокотниках, а ножные кандалы не позволяли оторвать ступни от пола выше чем на шесть дюймов. Президент чувствовал себя гораздо свободнее. Его ноги в ботинках двадцать второго размера,[16] по спецзаказу сшитых из козьей кожи, с грохотом опустились на стол эпохи Георга Второго.
— По правде, люди хотят одного — веселиться. — Качнув телесами, Титыч прихлебнул от щедрой порции пятидесятипятилетнего односолодового скотча. — А почему нет? Но злабы иначе устроены. Вечные «ой, нельзя» и «ах, стыдно». По крайней мере, некогда так было. Я надрывался, чтоб изменить ситуацию. Тут скорее психология, нежели экономика. Например, это обожаемое телешоу с поэтами-плаксами. С гордостью скажу, что по нашу сторону бульвара такое не прокатит. Нет, нам нужны победители.
Сейвори, замерший возле музыкального автомата, покивал. Десять охранников не шелохнулись.
Из кармана пиджака Титыч достал пачку экстрадлинных «Мальборо» и нажал кнопку в столе. Из стены вырвалась восьмифутовая рокочущая струя пламени, которая, едва не опалив его лицо, сожгла полсигареты. Титыч затянулся, выдохнул дым и стряхнул пепел в украшенную бриллиантами пепельницу в форме рулетки.
— Народу нашему туго пришлось, спору нет. В какой-то момент ты вынужден брать на себя ответственность. Вот в чем прелесть свободного рынка: он не помнит ни твоих взлетов, ни падений. Беспощадный, но в чем-то очень милостивый. Черт, я проголодался. Где они?
По знаку дверь распахнулась, впустив пятнадцать невероятно грудастых девиц в бикини, которые несли уставленные яствами подносы из чистого серебра. Пристроив ношу на сервант, подавальщицы чмокнули правителя в щечку и скрылись. Пфефферкорн унюхал копченую рыбу и свежеиспеченные блины. Один охранник наполнил тарелку, которую поставил ему на колени. Второй взял его на мушку, а третий вынул кляп и расковал руки. Довольно улыбаясь, Титыч наблюдал, как пленник ест.
— Вкусно, правда? Не то что всякие «корнеплоды» да «козье молоко».
— Спасибо, — сказал Пфефферкорн. Он не видел смысла перечить.
— На здоровье. Выпьете?
Пфефферкорн согласился бы, даже если б не имел указаний Сейвори.
— Это нечто. — Титыч передал бокал телохранителю, и тот сунул его под нос пленнику — мол, оцени аромат. — Торфяной, но мягкий.
Пфефферкорн кивнул.
— Чин-чин! — сказал правитель.
По сравнению с труйничкой скотч показался нектаром.
— Попробуйте гравлакс, — сказал Титыч. — Домашнего засола.
— Восхитительно, — сказал Пфефферкорн.
— Приятно слышать. Еще кусочек?
— Благодарю, достаточно. — Пфефферкорн передал пустую тарелку охраннику, хотя весьма охотно взял бы добавки.
Титыч загасил окурок.
— Как прошла поездка? Не слишком утомила?
Пфефферкорн помотал головой.
— Надеюсь, Люсьен не пересолил.
Краем глаза Пфефферкорн заметил угрожающую улыбку Сейвори.
— Нет, я будто на курорте.
Охранник подал ему новую тарелку: икра, крем-фреш, каперсы и нежная слабосоленая сельдь в легкой томатной заливке.
— Вот и славно. Дело принципа, чтоб вам было хорошо и комфортно. — Титыч зажал в губах новую сигарету. — Каждый вправе вкусить удовольствий, которые предлагает этот мир. — Вызвав огненную струю, он сделал затяжку. — Тем более тот, кто скоро его покинет.
85
Пфефферкорн замер. Потом проглотил непрожеванный кусок селедки и отер томатную заливку с губ.
— Что, простите?
Сейвори ухмылялся.
— Вы меня убьете? — спросил Пфефферкорн.
— Чего уж так удивляться? — сказал Титыч. — Вы доставили немало хлопот. Было совсем непросто похитить Карлотту де Валле, а тут еще вы в роли «героя»…
— Погодите! — перебил Пфефферкорн.
Все вздрогнули.
Повисло долгое молчание.
Президент улыбнулся:
— Ну-ну, говорите.
— Я… э-э… полагал, Карлотту похитили «Маевщики-26».
— Именно так.
— Но только что вы сказали, это ваша работа.
— Верно.
— Простите, я не понимаю.
— «Маевщики-26» — это я, — сказал Титыч. — Они плод моей фантазии. Не забудьте, я хочу спровоцировать войну. Что лучше, чем раздуть пламя реваншизма? Главная цель группы — воссоздать Великую Злабию и любыми средствами установить главенство коллективистских законов. Это четко заявлено в ее манифесте, который я сочинил в ванне. Пожалуйста, Люсьен, фрагмент из преамбулы.
Потыкав кнопки смартфона, Сейвори прочел:
— «Наша главная цель — воссоздать Великую Злабию и любыми средствами установить главенство коллективистских законов».
— Что вы с ней сделали? — спросил Пфефферкорн.
— Сейчас она в штабе группы, который расположен в Западной Злабии.
— В Западной Злабии?
— Естественно. Если б штаб размещался здесь, было бы ясно, кто «дергает за веревочки», м-м? Приказы отдаются через связников. Кроме того, кто придаст большую достоверность фальшивому контр-контрреволюционному движению, чем подлинные оголтелые контр-контрреволюционеры? Фантастически преданная компания, ей-же-ей. С детства они натасканы на яростную борьбу за недостижимые цели. Благослови господь коммунистическую систему образования.
— И на старуху бывает проруха, — сказал Пфефферкорн. — Штаты не ввяжутся.
— Чепуха. Штатам милее ввязаться, нежели допустить, чтобы китайцы за бесценок получили газ.
— Но в первый-то раз не сработало, — сказал Пфефферкорн.