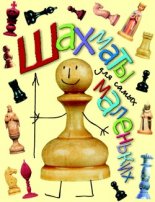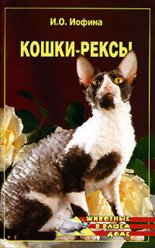Шестой прокуратор Иудеи Паутов Владимир
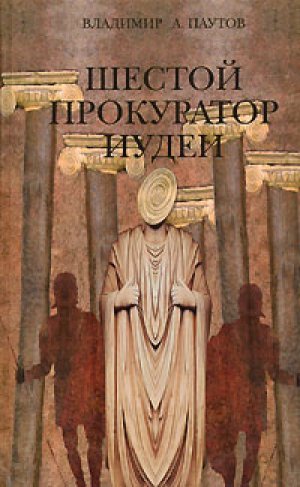
Высокие горы, подступая вплотную к озеру, стеной возвышались над её водной гладью от южного берега Иордана и до самой Тивериады – города, расположенного на западном берегу. Защищённое со всех сторон от ветров и ненастья крутыми, обрывистыми скалами, Галилейское море в любую погоду казалось тихим и спокойным.
Прекрасный вид на зелёную равнину Геннисарет, начинавшуюся от окрестностей небольшого селения под названием Медждель открывался внезапно. Скалы в этом месте вдруг резко обрывались, круто уходили вниз, будто разрушенные морским прибоем, раздвигались и уходили на запад в направлении Средиземного моря.
Но, отступив немного вглубь Галилеи, горная гряда изгибалась крутой дугой и вновь возвращалась к побережью, дабы защитить и скрыть внезапно открывшийся взору изумрудный рай от дурного и завистливого глаза. Озеро небольшими заливами глубоко врезалась в прибрежные камни, отражая их в своей неподвижной зеркальной поверхности.
Снежные вершины Гермона, открывавшиеся вдали во всём своём великолепии, чёткими белыми линиями выделялись на фоне голубого безоблачного неба. Бесплодные и безжизненные плоскогорья Гавлонитиды и Переи, днём покрытые еле заметной дымкой раскалённого от солнца воздуха, образовывали длинную скалистую террасу, представлявшую собой выжженную солнцем пустыню. Она начиналась у Кесарии Филиппа и, казалось, бесконечно тянулась к югу вдоль всего восточного берега озера, Иордана почти до самого Асфальтового моря. Плоские вершины безжизненного пространства принимали на себя весь удар дневного светила, задерживали, притягивали к себе безжалостные солнечные лучи, дабы не позволить жаркому дыханию нагретых за день скал иссушить, спалить, изжарить бурную растительность приозёрья и волшебной долины Геннисарета.
Множеством мелких рек и ручьёв, берущих своё начало от бьющих из-под земли родников, буквально пронизывали раскинувшуюся на западном берегу озера и бурно поросшую олеандрами, тамариндами, колючими кустарниками каперса, дикого тёрна, зарослями лесного ореха и дикой вишни зелёную долину.
Узкая дорога, караванная тропа, вырубленная в прибрежных скалах, извилистой лентой уходила на север, соединяя между собой живописную равнину Геннисарета и шумные, многолюдные, богатые Галилейские города, расположенные почти в одну линию вдоль всего озера по его западному и восточному побережью.
Во всей Палестине Галилейское море славилось своими богатствами. Воды озера буквально кишели всякой рыбой. Её водилось так много, что можно было спокойно ловить руками. В многочисленных лиманах и заводях в изобилии гнездились разнообразные водяные птицы: утки, гуси, пеликаны и кулики. В чарующих уголках заросшего озёрного берега, где прибой волн терялся среди густой зелени осоки, камыша, тростника и зарослей всевозможных цветов и кустарников, господствовали спокойствие и тишина, и только крики чаек, этих неугомонных «разбойников», таскающих добычу прямо из поставленных сетей, нарушали царившее безмолвие. Прохладная и чистая вода озера была столь прозрачна, что даже в самых глубоких местах удавалось видеть дно и большие косяки рыб.
Солнце только собиралось выходить из-за гор, а галилейские рыбаки, успев поставить свои неводы, уже возвращались с моря, дабы вечером вернуться за уловом. Причалив свои лодки к берегу, они, весело и громко перекрикиваясь, расходились по домам каждый со своими думами: «Много ли рыбы сегодняшний день принесёт в их сети?»
Издали вода озера казалась неподвижной, и только, подойдя ближе, можно было увидеть, как волны, играя и шурша мелкой галькой, осторожно, как бы нехотя, накатывали на берег. Утренний туман белыми клочьями медленно поднимался вверх и бесследно растворялся в воздухе. Была прекрасная и тихая погода, когда любой звук можно было даже услышать с другого берега.
Плеск воды, весёлый смех, а затем и тихое пение, раздавшиеся из-за густых зарослей камыша, привлекли к себе внимание Иуды. Какие-то знакомые нотки послышались в женском голосе, который донёс до него лёгкий утренний ветерок.
«Мария!?» – радостно подумал Иуда, и тут же сердце его от неожиданной догадки громко застучало. Эта девушка нравилась ему давно, но, если сказать точнее, то Иуда был влюблён в неё. Он всегда думал о ней. Его постоянно влекло к Марии. Эта молодая галилеянка заставляла Искариота испытывать в её присутствии чувство растерянности и робости.
После того случая, почти годичной давности, когда на юную горожанку напали три злодея, Иуда вполне законно стал считать себя её защитником. Конечно, при этом он не вспоминал о таких мелочах, что в драку-то не вступил, а был всего лишь сторонним наблюдателем того, как девушку спасали без его помощи.
Проводив тогда Марию до самого её дома, Иуда тут же бросился следом за сыном плотника. Он догнал его на пути в Капернаум и ушёл вместе с Иисусом, ибо не мог не выполнить моего прокураторского приказа: «Всюду и всегда следовать за капернаумским проповедником, дабы иметь подробные сведения о каждом шаге его и даже мыслях».
Капернаум, кстати сказать, был небольшим, но довольно уютным городком, к тому же он находился недалеко от Меджделя, а потому Иуда часто навещал юную Марию. Он на правах давнишнего друга заходил в её дом, подолгу идел там, а, уходя, оставлял пару мелких медных монет, от которых отказывалась девушка, но с удовольствием брала её родная тётка. Старая и добрая женщина с малолетства воспитывала Марию, так как родители девушки давно умерли от какой-то страшной болезни, которая лет пятнадцать назад обезлюдила почти весь город. Однако кому-то всё-таки повезло остаться в живых, правда, их было немного, но среди них оказалась Мария со своей тёткой и её детьми. Жили они довольно бедно, как, впрочем, и большинство жителей богатой Галилеи.
Мария была душевной девушкой и весьма приветливой. Она всегда радостно встречала Иуду, когда тот навещал её, и, часто выходила провожать за город, до самого озера, откуда начиналась долина да извилистая дорога в прибрежных скалах, что вела до самого Капернаума. Иуда же почему-то считал, что девушка к нему не равнодушна. Наверное, он так думал, потому что Мария никогда не говорила с ним о других мужчинах и не спрашивала об Иисусе. И это обстоятельство очень радовало Искариота.
Нынешним ранним утром Иуда как раз направлялся в Тивериаду. Он должен был получить в городе деньги от одного торговца, которому их артель строила новый дом. Работали они долго и тяжело, но и выгоду имели большую. Правда, не все из их общины, по мнению Иуды, потрудились в равной степени. Ведь плотницким ремеслом в артели занимались всего два человека, ещё один был каменщиком, сам Иуда считался искусным гончаром и потому мог с успехом помогать класть стены, умело замешивая раствор из глины и песка, а остальные были рыбаками. Вот они-то и занимались подсобными работами.
«Какой от них, рыбарей, толк? Всё больше сидят и смотрят, как мы работаем, да советы дают, умники!» – медленно идя вдоль берега озера, зло думал Иуда о своих новых знакомых. Они недавно присоединились к Иисусу, но так же, как он, считались его учениками. Искариоту это не нравилось, поэтому, наверное, настроение у него в последнее время было плохим.
Он дошёл уже до тропинки, которая вела из долины вверх и шла до самого города, когда вдруг услышал девичий голос.
– Мария! – обрадовался Иуда. Осторожно, дабы не обнаружить себя, он пробрался сквозь заросли камыша и тростника, бурно росшие вдоль берега, и, не выходя на открытое пространство, стал наблюдать из своей засады за девушкой.
Мария как раз в этот момент выходила после купания из воды. Он была нагой. Иуда впервые видел так близко обнажённое женское тело. Хотя ему, конечно же, приходилось иметь дело с блудницами в Птолемаиде, но там было всё иначе, ведь он встречался с портовыми распутными женщинами, дабы утолить свою плотскую похоть, а потому не особенно обращал внимание на их женские прелести. Сейчас же Иуда был потрясён. Он даже не ожидал, что обнажённое тело может быть столь красивым и притягательным. Бронзовая от постоянного нахождения под солнцем кожа девушки буквально вся искрилась от капелек воды, оставшейся на ней после купания. Густые волосы Марии длинными волнистыми прядями рассыпались по плечам девушки, струились своими локонами вниз, как бы специально укрывая её грудь от неосторожного чужого взгляда.
«Если не сейчас, то уже никогда!» – решил про себя Иуда и шагнул прямо к девушке.
Мария, услышав позади себя скрип речного песка и гальки, обернулась и, увидев нежданного гостя, быстро схватила с земли платье, стараясь прикрыть им свою наготу. Она стояла спиной к внезапно подошедшему к ней тайному её воздыхателю.
– Не бойся Мария, это я, – прошептал Иуда, нежно обняв девушку за плечи, и стараясь повернуть красавицу к себе лицом. – Ты, ведь знаешь, как я отношусь к тебе! Вот станешь мой женой и заживёшь совершенно другой жизнью. Это нищета не для тебя, Мария! У меня есть деньги, много денег. Я построю дом, большой и просторный, где только пожелаешь. Хочешь в Тивериаде, или в Птолемаиде, или даже хоть в самом Иерусалиме, – горячась от близости обнажённого женского тела и почти теряя рассудок от нахлынувшего на него вожделения, всё более страстно говорил на самое ухо девушке свои самые сокровенные слова Иуда, продолжая крепко обнимать её.
Терпкий аромат, исходивший от волос Марии, этот запах каких-то полевых цветов, знакомых, но не узнаваемых им от переизбытка переполнявших его чувств, всё кружил и кружил голову уроженцу Кериота. Иуда осторожно прикоснулся своими губами к ещё влажному после купания плечу девушки. Мария стояла, не шелохнувшись, и молчала. Тогда вообразив, что красавица не может вымолвить ни единого слова от неожиданно свалившегося на неё счастья, Иуда, силой развернул девушку к себе лицом и начал покрывать страстными поцелуями шею, лицо и грудь Марии. Правда, страсть его продолжалась не долго. Звонкая пощёчина, словно щёлчок кнута, разорвала утреннюю тишину, стоявшую над озером, и в одно мгновение отрезвила Иуду, приведя того в чувство. Но не сильный удар нежной девичьей ладони испугал Искариота и остановил его домогательства, ибо он твёрдо решил в этот раз добиться своего, но вопрос, что задала ему девушка, заставил в мгновение ока уйти страсть Иудову, ввергнув того в жуткую панику.
– И где же ты возьмёшь деньги? Разве у вас не общее имущество, или ты, Иуда, скрываешь от Иисуса часть доходов? А может, ты получаешь от кого-то жалованье за какие-нибудь тайные дела? Уж не доносчик ли ты? – спокойно и чуть насмешливо вдруг спросила Мария своего поклонника, заставив его тут же забыть о своих словах и всех тех обещаниях, которыми он буквально мгновение назад осыпал её.
Искариот замер, не зная, что ответить. Руки его, безвольно упали вниз, выпустив девушку из своих объятий, и повисли, словно две плети. Мой соглядатай представлял собой в тот миг весьма печальное зрелище.
– Что это с тобой случилось, Иуда? Куда подевалась твоя любовная страсть? Ты разлюбил меня? – вывел его из оцепенения повторный вопрос галилеянки.
– Нет! Нет! Что ты говоришь, Мария? Я так к слову сказал насчёт дома, я… я… а ты сразу доносчик… – начал оправдываться Иуда, стараясь унять в руках внезапно появившуюся дрожь, и оттого спрятав их за спиной.
– А куда же ты отведёшь тогда молодую жену? – вновь усмехнувшись, но теперь уже тихо и ласково спросила девушка, и опять Иуда оказался в полном смятении. Он часто заморгал глазами, не зная, что ответить, ибо не понимал, говорит ли сейчас Мария серьёзно или шутит. В это мгновение Иуда уже не был похож на того самоуверенного и благополучного человека, образ которого он так заботливо и долго лепил для себя. Теперь Искариот пребывал в полной растерянности, отчего даже как-то немного сник и побледнел. Девушка, увидев состояние Иуды, вдруг перестала злиться на него. Может, ей стало жалко уроженца Кериота, увидев того жалким и несчастным. Вполне вероятно, что она тогда подумала: «Ну не виноват же он в том, что любит меня!» Но только Мария вдруг улыбнулась и неожиданно сказала:
– Знаешь, Иуда, давай останемся друзьями. Я буду любить тебя как родного брата. Ты уж прости меня, но моё сердце принадлежит совсем другому человеку!
После этих слов юная красавица нежно погладила стоявшего соляным столбом Иуду по щеке, встала на цыпочки поцеловала его в лоб и убежала по едва заметной тропинке, ведущей в сторону Меджделя. Прошло совсем немного времени, но Иуда, обескураженный поведением девушки, пришёл в себя. Самообладание быстро вернулось к нему. Однако отказ, полученный от Марии, не только больно ударил Иуду по самолюбию, но спутал и нарушил все его тщательно продуманные планы.
«Значит, я тебе не подхожу? Тогда кто? Уж не сам ли Иисус является моим соперником? То-то я смотрю, он стал частенько отлучаться один. Нам говорит, что хочет поразмышлять в одиночестве, а сам, наверное, с Марией тайно встречается?» – недобро подумал Иуда, когда девушка уже скрылась из виду.
Он ещё недолго постоял на берегу озера, где получил отказ на своё предложение, и собирался уже продолжить свой путь в город, как неожиданно даже для самого себя громко крикнул вслед убежавшей красавице, будто она могла его услышать:
– Ну, это мы ещё посмотрим, кому ты будешь принадлежать? Я не отступлюсь и не уступлю тебя, Мария! Ни-ко-му! – Совершив столь необычный поступок, Иуда начал испуганно озираться, проверяя, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы стать невольным свидетелем не только его позора, но и тех слов, что прокричал он в припадке слабости. Однако повода для беспокойства не обнаружилось, вокруг всё было тихо и по-утреннему спокойно. Искариоту не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свой путь.
Он уже довольно далеко ушёл от берега и поднимался по крутой тропинке в гору, как чей-то незнакомый голос вдруг сказал ему:
– Ты, молодец, Иуда, что решил никому не отдавать Марию! За такую девушку можно и жизнь продать, но лучше не свою, а чужую!
Иуда мгновенно обернулся. За его спиной на берегу, откуда тропинка начинала подъём, стоял человек. Искариот был готов поклясться, что мгновение назад там никого не было и быть не могло, но, однако, человек тот окликнул его, назвав по имени. Иуда нисколько не испугался, хотя немного смутился, так как подумал, что этот незнакомец, вероятно, стал невольным свидетелем его объяснений с Марией, и теперь слухи с плетни о постигшей его неудаче могут разнестись по всей округе.
– Зря переживаешь, друг мой, Иуда! Я не собираюсь никому рассказывать об этом, как ты считаешь, позоре! – успокоил его человек, которого Искариот никогда до нынешнего дня не видел и не встречался с ним, в чём абсолютно был уверен. Его даже не удивил и не испугал тот факт, что незнакомец обратился к Иуде по имени. «Мало ли откуда он знает моё имя? – подумал тайный соглядатай, – может, где и видел меня, когда мы всей артелью приходили в какой-нибудь город или деревню? Ведь Иисус собирает много народу на свои проповеди!»
– Помоги мне подняться! – крикнул незнакомец и только сейчас Иуда заметил, что тот немного хромает и опирается на палку с красивым белым набалдашником. Искариот немного спустился вниз и подал руку. Незнакомец протянул свою трость, Иуда крепко схватил её, после чего прохожий, подтянувшись, ловко вскарабкался по крутому склону на ровное место, где и состоялся их дальнейший разговор. Кстати, если бы Искариота потом вдруг спросили: «Как выглядел тот твой собеседник?» – то ученику Иисуса пришлось бы долго морщить лоб, напрягать мозги, обдумывая, что же ответить. К вящему своему удивлению Иуда и вспомнить-то ничего не смог бы, кроме того, что незнакомец тот был высокого роста, правая бровь его, – а может левая? – немного вздёрнута вверх, да две большие вздутые жилы шли от самых бровей вверх по залысинам.
– Трудно тебе будет, Иуда, завоевать сердце девушки. Иисус ведь твой соперник. Она к нему весьма неравнодушна, если не сказать более…. И встречается с ним втайне от всех, – без всяких церемоний выпалил незнакомец, попав в самую больную точку моего соглядатая.
– А тебе-то что за дело до меня и Марии? Думаешь, я, и сам не разберусь во всём? – резко и немного грубовато ответил Иуда. Ему сразу не понравилось, что какой-то неизвестный прохожий только попросивший помочь, теперь, вместо того, чтобы поблагодарить, бесцеремонно вмешивается в его сердечные тайны.
– Не груби, Иуда! Я помочь хочу добрым советом, тем более ты ведь нисколько не хуже Иисуса. Работаешь много, за казну у них отвечаешь, кормишь всех, поишь, о ночлеге думаешь, так почему же тогда всё достается твоему, как все его называют, учителю: и почести, и слава, и любовь? Давно я наблюдаю за вашей артелью. Вроде все вы нормальные люди, но вот не могу только понять я твоего Иисуса, он сумасшедший что ли?… – Иуда молча слушал своего собеседника, и нужно сказать, ему были приятны признания совершенно незнакомым человеком его заслуг, в то время как собственные товарищи, с которыми он ходил по Галилее уже почти добрых три года, не особенно привечали Искариота.
От осознания этого на сердце Иуды стало тоскливо и обидно. А неизвестный советчик, будто чувствуя настроение своего собеседника, стал ещё более усердствовать и подливать масло в еле тлевший огонёк сомнений, начавшихся зарождаться в душе Иисусова ученика, дабы разросся бы тот во всепожирающее пламя зависти и мании собственного величия. Ну откуда было знать Иуде, что перед ним сейчас стоял самый опытный интриган, когда-либо рождавшийся на свете, который в совершенстве владел искусством навета и клеветы и который мог запросто опорочить любые идеалы и ниспровергнуть в глазах людей самого большого из всех существующих героев. Не ведомо было также Искариоту, что этот хромоногий незнакомец сам много лет назад, находясь на невиданной высоте, достигнуть которую обычному человеку было не мысленно и не возможно, рухнул вниз, стремительно и безвозвратно сброшенный с Олимпа власти, но, так и не признав себя побеждённым. Неизвестный же прохожий, дававший советы любимому ученику проповедника из Капернаума, прекрасно понимал, что любые появившиеся сомнения обязательно приведут к обиде, которая, превратившись в зависть, в конечном итоге породит ненависть. Незнакомец, видя, как чутко и понимающе внимал Иуда его речам, удовлетворённо улыбнулся и продолжил свои высказывания, более напоминавшие наставления опытного учителя.
– Ну, скажи мне честно, твой друг сумасшедший? Если нет, то ответь: почему вместо того, чтобы занять должность правителя города, которую твоему приятелю предлагали сами горожане, он сбежал в горы и целых две недели прятался в пещере, лишь бы только не стать начальником над людьми? Разве так смог бы поступить нормальный человек? – новый наставник, приободрённый молчанием Иуды, которое можно было принять за согласие с высказанными им мыслями, тем временем вдохновенно продолжал, – А деньги? Разве так можно относиться к деньгам? Вы все трудитесь, а он их раздаёт нищим. Хорошо, конечно, быть добрым и щедрым за чужой счёт. Нет, Иуда, думаю, Иисус занимает не своё, а твоё место. Что уж он такого умного сказал, что люди за ним толпами ходят? Да ничего особенного! Не будет твоего учителя, так ты вполне сможешь его заменить! Или я не прав, «Гончар»?
При упоминании имени, под которым уроженец Кериота был известен только мне, прокуратору, и моему помощнику, Иуда вздрогнул и с испугом посмотрел на странного незнакомца. Тот, не отводя взгляда, буравил Искариота своими тёмными, почти чёрными, казалось, безжизненными глазами, из которых сквозило могильным холодом. Тайный мой соглядатай неожиданно почувствовал сильное недомогание, в голове у него всё закружилось, и сердце его будто остановилось. Иуде даже почудилось, что он на мгновение умер. Еле шевеля языком, уроженец Кериота пробормотал: «Прав, конечно, ты прав!»
– Вот и хорошо! – довольно улыбаясь, незнакомец довольно сильно хлопнул собеседника по плечу, после чего Иуда сразу пришёл в себя. Он испугано вытаращил глаза на странного прохожего, а тот, чуть помедлив, добавил, – будешь меня слушать, и Мария станет твоей!
– А куда же денется Иисус? – находясь в полном недоумении от услышанного, спросил Иуда, вызвав своим вопросом у незнакомца приступ смеха.
– Так его же, учителя твоего, не будет! Вообще не будет! Тогда все деньги вашей артели перейдут к тебе, а вместо него ты выйдешь к людям и скажешь им своё слово, Иудино! Мария потоскует немного, но она молода, а в молодые годы печаль быстро уходит, и всё плохое забывается моментально.
Иуда, конечно, сразу понял мысль своего собеседника. Он был догадливым парнем, но мой тайный соглядатый специально тянул время, дабы серьёзно обдумать всё то, что услышал. Предложение незнакомца не напугало Искариота и не удивило, ибо он сам часто подумывал именно о том, что сейчас озвучил странный его советчик. Просто Иуда боялся признаться себе в этом, страшился высказать самому себе вслух заветное своё желание занять место учителя. Искариот давно понял, что Иисус совершенно не приспособлен к жизни, ибо не мог и, главное, не хотел воспользоваться благоприятным, подаренной самой судьбой, моментом, дабы положение почёта и уважения, которое выказывали ему люди, обратить бы себе на выгоду.
– К прокуратору идти бесполезно! – коротко бросил любимый ученик Иисуса.
– Я знаю, Иуда! Сам от него пострадал, как, впрочем, и ты! – после этих слов незнакомец обнажил свою грудь, на которой краснели два свежих, ещё не заживших, шрама как раз напротив сердца.
– К прокуратору идти и не надо! К первосвященнику следует обратиться! Ровно через неделю после полуночи придёшь к нему. Он будет в это время в Храме, конечно, не тебя ждать, но задержится. Предложение твое он примет. Некуда ему деваться.
– А если… – обернулся Иуда к собеседнику, но с удивлением обнаружил, что спрашивать уже было некого.
Искариот в растерянности огляделся, стараясь найти незнакомца, дабы имя его спросить, но только странный советчик пропал, причём также неожиданно, как и появился.
Вот уже незаметно пролетели для уроженца Кериота целых три года, как он находился рядом с проповедником из Капернаума, считая себя по праву первым его учеником. А ведь, промелькнувшие как один день, года не принесли Иуде ни славы, ни денег, ни почестей, но зато они стали для него временем его невзгод и печали, постоянных мучений и страданий. Однако, не смотря на тяготы и трудности кочевой жизни, не убежал любимый ученик от своего учителя, не скрылся, не покинул его, а остался, дабы навеки связать своё имя с Иисусом из Назарета. Вместе они переживали все гонения, что пришлось претерпеть им за долгие годы путешествий по земле Палестины, переходя из одного города в другой и ночуя под открытым небом, так как никогда не имели постоянной крыши над головой. Если же что и зарабатывали нелёгким своим ремеслом строителей, так всё по настоянию учителя отдавали нищим. Преданность и верность ученика по имени Иуда могли бы восхитить любого, кто услышал бы историю его жизни, ибо, не зная истинного положения, трудно было заподозрить Искариота в неблаговидных делах и поступках. И ничего удивительного, ведь тайну любимого ученика Иисуса знали только два человека во всей Иудее – я, римский прокуратор, и мой помощник, центурион Савл.
Искариот все эти долгие годы путешествий дорогами Палестины часто думал о своей судьбе, горькой и неудачной. Но прошло совсем немного времени, и ученик Назорея всё чаще стал мысленно благодарить меня, римского прокуратора, за то, что я заставил его, бедного уроженца захолустного городка, совершенно по-новому взглянуть на жизнь. Ведь раньше Иудой владели всё больше мысли о том, как бы и где побыстрее разбогатеть. Он и к бунтовщикам-то примкнул, надеясь на смутное время, а потому, занимаясь разбоем, рассчитывал, что с каким-нибудь мытарем могла находиться приличная сумма золотом или серебром. Идейным борцом против власти Рима Иуда себя никогда не считал, а тут ещё неожиданное задержание, о чем он как-то всерьёз не задумывался и даже не предполагал, какие последствия могут ожидать его за участие в мятежах и бунтах. Когда римские легионеры поставили Иуду в один ряд с заложниками, когда к его ногам рухнуло обезглавленное тело одного из пленников, когда он сам вдруг внезапно оказался на пороге смерти, в тот самый момент Искариот действительно был напуган, унижен и раздавлен. Поэтому из-за боязни умереть он принялся неистово убивать своих соплеменников. И только лишая их жизни, Иуда неожиданно для себя сделал вывод, что истинным и полным властителем Палестины являюсь именно я, римский наместник. Так же он ещё понял, что одного моего слова или жеста хватило бы для того, что бы растереть его, бедного уроженца Кериота, в пыль, втоптать в грязь, живым закопать в землю и даже четвертовать. Для Иуды в мгновение ока поменялись все жизненные принципы, ибо все его попытки разбогатеть оказались пустой и глупой суетой, не имеющей совершенно никакого смысла, если его жизнь и судьба зависела от чужой воли.
«Какая тогда польза от богатства, когда любой римский воин вправе схватить меня и подвергнуть наказанию, или даже убить?» – думал Иуда, и от этих мыслей на душе становилось ещё грустнее и тоскливее. Золото и серебро не представляли для него уже такой большой интерес, как прежде, ибо он внезапно согласился с неоспоримым фактом, который продемонстрировал ему я, прокуратор Иудеи, что богатство – это не главное условие для жизни. Но власть! Именно власть – вот та первая необходимость для человека, ибо у обладающего ею будут и моральное удовлетворение, и материальные блага.
– Что деньги? Они как пыль под ногами путника! Один сильный порыв ветра и нет ничего! Даже имея большие богатства, можно потерять их в одночасье, причём вместе с жизнью. Конечно, за деньги продаётся и покупается всё, и власть в том числе, но власть временная и какая-то ущербная. Власть и золото должны составлять единое целое. А для этого надо всего-то стать просто тетрархом, прокуратором, царём или кесарём. Но вот только как это осуществить? Как добраться до этой самой власти мне, бедному потомку Евера? Поднять восстание и встать во главе его? Но это опасно. Однажды мне уже пришлось увидеть, как римляне расправляются со своими врагами, – постоянно размышлял и разговаривал, спорил сам с собой Иуда.
Уроженец Кериота ни на минуту не забывал нашу первую встречу в Ивлеаме, ибо урок, что преподал я ему тогда, произвёл на него слишком уж большое впечатление. Страх, вначале охвативший несостоявшегося бунтаря, долго держал его в своих объятиях, но постепенно всё-таки покинул тайного моего соглядатая. А несколько месяцев спустя после того рокового для него свидания Иуда даже настолько осмелел, что наивно начал полагать: доведись ему ещё раз столкнуться со мной, то ни за что бы не испугался. Но это была лишь обычная бравада человека низких моральных качеств. Искариоту хотелось убедить самого себя, что давнишнее то предательство не являлось проявлением слабости или добровольным желанием, но стечением обстоятельств, загнавших в тупик и потому вынудивших его пойти на столь омерзительный поступок. Хотя он прекрасно понимал всю абсурдность своих предположений и оправданий, ибо страх его так и не ушёл навсегда, но затаился где-то в самой глубине души, готовый в любой момент вырваться наружу.
– Но прокуратор весьма далеко от Галилеи, – в который уже раз утешал сам себя Иуда, – деньги из казны он платит не малые, а потом жизнь очень изменчива. Глядишь, и я когда-нибудь стану большим начальником.
В Искариоте всегда боролись одновременно два весьма противоречивых чувства ко мне, римскому прокуратору: животный страх и восхищение. Причём преобладало скорее восхищение, ибо решительность, жестокость и безграничная власть моя над людьми заставляли трепетать его сердце при воспоминаниях о нашей первой встрече.
– Да-а-а! Вот это настоящая власть, когда свободно можно распоряжаться жизнями других, заведомо зная, что стоишь под охраной закона, – таков был окончательный вывод Иуды. Ему понравилось то самое чувство полной власти, когда он, хотя и был тогда не в праве помиловать заложников, и прекрасно понимал это, но зато мог безнаказанно забрать у них жизнь, радуясь про себя в тот миг своему мимолётному могуществу над человеком. Он не кривил душой, а потому и не боялся признаться самому себе о своих тайных помыслах. После той встречи, которая, обрушившись на него множеством впечатлений, закончилась довольно неожиданно, Иуда твёрдо решил, что бороться против римлян он больше никогда и ни за что не будет, но на сотрудничество с ними обязательно пойдёт, если это станет сулить ему хорошую выгоду.
Иуда пребывал в полной панике. Сегодня у него произошёл весьма неприятный разговор с Иисусом, и этот разговор его здорово напугал. Искариот уже давно начал замечать, что учитель, как называли Иисуса между собой все его ученики, чуть по-другому стал относиться к нему, как-то более прохладно, и настороженно, даже немного подозрительно.
Ради правды, однако, стоит признать, что Иуда всегда недолюбливал Иисуса, хотя тот и спас ему жизнь, но ведь не по собственной же воле уроженец Кериота стал учеником проповедника. Поначалу Иуда тяготился дальних переходов, однако, короткое время спустя, ему стало нравиться ходить с Иисусом по Галилейским городам и деревням. Было очень приятно видеть, как встречали Назорея люди, но ещё более ощущать на себе радость тех встреч, ибо часть почестей, что оказывались учителю, по справедливости, как считал Иуда, принадлежали и ему, ученику, первому среди всех. Но прошло всего полгода, и тайного моего соглядатая начала понемногу раздражать растущая изо дня в день известность проповедника. Особенно Иуду злило, когда местные жители, окружив Иисуса большой толпой, смотрели на него с надеждой в глазах, словно не человек был перед ними, а сам Бог. Они обращались к нему за помощью, радовались каким-то его, казалось бы, ничего не значащим, словам, верили обещаниям и уходили довольными радостными и счастливыми. С каждым днём внутри Искариота росло раздражение, что на него совершенно не обращают внимания, как будто он, Иуда, сам был из той же многочисленной и безликой толпы, которая собралась послушать очередные проповеди его учителя.
«Разве смог бы Иисус проповедовать, если бы все его мысли были заняты хлебом насущным? Вот то-то и оно», – думал ученик, немного завидуя и злясь оттого, что никто вокруг не понимал столь простых вещей, да и сам Иисус, казалось, видел в нём всего лишь простого своего сопутника.
Время летело быстро, и вскоре Назорей, его нищета и бескорыстие, которые поначалу удивили Иуду и даже чуть восхитили, стали понемногу раздражать ученика, вызывая тайную злобу. Надежды обрести с помощью проповедника вожделенную власть, замаячившую было на горизонте, вдруг рухнули, не оставив и следа. Поначалу Искариоту даже казалось, что вот оно – богатство, вот – власть, бери сразу всё, держи и не выпускай из рук. Простые люди готовы были носить Иисуса на руках и отдать ему всё, что бы тот ни попросил, но он ничего не просил и ничего не брал, и даже, напротив, отдавал сам. Иуда был обескуражен, он понять этого не мог, да и не хотел. Случай же, произошедший как-то в Кане, вообще изумил уроженца Кериота и вверг его в дикую ярость, которую он с трудом сумел тогда сдержать. Хотя ему в первое мгновение очень хотелось бросить всё и, захватив с собой артельные деньги, уехать из Галилеи подальше. Но куда мог убежать уроженец Кериота? Страх, что придётся отвечать перед прокуратором, не позволял Иуде совершить столь опрометчивый поступок, вот и приходилось ему терпеть сумасбродные выходки «дорогого» учителя. Даже сейчас, вспоминая той случай, Иуда скрипел от злости зубами и сжимал кулаки. Ну, где это было видано и слышано, чтобы для проведения свадьбы совершенно незнакомых людей человек тратил бы собственные деньги. А Иисус потратил. Мало того, что он приказал Иуде накупить вина и еды, так оставшиеся деньги просто взял и подарил молодой семье, не думая о том, на какие средства им двоим, ему и Иуде, жить дальше.
– Ничего, брат, – весело и беззаботно рассмеялся тогда Назорей, сидя за свадебным столом, – мы с тобой ещё заработаем. Ведь наши руки умеют трудиться, а, значит, не пропадём!
Постепенно уроженца Кериота стало раздражать в Иисусе абсолютно всё, но он терпел. Сейчас Иуда уже ни за что не покинул бы учителя, даже если бы имел на то разрешение от прокуратора. И ничего странного и необычного в этом желании не было, не даром ведь Иуда прослыл хитрым и ушлым человеком. С самых первых дней, находясь рядом с учителем, он почувствовал, что Иисус именно тот человек, с которым можно было бы добиться желаемой власти, а ведь мысли о ней никогда не покидали Искариота.
Уверенность Иуды в правильности своего предположения особенно укрепилась в нём после того, как они впервые посетили главный город Иудеи. Тогда Иисус собрал на городской площади Иерусалима большую толпу и двинулся к Храму, где разгромил торговые лотки и повыгонял всех менял на улицу. Иуда был очень удивлён, поражён, восхищён, что их не только никто не задержал, но, напротив, простые люди даже поддержали действия Иисуса. Горожане, бедные и богатые, громко и яростно кричали, мол, было бы неплохо выгнать и самого первосвященника, который превратил святое место в свой собственный базар. Иуда спросил тогда: «Иисус, ты никогда не думал, что можешь стать правителем, например, Иудеи, или другой области, ну скажем Галилеи, или вообще царём Израильским? Тебя народ очень любит, я бы сказал, боготворит. Никто не посмеет выступить против, если люди захотят видеть тебя царём своим, как это было с Давидом». Уроженец Кериота говорил эти слова вполне искренне и был готов услышать длинные рассуждения, даже отказ, ибо успел за то короткое время, что ходил с Иисусом, довольно хорошо, как ему казалось, изучить своего учителя. Однако ответ проповедника сразил Иуду наповал. Именно после этого Искариот вдруг совершенно отчётливо понял, что характер Иисуса, логика его поведения, ход мыслей остались для него неразгаданной тайной.
– Я не хочу быть царём, Иуда! Зачем мне это? – удивлённо и вместе с тем твёрдо ответил тогда Иисус на вопрос своего ученика.
– Как зачем? – опешил Иуда, ибо ответ учителя рассердил первого ученика. Иисус буквально поразил уроженца Кериота какой-то своей детской наивностью, вернее было бы даже сказать глупостью. – Как зачем? – машинально повторил вопрос Иуда, немного растерявшись от услышанных слов, – а власть? Разве ты никогда не думал о власти?
– О власти?… – переспросил учитель, чуть задумавшись, – а для чего она мне, власть? – усмехнувшись, спросил Иисус.
– Власть для чего? – непонятно кому задал вопрос Иуда, искренне пребывая в полном недоумении оттого, что учитель, казавшийся ему всегда таким умным и мудрым, не понимал, кажется, элементарных вещей. – Власть для чего? Ну, чтобы тебя все слушались, шли за тобой! – уроженец Кериота находился сейчас в таком состоянии, что сразу не нашёлся, как бы ему точнее выразить свою мысль, для чего же нужна человеку власть. Он немного помялся, осторожно взглянул на Иисуса, не хитрит ли тот, не проверяет ли его, и, поняв, что тот действительно говорит от чистого сердца, решился, наконец, высказать свою сакраментальную мечту, выстраданную за все эти долгие годы хождения и бродяжничества по стране.
– Власть нужна, чтобы безбедно жить. Мы с тобой станем богатыми, Иисус! Ну, как можно не понимать таких простых вещей!? – быстро проговорил Иуда, не обращая внимания на то, что в его голосе вдруг появились назидательные, поучительные нотки, которых раньше явно никогда не замечалось.
– Ничего-то ты не понял, друг мой, Иуда! Я живу не для услады своих желаний и похотей. Мой Бог не золотой телец! Не собирай себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Мы с тобой Иуда нищие, потому и сильны духом своим и мыслями своими, оттого и счастливы будем! Может, ты поторопился, Иуда, пойдя вслед за мной? Если ты решишь когда-нибудь уйти от меня, я не обижусь.
Спорить Иуда тогда не стал, он вдруг заволновался, как бы не прогнал его проповедник за такие слова, но мысли свои и мечты не оставил, затаил в себе.
«Да, я, оказывается, всё это время ошибался!? Значит, все мои планы призрачны и несбыточны. А все страдания, что перенёс я вместе с Иисусом, напрасны!? – с горечью в сердце констатировал Иуда. Ведь именно после услышанного ответа в душе моего соглядатая зародилось вначале недовольство, некоторое время спустя перешедшее в злобу и породившее затем в его мозгу коварный план. – Ладно, подождём! Время ещё не пришло моё, – размышлял уроженец Кериота, – но я обязательно что-нибудь придумаю. Удивительно только, почему народ идёт за Иисусом? Почему я не на его месте? Уж я бы…»
Сожалел про себя Иуда, шагая за своим учителем, которого тогда ещё не собирался продавать за деньги первосвященнику Каиафе. И случился тот их разговор года два с половиной назад, а может и больше. Искариот даже забыл о нём, да только сегодня вдруг вспомнил, а, вспомнив, очень испугался, ибо никогда ему ещё не приходилось видеть Иисуса таким разгневанным.
«Выгонит, так вообще все планы рухнут и не видать мне ни важных должностей тогда, ни денег! – находясь в полном замешательстве, подумал Иуда. – Откуда же тогда ветер дует? Чего вдруг Иисус так на меня взъелся? Наверняка, это всё наветы моих недругов и завистников, братьев Заведеевых. Они давно хотят забрать у меня общую кассу. Да и этот необразованный рыбарь по прозвищу Кифа, что старается стать любимчиком, также подбивает всех против меня. А женоподобный Иоанн, бывший ученик Пустынника? Быстро же он переметнулся от одного учителя к другому. Как только над первым его покровителем стали сгущаться тучи, так он сразу перебежал к Иисусу. Тоже умник нашёлся!.. А Иисус, конечно, послушал их…»
Иуда не ошибался в своих предположениях насчёт жалоб на него других учеников, но только прав он был отчасти. Об одном Искариот не знал и не ведал, как буквально пару дней назад, когда братья Заведеевы обрушились на отсутствовавшего по делам Иуду с разными обвинениями, Иисус только усмехнулся и даже не стал выслушивать до конца то, что нашептывали ему рыбари.
– Прекратите ссориться! Я давно знаю Иуду. Его чуть, было, не казнили римляне. Да, у него характер неуживчивый, но он честный человек, добрый и отзывчивый. Иуда искренне любит меня, и я люблю его. К тому же вы не знаете, что связывает нас, поэтому не будем более возвращаться к этому разговору. Между нами в общине не должно быть никакой неприязни. Кому будет польза оттого, что мы все переругаемся? К тому же, братья, нельзя жаловаться на человека, когда его нет, и он не может ответить на ваши обвинения. Не судите попусту, дабы самим не оказаться осуждёнными… – назидательно сказал он братьям из Вифсаиды. Но не знал ничего об этих словах Иуда, а потому с замиранием сердца взглянул на Иисуса, который присел рядом с ним на придорожный камень. Они как раз всей своей артелью направлялись в Иерусалим на праздник пасхи. Уроженец Кериота специально отстал от всех, так как сделал вид, что немного утомился, неся через плечо тяжёлый ящик с казёнными деньгами. Не хотелось ему что-то идти вместе со всеми, так как засела в его душе острая обида на других учеников. Иисус, увидев тогда, что Иуда идёт далеко позади всех, остановился, сказал спутникам, чтобы те шли вперёд и не ждали его, а сам двинулся к казначею, который, присев на краю дороги, отдыхал.
«Каждый день едят и пьют, даже не спрашивая, где я достаю деньги? Они, наверное, думают, что сыр растёт на деревьях, и вино берётся из родников!» – язвительно думал Искариот.
– Знаешь, Иуда, – начал с ним Иисус разговор, – в мире у человека есть три самых заклятых врага, которые стремятся полностью подчинить его своей власти. Они постоянно в течение всей жизни преследуют нас. Бороться с ними трудно, но бороться надо, дабы уничтожать их беспощадно, иначе они полностью овладеют нашими душами.
– И какие же эти враги, учитель? – усмехнувшись про себя, но, задав свой вопрос совершенно серьёзно, спокойно, широко открытыми глазами посмотрел Иуда на проповедника.
– А ты сам не догадываешься?
– Нет! – последовал краткий ответ тайного моего соглядатая. Иуда ещё раз взглянул в глаза учителя и неожиданно даже для самого себя понял, что тот догадался обо всех его тайных мыслях, планах и делах. Уроженец Кериота так явно это почувствовал, что даже испугался. Ему вдруг захотелось вскочить на ноги, бросить ящик с общими деньгами и убежать сей же миг, куда-нибудь, не разбирая дороги, как это сделал однажды, убегая от меня, римского прокуратора, но сдержался.
«Ничего Иисус не знает! Показалось, должно быть?!» – неимоверными усилиями Иуда унял свою внезапно возникшую панику и заставил себя успокоиться. Искариот спокойно сидел на камне и ждал, что же скажет учитель, а тот молчал. Пауза затягивалась, и никто не хотел, видимо, прерывать её.
«А ведь он своим молчанием как бы даёт мне возможность признаться? Или согласиться с его доводами? Нет, ерунда! Это мои фантазии!» – размышлял тем временем про себя Иуда.
– Хорошо, – прервал, наконец, затянувшееся молчание Иисус, – если ты не знаешь, то я назову тебе трёх главных врагом, коих стоит опасаться более всего, ибо они съедают человека изнутри, губя душу его, но не тело. Это – жадность, себялюбие и богатство. А первейший враг из трёх – жадность, ибо она никогда не существует в одиночестве. Есть у неё родная сестра, которая зовётся завистью. Вот они-то как раз, жадность и зависть, готовы заставить человека пойти на предательство и подлость, предаться похоти и соблазнам, испепелить человеческую душу, спалить её огнём алчности и корысти. Пороки всегда с лёгкостью овладевают людьми слабыми духом, ибо те сами готовы с головой броситься в пагубные влечения, ведь за них не надо ежедневно бороться, страдать и обделять себя чем-то, но только получать удовольствие. Скажи мне, Иуда, разве можно бороться за праздность и леность, за воровство и подкуп, за ложь и обман, за подлость и коварство, за похоть и разврат? Конечно же, нет! Ведь эти пороки всегда ждут желающих добровольно обмануться собственными тайными помыслами, выдаваемыми за добродетель, когда кривду почитают за истину, а воровство – за рачительность и ум. Только человеческая жадность порождает в людях стремление к богатству. Только жадность делает человека рабом земных благ, добившись которых он хочет ещё большего, властвовать над другими людьми, ведь именно власть является источником благополучия. А что власть без денег? И что делать, коли, все помыслы только о том, как сохранить и преумножить богатства? И вновь начинает поедать человека жадность, перерастающая в страх потерять всё, что накоплено, а страх тот порождает ненависть ко всем окружающим людям, которые по его разумению, завидуют ему, а потому и мечтают забрать у него то, что он имеет. Так и становится человек себялюбцем, считающим себя самым умным или, напротив, незаконно обиженным. Не будет такой человек признавать никаких святынь, и не будет иметь твёрдой веры, ибо живёт только сам для себя и сам для себя он и бог, и кесарь. Но пусть тогда попробует богач объяснить бедняку, как хорошо жить в нужде и видеть голодными своих детей, но при этом трудясь в поте лица на хозяина. А ведь о радости труда, как раз громче всех кричит именно тот, кто сам особенно себя не утруждает. Разве я не прав, Иуда?
– Иисус, но нельзя ведь жить, полностью отказавшись от всего земного? – невольно воскликнул ученик.
– А я и не требую, чтобы люди отказались от всего земного. Мне не нужно всеобщей нищеты и равенства в ней, но заботу о каждом ближнем своём имею в сердце. Не работающий, да не ест! Разве мы с тобой, Иуда, не трудимся до кровавых мозолей на ладонях наших? Я – плотник, ты – гончар! А когда мы пришли на Галилейское море, разве не кормили нас наши братья, кто рыболовством промышлял там? Я не требую от всех вас отречения от мирской жизни, но коли вы пошли за мной, то будьте готовы в решающий момент отказаться ото всего во имя общего дела, которому подвязались служить. Крепко запомни, Иуда, слова мои. Вера не всякому дана, но всякому совестью его дано быть правдивым и честным, смелым и отважным, даже если его поедает страх быть убитым. Человек всегда имеет свободу выбора, как прожить ему жизнь свою. Вот и ты, Иуда, выбирай одно из двух: совесть или богатство, душу или тело, самопожертвование или себялюбие, истину или ложь, милосердие или жестокость, щедрость или корысть, излишество или воздержание, терпимость или ненависть, добро или зло, братство или рабство, справедливость или беззаконие, терпимость или наказание. Эти человеческие качества никогда не смогут ужиться вместе. Ты должен это чётко уяснить для себя, Иуда, если хочешь остаться со мной.
– А что собственно случилось, учитель? Почему ты так строг ко мне, Иисус? Не понимаю…
– Никогда!!! Ты слышишь, Иуда? Ни-ког-да не смей брать деньги за то, что я помогаю людям, врачую их, исцеляю от недугов и болезней, ибо твой поступок порождает у людей сомнения в нашей честности, искренности и бескорыстности. Если ты ещё раз посмеешь взять у кого-нибудь хотя бы одну лепту, я изгоню тебя из нашей общины! – твёрдо заявил Иисус и замолчал. Иуда пребывал в смятении. Он не знал, что отвечать, ибо был раздавлен, напуган, унижен. Давно Иуда не испытывал таких чувств, пожалуй, с последней своей встречи с моим помощником, центурионом Савлом.
– Прости Иисус, но я хотел, как лучше, – решил повиниться ученик в своём проступке, дабы быть прощённым. – Но ведь нам надо как-то жить и чем-то питаться. Кроме меня и тебя сейчас никто не зарабатывает. Рыбакам здесь нечего ловить. Моря нет! Я каждый день мучаюсь над тем, где и как найти нам пропитание на день грядущий, – с небольшой обидой в голосе, опустив глаза, смиренно произнёс Иуда. Но голова его сейчас были занята совершенно другими мыслями. Он думал о том, что надо немедленно действовать, иначе выгодный момент будет упущен. Других путей, как стать господином, Иуда просто не видел. Он вцепился в свою идею крепко, как паук в попавшуюся в его сети жертву. План верного ученика был до гениальности прост. Искариот видел, как встречали Иисуса простые люди, когда они впервые приходили в Иерусалим. Тогда это был полный триумф учителя.
«Уговорить, мне, конечно, Иисуса никогда не удастся. Особенно сейчас, после столь тяжёлого разговора. Ещё, чего доброго, и впрямь выгонит! Если бы он не был таким упрямым и глупым, да с его-то искусством проповедовать, пророчествовать, врачевать, завоёвывать симпатии людей мы смогли бы перевернуть весь мир. Даже страшно подумать, кем бы мы могли стать. И почему Господь выбрал его, а не меня? Не справедливо! Надо постараться как-то столкнуть Иисуса с прокуратором или первосвященником…. Пусть они задержат его. Ну, я-то в любом случае буду в выигрыше. Ведь первосвященник всегда щедро отблагодарит меня за помощь, вполне возможно, и место выгодное предложит?» – таков был первый вариант Искариотова плана. Но по второй его мысли народ должен был заволноваться, подняться, встать на дыбы, как только храмовые стражники схватят Иисуса и бросят его в темницу. Бунт, восстание, мятеж! Если Иисус победит, то Иуда, как верный его ученик и освободитель учителя, будет ходить в победителях.
«Чего доброго и главным казначеем стану при царе Иисусе, которого народ возведёт на трон израильский. В случае же поражения я просто останусь в стороне», – размышлял Искариот, рисуя в своём воображении картины одну краше другой.
– Прости меня, Иисус, прости! Сегодня же все деньги, что получил, раздам нищим и бедным. Мы вместе три года, и я всегда был верным твоим учеником, им останусь до конца жизни. К тому же, ты спас меня… – быстро заговорил Иуда, радуясь про себя своему тайному плану, в успехе которого он даже не сомневался.
В трёх стадиях к востоку от Храма находилась Масличная гора. Поросшая фруктовыми деревьями, утопавшая в оливковых рощах, гранатовых садах и зарослях финиковых пальм она по праву считалась самым красивым местом среди каменистых и пустынных окрестностей Иерусалима. Два огромных кедра росли на вершине горы. Их можно было увидеть, находясь ещё далеко от города. Обычно паломники или путешественники, заприметив эти две высокие зелёные пирамиды, начинали радоваться, так как до городских ворот оставалось идти совсем не долго.
Масличная гора была любимым местом отдыха путников. Кедровые ветви, густые и тяжёлые давали прохладу в летнюю жару утомлённым дальним переходам людям и потому пожелавшим отдохнуть под сенью деревьев-великанов. Они укрывали от холода и дождей всех тех, кто прятался под хвойными лапами в дождь и ненастье. Может быть, поэтому около этих вековых кедров местные жители устраивали базары, весело торгуясь, покупая, продавая и радуясь удачной сделке. Масличная гора жила своей собственной и особенной жизнью.
Был четверг. Смеркалось. Весенний вечер обещал тёплую ночь. Приближался праздник, и благочестивые горожане готовились к нему, поэтому на улицах Иерусалима, несмотря на ещё раннее время, было на удивление тихо и пустынно.
С Храмовой горы раздался звук трубы, призывавшей правоверных иудеев вознести вечернюю молитву Всевышнему. Именно в это время на внутренней части двора первосвященника Каиафы начал собираться большой отряд вооружённых людей. В нём насчитывалось человек двадцать, а то и тридцать. Это была храмовая стража. Построившись в колонну, отряд через потайную калитку покинул двор дома главного жреца.
Впереди храмовой стражи шли двое. Один из них так тщательно кутался в свой длинный плащ, что его лицо невозможно было увидеть, а тем более узнать. Выдать же укрывшегося от чужого взгляда человека могли только чуть навыкате глаза, изредка поблескивавшие в сумерках наступавшей ночи. Опознать, конечно, его могли только в том случае, если бы он нос к носу столкнулся на улице с кем-нибудь из своих хороших знакомых, но никто из таковых среди случайных прохожих ему не попался. Второй же человек, шедший в главе отряда, лица своего не скрывал, ибо являлся начальником храмовой стражи, а потому был хорошо известен всем горожанам. Вооруженные люди шли молча и быстро. Факелы не зажигали. Двое, что находились впереди отряда, о чём-то тихо между собой переговаривались.
– Малх, – разгорячёно шептал один, – когда придём в Гефсиманский сад, вы чуть приотстаньте от меня и укройтесь за кустами. После вечерней трапезы мой учитель решил не ходить в деревню, а заночевать в саду около костра. «Ночи, – говорит, – тёплые! Нечего, мол, в духоте спать». Они все уже там, – махнул рукой в сторону Масличной горы, укутанный с ног до головы в плащ, человек, – я, значит, подойду только к нему, поздравлю с наступающим праздником и, как это водится, поцелую его в щёку. Вы ведь в лицо-то моего учителя не знаете? А если и видели издали или однажды, то можете и не признать в темноте. Так вот, этот поцелуй будет знаком моим, а для вас сигналом. Вы тут же выскакиваете из своей засады и хватаете его. Если сегодня не схватите его, то, завтра он будет ночевать в Вифании или в каком другом месте, а после пасхи вообще покинет Иерусалим, и не известно, когда снова придёт в город. Сегодня самый удобный момент, чтобы разделаться с ним.
– А там ещё кто-нибудь будет, кроме него? – спросил также шёпотом Малх, начальник храмовой стражи. Волнение проводника невольно передалось и ему.
– Да! Человек десять, ну от силы двенадцать. Только они же ведь не воины! Так! Рыбаки простые да ремесленники. Драться не будут, не умеют, да просто испугаются и разбегутся от первого появления стражников. Кто-то может и попытается его защитить, но с ними церемониться особенно не надо. Да, и меня, главное, не забудь, по голове что ли, ударить!?
– В этом можешь не сомневаться. Ударю!
– Только не особенно старайся! Сильно не бей! А то… – говоривший бросил взгляд на свою правую руку, на которой отсутствовали два пальца. Однажды его аналогичная просьба уже была выполнена, но закончилась для него она весьма трагично.
«Правда, то был прокуратор, а это обычный слуга, но вдруг перестарается?» – озабоченно думал Иуда, опасливо поглядывая на большие и сильные руки Малха.
Настроение уроженца Кериота в тот момент было необычайно прекрасным. Ему удалось уговорить Иисуса не оставаться в Вифании в доме Симона, а провести ночь в Гефсиманском саду около костра.
– Учитель, – обратился вкрадчивым голосом утром в четверг к проповеднику его любимый ученик, – и зачем нам спать в сарае на прошлогодней соломе, где полно блох, которые кусаются и не дадут нормально отдохнуть. Сейчас стоят хорошие ночи, хотя и прохладные, но у костра будет даже приятно ощутить свежесть весеннего воздуха. Давай переночуем в Гефсиманском саду. Я знаю там одну прекрасную тихую поляну, очень уютную. Пойдём, проведём там ночь, а понравится, и пасхальный ужин накроем там же на поляне.
Иисус тогда ничего не заподозрил и с радостью согласился с предложением своего друга Иуды. Правда, Искариот думал, что учитель будет один, но следом за ним увязались и другие его ученики. Это поначалу немного испугало Иуду, справится ли храмовая стража с рыбаками и прочими сопутниками Иисуса, но, увидев вооружённых людей, тревога его быстро улетучилась. Поэтому и шагал нынешним вечером тайный мой соглядатай в хорошем расположении духа, думая лишь об одном, как бы Малх не разбил ему голову на самом деле.
Если бы Искариота в тот вечер спросили: «Для чего ты, Иуда, ведёшь слуг первосвященника в сад? Решил предать своего друга и спасителя?». Иуда ответил бы, не задумываясь: «Я хочу сделать Иисуса царём, чтобы самому потом стать правителем Иудеи». Вот поэтому верный ученик и попросил Малха ударить его слегка по голове, дабы до конца остаться со своим учителем, а не убежать, как другие. Искариот продумал до мелочей, как вести ему себя в момент задержания учителя. В том, что все разбегутся, Иуда не нисколько сомневался, вот он и решил показать свою драку со стражниками, не щадя сил и самой жизни. Иисус должен увидеть, как не повезёт Искариоту в этой стычке, как падёт он, рухнет на землю без чувств от первого же удара по голове к ногам своего учителя, не в силах защитить его. Иуда всё рассчитал, тонко продумал, рассудительно и тщательно, не занимать было моему тайному соглядатаю хладнокровия и вероломства. Вот и сейчас, ведя отряд храмовой стражи в сад, он от удовольствия предстоящего успеха потирал руки, так уж сильно понравился ему план, им же придуманный. Иуда уже мнил себя большим человеком, да вот только не учёл он всей хитрости и коварства первосвященника Иерусалимского храма, Иосифа Каиафы.
Сумерки начинали сгущаться, когда храмовые стражники достигли сада, где по заверениям Иуды должен был провести ночь проповедник из Капернаума. На удивление Искариота всё прошло прекрасно и быстро. Как и предполагал мой тайный соглядатай, все ученики, кто был тогда с Иисусом, в панике разбежались в разные стороны, оставив учителя один на один с отрядом вооружённых стражников. Никто из общинников не только не оказал ни малейшего сопротивления, но даже не попытался изобразить хоть какую-то попытку защитить своего учителя, напротив, ученики Иисуса после того, как на поляне появились стражники, в одно мгновение ока растворились в сумраке наступившей ночи. Иуда же блестяще, даже можно сказать, мастерски сыграл роль пострадавшего. Взмахнув руками и громко бессвязно что-то крикнув, он мешком упал на землю и затаился, держась за голову, как бы закрывая «тяжёлую» рану. Во время падения хитрый ученик раздавил в руке рыбий пузырь, загодя предусмотрительно заполненный кровью молодого барашка, которая обильно залила всё его лицо. Лёжа на траве, Искариот сквозь прищуренные веки видел, как бросились врассыпную бывшие рыбаки, и только одна Мария, что на озере отвергла его предложение, яростно принялась защищать своего Иисуса. Она обеими руками вцепилась в волосы одного из храмовых стражников и стала рвать их, одновременно отбиваясь ногами от других нападавших, громко крича и взывая о помощи. Девушку с большим трудом удалось утихомирить, связать, но и со связанными руками она умудрялась оказывать сопротивление и продолжать звать по имени убежавших учеников проповедника, дабы те освободили бы своего учителя. Но в Гефсиманском саду было тихо, словно он находился в пустыне, а не в окрестностях Иерусалима. К вящему удивлению Иуды, никто не прибежал на помощь. Это даже немного обеспокоило Искариота и насторожило.
«Ну, ничего, ведь сейчас уже ночь! Люди ещё не знают, что Иисуса схватили. Вот, завтра, когда наступит утро, горожане целыми толпами придут на площадь, чтобы потребовать от властей освободить проповедника и вместе с ним его, Иуду!» – размышлял «верный» ученик, бредя в полной темноте в хвосте отряда, который сопровождал его учителя в дом первосвященника. Уроженец Кериота делал всё, дабы никто не заподозрил бы его в том, что именно он приложил свою руку к задержанию Иисуса. Да только в тот момент не мог знать любимый ученик, что толпа, которая по его замыслу должна была бы завтра собраться ради Назорея, действительно соберётся, но то будет совсем другая толпа, и не в поддержку Иисуса, а для распятия его. Не учёл Иуда тогда одного, что первосвященник Каиафа поставил на кон слишком много, и, будучи весьма предусмотрительным и мудрым человеком, сумел заблаговременно просчитывать все свои предстоящие действия, дабы не испить горькую чашу поражения.
Тем временем, вооружённый отряд храмовой стражи, миновав долину Кедрон и пройдя воротами Источника, вернулся из Гефсиманского сада на Западный холм Иерусалима. Оттуда стражники повернули направо и через купальни Силоам двинулись в сторону дома главного жреца Иудеи, где всё уже было готово для первого допроса и ночного суда…
Иуда сидел на полу в маленькой каморке, куда его проводил слуга, и ждал. Он вновь пришёл к первосвященнику с новым предложением. Ещё в саду, когда начальник стражи и его люди с такой лёгкостью схватили Иисуса, и затем уже чуть позже, когда закованного в кандалы проповедника вели через город, Искариота посетили первые сомнения в реальности задуманного им плана. Он ведь надеялся на поддержку людей, а никто из случайно встреченных прохожих не только не посочувствовал Назорею, но даже, напротив, бросали вслед тому обидные слова и грязные ругательства, призывая храмовников побить пленника камнями тут же на месте. И вспомнились вдруг бывшему ученику слова Иисуса, сказанные им накануне сегодняшнего, как оказалось, последнего ужина, когда учитель, преломив хлеб и разлив вино, тихо так, чтобы вроде как услышал один только Иуда, проронил: «Иерусалим всегда был враждебен мне и нынешней ночью останется таковым. Но не стоит бояться убивающих тело, ибо они не властны над душой». Правда, мой соглядатай даже виду не подал, что расслышал эти последние слова своего учителя, произнесённые, конечно же, исключительно для него, Иуды.
По мере приближения бывшего ученика к дому первосвященника в нём всё более росла уверенность, что его красиво придуманным планам так и не суждено сбыться.
«Да, план мой летит к чёрту!» – с горечью подумал Иуда, увидев вокруг дома Каиафы, большое количество народа. Слуги толпились у ворот и на улице, ожидая, когда отряд прошествует внутрь двора.
– Это тогда, пару лет назад, Иисусу удалось так легко повыгонять всех торговцев из Храма потому, что земляков вокруг было много, они и поддержали его. Сейчас же первосвященник предусмотрел все мелочи.
Тайный мой соглядатай не был столь наивным человеком, чтобы не догадаться, для чего главный жрец собрал так много своих слуг, рабов и прочей челяди. Именно здесь, перед балконом первосвященника, Иуда окончательно понял, что его амбициозные претензии на достойное положение в израильском обществе призрачны и абсурдны. Он не мог один противостоять всей мощи и силе государственной машины, возглавляемой первосвященником Каиафой, ибо не обладал теми возможностями, что находились в руках главного жреца Иудеи.
«Химера! Мираж! Заблуждение! Проклятый жрец выиграл, и сомнений в этом нет! – у Иуды от обиды даже выступили на глазах слёзы. – Попробую тогда, хотя бы перед тем, как уйти отсюда, заработать несколько монет», – подумал Искариот и решительно направился во внутренний двор дома первосвященника вслед за прошествовавшим туда отрядом храмовников.
Прошло немало времени, а Искариот всё ещё сидел в каморке в полном одиночестве, вспоминая события прошедшего вечера. Судя по давно взошедшей луне, приближалась полночь. Иуде надоело ждать и он уже, было, собирался встать и уйти, как дверь тихо заскрипела, и на пороге появился первосвященник Каиафа. Он пребывал в прекрасном расположении духа. Это было не удивительно, ведь дела его шли просто чудесно: самозванец схвачен, приговор фактически утверждён, оставалось только дождаться завтрашнего, вернее уже сегодняшнего суда. Хотя главный жрец считал предстоящее заседание Синедриона пустой формальностью, но готовился к нему очень основательно, дабы не возникли бы какие-либо непредвиденные обстоятельства, из-за которых блестяще разыгранный спектакль мог бы сорваться.
– Ты сполна получил деньги! Что хочешь ещё? – грубо спросил Каиафа посетителя. Первосвященник больше не был заинтересован в Иуде, а потому вопрос его прозвучал с чуть презрительными и высокомерными нотками в голосе, как бы демонстрируя, что в услугах бывшего ученика проповедника больше никто не нуждается. Но Искариот не обиделся на такой заносчивый тон жреца, так как даже не обратил на него совершенно никакого внимания. Иуда прекрасно знал, что от его нового предложения этот надменный священник не сможет отказаться, хотя и покуражится немного.
Мой тайный соглядатай оказался совершенно прав.
– Я могу выступить на завтрашнем суде в качестве свидетеля, – спокойно сказал жрецу Иуда.
– А мне свидетель и не нужен! – довольно опрометчиво ответил Каиафа. У первосвященника уже заранее были подготовлены два человека, которых он долго и старательно обучал, как и что следует им говорить на заседании Синедриона в пятницу.
– Те, что ты подговорил, будут полными глупцами, если согласятся выступать. Они запутаются в показаниях и загубят всё дело, – проговорил Иуда, внутренним своим чутьём догадавшись, что Каиафа имеет обученных людей. В прозорливости моему соглядатаю было трудно отказать, он правильно угадал намерения главного жреца: «Наверняка кого-нибудь подготовил из своей челяди, чтобы те дали против Иисуса ложные показания. Вот потому-то первосвященник так быстро и отказался от моих услуг», – подумал про себя Искариот, но мысли эти вслух высказывать не стал.
– Хорошо, Каиафа, но смотри, как бы тебе не проиграть! Дело-то ведь серьёзное, – только и успел проговорить он, вставая со своего места и делая вид, что собирается покинуть негостеприимный дом главного жреца, но громкий голос первосвященника остановил его.
– Сколько хочешь? – последовал его короткий вопрос.
– Сто монет серебром! – так же коротко ответил Искариот. Наступило долгое молчание. Первосвященник мучительно раздумывал над предложением вновь нежданного и неожиданного помощника, назначившего весьма высокую цену за свою услугу. Ему было жаль платить столь большую сумму, но, подумав над всем тем, что сказал Иуда, Каиафа вдруг испугался: «А что, если действительно так удачно начатое дело из-за того, что я пожалею сто монет, рухнет?» Первосвященника вдруг бросило в жар от внезапно пришедшей к нему ужасной мысли о том, что, если он не даст денег, то тщательно продуманный план может потерпеть полный крах, который станет его вечным позором. «И тогда ведь нельзя будет убрать этого проклятого римлянина, и отстоять свою веру. А разве уничтожение самозванного посланца Божьего, физические его мучения в назидание другим не укрепят мой авторитет, как главного блюстителя Закона и непререкаемого толкователя святого Завета?» – лихорадочно соображал Каиафа. Ведь сколько раз длинными, бессонными ночами мечтал он, как расправится со всеми своими врагами, дабы самому стать мессией или отцом мессии и основать новую династию правителей Иудеи, связанную родством с самим Господом. Вспоминая сейчас самые свои сокровенные желания, первосвященника даже как-то всего чуть передёрнуло от смелости собственной мысли и прошибло в холодный пот. Подумав ещё чуть-чуть, он решил дать деньги бывшему ученику Иисуса.
– Согласен! – прозвучало в тишине одно слово, и на пол рядом с Иудой тяжело упал тугой кожаный кошелёк. – Не считай! Не на базаре!
– Но у меня есть одно условие, – начал Искариот, но его строгим голосом перебил первосвященник.
– Хорошо! Свидетельствовать станешь из-за перегородки. Лица твоего никто не увидит. Ступай!
Каиафа повернулся спиной к Иуде, давая понять, что их разговор закончен, но ученик, выдавший своего учителя, не торопился уходить.
– Что ещё? – недовольно спросил жрец.
– Насчёт перегородки это ты хорошо придумал, Каиафа. Я как раз хотел попросить, чтобы мне разрешили давать показания, не объявляя себя. Но это было моё первое условие, а есть ещё второе, – нагло ухмыляясь, сказал Иуда.
– Какое ещё второе условие? – начиная злиться на своего собеседника, спросил Каиафа. – Может, хватит условий? Или ты решил разорить храмовую казну? Если…
– Не о деньгах речь, первосвященник, – перебил Иуда жреца, не дожидаясь его ответа. – Мне хотелось бы увидеть Иисуса перед тем, как его осудит Синедрион.
– Зачем тебе это? – Каиафа был искренне удивлён просьбой Искариота, ибо полагал, что речь вновь пойдёт о деньгах.
– Моё дело! Но только тогда выступлю в суде! – резко и довольно грубо ответил Иуда.
– Но его сейчас отведут в крепость Антония. Слишком уж велика ответственность, держать у себя дома столь опасного государственного преступника. А, если он сбежит, или кто-нибудь попытается устроить ему побег? Что тогда?
– Не бойся Каиафа, побег я ему не устрою.
– Не знаю, не знаю, что и ответить тебе?
– Я заплачу хорошую цену, – хрипло выдавил Иуда и бросил к ногам Каиафы кошелёк с серебром, который мгновение назад получил как плату за свои предстоящие показания в суде Синедриона, удивив столь неожиданным своим поступком и приступом щедрости, внезапной и необъяснимой, даже самого себя. Первосвященник вздрогнул от звука упавшего кожаного мешочка, посмотрел вниз, но поднимать деньги не стал, а молча покинул комнату. В тот же миг его слуга, стоявший около двери, вошёл внутрь, быстро подхватил с пола деньги и двинулся вслед за своим хозяином. Наступила тишина.
Иуде не пришлось долго ждать, ибо в коридоре послышались шаркающие шаги и размеренный тяжёлый звук железа. В тёмную каморку, где находился Искариот, грубо втолкнули пленника и прокричали: «Побыстрее заканчивайте свои разговоры. Первосвященник приказал отвести самозванца в крепость под охрану римлян». Бывший ученик находился в приподнятом настроении. Он давно ждал момента, когда сам, лично, смог бы поучить жизни того, кого обычно вынужден был слушать, притворяясь, что ловит каждое его слово.
«Теперь пусть мне внимает. Моя правда оказалась сильнее его. Он сейчас в кандалах и готовится пойти на смерть, а я буду жить! Вот и вся его гнилая истина!» – думал Иуда, бывший когда-то первым и любимым учеником Иисуса. Что хотел он доказать этим своим поступком было не понятно, это уже потом, на следующий день, Иуда пожалеет о деньгах, отданных назад первосвященнику, а тогда его охватил какой-то кураж и желание возвысится в собственных глазах. Но, скорее всего это была попытка успокоить своё пострадавшее себялюбие, раздавленное крахом несбыточных надежд.
– Не ожидал, равви? – усмехнулся Искариот. Ему было приятно видеть изумлённый взгляд проповедника.
– Ты-ы-ы-ы-ы?! Не думал, Иуда! Но, зачем? Почему? – Иисус не мог прийти в себя, справиться со своим смятением, ибо был взволнован, возбуждён, обижен.
Он, действительно, не мог понять, почему именно Иуда предал его. Иисус даже никогда как-то не задумывался над тем, что его кто-то и когда-то вообще может обмануть. В их компании все были честны и откровенны по отношению друг к другу. Но более всего огорчило Иисуса, что этим человеком оказался Иуда. Ведь именно с ним он делил кусок хлеба в первые дни своего проповедничества, спас от смерти, когда тот валялся и умирал в придорожной канаве, днями и ночами сидел возле постели и выхаживал раненого, когда несчастный уроженец Кериота метался в страшном бреду, съедаемый тяжёлым недугом. Иисус всегда считал, что хорошо разбирается в людях, и тем больнее ему было признаться сейчас в своей ошибке. Он стоял, не шелохнувшись перед радостным своим учеником.
– Да, я!!! – глумливо, чуть ломаясь, прошипел Иуда, чувствуя прилив неожиданного вдохновения, – мне всегда были отвратительны все твои поступки. Мне опротивела наша бедность, убогость, нищета, хотя жить мы могли бы совершенно по-другому. Ты, Иисус, глупец!!! Ты не оправдал моих чаяний и надежд. Ведь власть была так близка. Мы могли до неё дотянуться и потрогать руками. Ты спокойно смог бы стать этнархом, настоящим народным правителем, царём от людей и над людьми! А в реальности будешь гнить в могиле, или тебя повесят, а может, распнут. Это твой справедливый и вполне закономерный конец! Я очень рад! Ты много болтал, но ничего не делал, хотя люди сами были готовы сделать тебя своим повелителем и вручить бразды правления. А ты-ы? Где твоё обещанное людям царство? Где? Завтра тебя казнят и что? После смерти ты обретёшь своё счастье? Но люди хотят пить и есть вдоволь, жить сладко и спать мягко сейчас, здесь, на земле, а не там, в призрачном, придуманном тобой мире, который никто никогда не видел и из которого никто никогда не возвращался! Твои надежды несбыточны!!! А я умирать вместе с тобой и твоими бредовыми идеями не желаю! Я ещё молод! Мне не известно, что там после жизни: рай, обещанный тобой, или забвение и пустота? Это я тебя выдал! Я! Я! Я! Это я показал место нашего ночлега, и мой поцелуй был знаком для стражи. И прокуратору я всегда и всё о тебе, о каждом твоём шаге, сообщал. И первосвященнику я предложил свои услуги. Мне хотелось, чтобы ты бросился в драку, когда за тобой пришли храмовники, призвал бы весь народ на восстание: паломников, земляков, последователей своих. Я думал, ты станешь вождём, царём. Но за тобой ничего нет, Иисус! Ты есть химера, а посему ты обречён умереть в безвестности и одиночестве. Твои ближайшие ученики разбежались кто куда. От тебя отказался даже Кифа. Я слышал это своими собственными ушами. О тебе через пару недель или месяц даже никто не вспомнить: ни родные, ни ученики, которых по существу-то и не было. Правда, остаётся Мария! Но и она тебя вскоре забудет, ибо молода, красива и слишком юна, чтобы вечно хранить тебе верность. К тому же я люблю Марию и женюсь на ней, дабы она нашла своё утешение в моих объятиях, – мой тайный соглядатай замолчал, чтобы немного перевести дух и собраться с новыми мыслями, но сделать этого не успел.
– Ты всё сказал, Иуда? – спросил Иисус своего бывшего любимого ученика, внимательно выслушав длинную его тираду.
– А ты хочешь мне возразить или вновь поучить жизни. Или ещё пообещать, например, что-нибудь вечное и прекрасное? – язвительно ответил Иуда.
– Нет! Просто желаю, чтобы меня скорее отвели в темницу. Зачем время терять на бесполезную и пустую болтовню. Я ещё должен приготовиться к смерти. Жизнь нас рассудит, Иуда! – спокойно проговорил Иисус.
– Простишь ли ты меня или? – закатив глаза и сделав смиренное лицо, дурашливым голосом вопросил Иуда, понимая неуместность этого разговора, но не в силах удержаться от него, ибо был вне себя от ярости. Слишком уж разозлился он на Иисуса. Иуде очень хотелось, чтобы его учитель кричал на него, ругался, топал ногами, проклинал, а лучше плакал бы от бессилия и страха, но Иисус ничего этого не делал. Не увидел Иуда своего бывшего наставника ни подавленным, ни обозлённым, ни гневным и ни плачущим, но зато услышал, как тот тихо и спокойно сказал: «Я прощаю тебя, но вот простят ли люди?»
Стражники увели осуждённого проповедника в крепость Антония. Иуда остался один. Он ещё недолго стоял в комнате, дрожа от возбуждения и воспоминаний о своем последнем разговоре с Иисусом. Неожиданно фитиль масляной лампы фыркнул, сильно затрещал, разбрызгивая во все стороны маленькие капли огня, и погас. Наступила полная темнота, из которой бывший ученик так и не смог выбраться, найти выход, пока не наступило утро, и не взошло солнце. И всё это время, пока он ожидал рассвета, в его голове почему-то навязчиво звучали слова: «…но вот простят ли тебя люди?»
Глава четвёртая НОЧЬ ОТКРОВЕНИЙ
Ночные размышления прокуратора. Встреча накануне суда. Откровения приговорённого к смерти. «…Ибо Царствие Божие среди вас есть, людей, в их разуме и сердцах!» Царство справедливости и братства. «…Один закон милости для всех». Последнее искушение. Друг не познаётся в счастье. «…Достоинство умной и доброй жены драгоценнее золота». Неожиданное признание Марии из Меджделя. Просьба юной галилеянки.
Во дворце царили тишина и спокойствие. Все спали. Было около полуночи, когда мне доложили, что задержанного проповедника по просьбе первосвященника препроводили в крепость Антония. Я вызвал дежурившего во дворце легионера и приказал ему привести пленника.
Меня одолевало острое желание понять, почему этого оборванца, ещё вчера всеми любимого и обожаемого, встречаемого и почитаемого словно кесаря, сегодня те же самые восторженные поклонники покинули и бросили, предоставив ему возможность самому решать свою судьбу и защищать себя в суде Синедриона. Было удивительно, но никто не вступился за проповедника, даже ученики, бывшие с ним, оставили своего учителя в полном одиночестве. И вполне вероятно, что уже завтра толпа будет готова растоптать, разорвать и распять несчастного Галилеянина на кресте, предав унижению и позору.
Я должен был понять для себя, что же побуждает людей вначале до самозабвения кого-то любить, а после без колебания его предать и возненавидеть его до умопомрачения. Мне хотелось разобраться, где же проходит граница между долгом и совестью, что есть истина, существует ли она вообще, или у каждого своя? Действительно ли ложь, наветы и кривда правят миром? Как отличить честь от самовлюблённости, возведённой в ранг гордыни, в чём разница между лицемерием и порядочностью, и что страшнее для человека – алчность, замешанная на тщеславии, или жадность, порождённая завистью? Можно ли считать убийцу героем, если он совершил своё преступление за правое дело, и стоит ли оправдывать предательство пустыми разговорами о долге, а самопожертвование ради любви предавать осмеянию? Почему смелость и отвага сегодня не в почёте, а наглость и подлость ждут уважение? Можно ли, выдавая ханжество за добродетель, прислужничество за уважение, а скупость и скаредность маскируя заботами о людях, говорить, что грядёт время справедливости и милосердия? Как отличить истинные чаяния порядочных людей о благе всех и вся от пустой суеты и лукавого словоблудия случайного человека, взвалившего на себя непомерное бремя пророка?
Мне очень хотелось лично побеседовать с тем, о ком так много говорила на улице толпа, и с которым я, благодаря донесениям тайных моих соглядатаев был заочно хорошо знаком.
«Приговорит ли завтра этот уличный сброд его, провозгласившего себя защитником бедняков и нищих, на смерть?» – вот, что было интереснее всего, и о чём думал я в ту ночь, ожидая пленника. Сомнений же в намерениях первосвященника у меня никогда не было, ибо прекрасно понимал, что главный жрец иерусалимского Храма заготовил для проповедника только один вариант приговора – смерть.
С первых дней после прибытия в Палестину эта страна стала удивлять меня одной своей весьма специфической особенностью. Я не увидел в ней и не встретил ни одного пиита, скульптора, архитектора, художника, философа, риторика, коих во множестве было в Риме, Греции или Египте, где мне довелось побывать. В Иудее же всякий раз, когда здесь появлялся человек, хотя бы немного выделявшийся из общей массы людей своими мыслями и словами, не говоря уже о действиях, он тут же становился объектом нападок и ярой ненависти местных священников. Не терпели главные жрецы иерусалимского Храма даже малейшего покушения на принятые ими в далёкие времена законы. Всеми своими силами, правдами и неправдами старались они притащить отступника в Синедрион и, по возможности, осудить на смертную казнь, дабы это послужило жестоким примером в назидание другим, кто захотел бы в будущем нарушить старинный обет. Нередко случалось и так, что после совершения казни осуждённого, вдруг люди, а иногда и сами же священники вдруг признавали праведность слов убитого и начинали почитать его за пророка. Конечно, это был хитрый шаг жрецов, чтобы непоколебимой оставить веру свою. Сначала казнив, а уже после, признав, они, таким образом, хотели бы поставить имя убитого себе в услужение, сохраняя на долгие годы незыблемой свою власть над мыслями и душами людей. Да, расправлялись с подобными праведниками быстро, без лишних разговоров и долгих судебных процедур. Иудейские первосвященники не любили посягательств на древние свои законы, писанные и неписаные, а посему много болтунов и пустословов, не умевших держать язык за зубами и не пожелавших вовремя замолчать, было побито камнями под стенами Иерусалима. Только вот в этот раз всё было по-другому.
Проповеди нищего оборванца по прозвищу Назорей людям не только понравились, но многие в Галилее и Самарии всем сердцем своим приняли его нехитрую философию жизни, основным правилом которой стали слова проповедника: «Один закон милости для всех!» – и пошли за ним. По доносам тайных моих соглядатаев мне было хорошо известно, что в отдельные дни Назорей собирал на свои беседы и проповеди до нескольких тысяч человек. На этих своих собраниях, кроме разговоров, он занимался ещё и целительством. Естественно про необычного пришельца из Галилеи пошли всевозможные слухи о том, что он способен лечить всякие и разные страшные болезни и, якобы, чуть ли не мёртвых может поднимать из могилы. Я же во все эти легенды и чудеса, описываемые в доносах, не особенно верил, считая те рассказы досужими сплетнями и праздными слухами, а поэтому и не пресекал деятельность Назарянина и двенадцати его учеников. Вторая же причина моего нежелания трогать капернаумского проповедника, и она была, кстати, основной – непримиримость во взглядах между мной, римским прокуратором, и Каиафой, первосвященником главного иерусалимского Храма, на решение одних и тех же проблем.
У нас, как я уже говорил, ещё после самой первой встречи возникло чувство взаимной неприязни, даже можно было бы сказать ненависти. Отношения наши не сложились так, как им следовало быть между римским наместником и духовным авторитетом иудеев. Обычно мы ограничивались редкими встречами накануне местных праздников, а взаимопонимание между нами при обсуждении некоторых внутренних вопросов вполне тянуло на разговор двух глухих. К тому же, первосвященник слишком уж рьяно взялся давить на меня, требуя задержания проповедника, пришедшего из Галилеи. Эта его навязчивая идея вовлечь прокуратора в свои внутренние распри выглядело довольно подозрительно. Да и вообще Каиафа был слишком высокомерным и тщеславным, считая себя полностью независимым от римской власти, что также не служило улучшению наших отношений. А некоторое время спустя он даже взял в привычку при каждой нашей встречи напоминать мне о моём долге прокуратора, требуя немедленно схватить самозванного пророка и его учеников. В паре со своим тестем Хананом, бывшим первосвященником, Каиафа даже осмеливался поучать меня, как следует управлять иудейским народом, будто без него мне сие было не ведомо. Причём, главный жрец Иерусалима довольно часто вёл себя столь вызывающе, что у постороннего человека могло сложиться впечатление, вроде бы он, а не я, правил всей Палестиной. Про угрозы первосвященника мне просто надоело вспоминать, ибо уже давно был потерян счёт количеству жалоб, которые были отправлены в римский Сенат.
– Игемон, узник доставлен, – прервав мои размышления, доложил караульный, приведший из темницы крепости Антония несчастного узника.
– Хорошо! Можешь идти! – ответил я воину.
– Тебя оставить одного с преступником? – удивился стражник.
– Иди, Вителлий! Если возникнут трудности, я позову тебя!
Легионер тихо удалился, оставив меня наедине с пленником. Я молчал, сидя спиной к узнику. В огромном дворцовом зале стояла полная тишина, и казалось, что никто не посмеет нарушить её, так как даже смоляные факелы вместе с масляными светильниками и те горели с осторожностью, не шипя и не потрескивая как обычно.
В царившем безмолвии голос Назорея под каменными сводами гигантского зала прозвучал глухо:
– Мир дому твоему, прокуратор Иудеи!
У меня, и это было странно, не возникло по отношению к проповеднику чувства недовольства или неприязни за то, что он прервал мои раздумья и первым заговорил со мной. В другое время за такую неучтивость, даже скорее дерзость, можно было бы лишиться головы или получить пару десятком ударов плетями, но в этот раз я не обратил на неё никакого внимания.
«А что ему теперь собственно бояться? Ведь терять-то всё равно нечего, если первосвященник уже приговорил его. Насколько мне известен характер главного жреца и его тестя, то Синедрион наверняка уже собирался!? Не мог сегодня вечером первосвященник не собрать членов Высшего совета, когда у него такая победа, ведь недовольных среди священников было очень много. Теперь же Каиафе есть, чем покрасоваться перед ними», – подумал я, развернувшись всем телом к уже осуждённому пленнику и с откровенным любопытством рассматривая его. Выглядел он, конечно, уставшим и чуть растерянным. Лицо его было в синяках, губы разбиты, а длинные, почти по самые плечи волосы спутаны. На теле сквозь порванную одежду виднелись багровые кровоподтёки. Хотя проповедник бодрился и всячески старался держаться уверенно, но в его глазах метался лёгкий испуг, перемешанный с надеждой. Это состояние пленника не укрылось от моего внимательного взгляда.
Кстати, особой жалости к проповеднику я не испытывал. Даже можно было сказать, что у меня вообще отсутствовало какое-либо чувство снисхождения к нему. Да и кем он был для меня, прокуратора Иудеи, этот нищий голодранец, бродяга, дабы ему сочувствовать? В другое время я и внимания не обратил бы на какого-то безродного иудея, уделом которого было смахивать пыль с моей обуви. А потом мне слишком долго пришлось воевать, проливая свою и чужую кровь, чтобы принимать близко к сердцу страдания каждого пленённого моими воинами противника.
Был ли стоявший нынешней ночью передо мной осуждённый на смерть проповедник моим личным врагом? Конечно же, нет! Он не нарушал римских законов, не грабил, не убивал, не обманывал, не уклонялся от уплаты налогов, но, однако, казнить хотели именно его, и казнить как настоящего разбойника и вора. Вот это меня как раз немного раздражало, ибо было непонятно и абсурдно. Но одновременно с этим я пребывал и в некотором удивлении, даже в лёгком восхищении, поражённый способностями и хитростью первосвященника. Каиафа умудрился так извернуться, что совершенно, казалось бы, обыденное дело превратил в смысл всей своей жизни, а задержание простого проповедника представил как главную победу над страшным и коварным врагом не Иудеи, но Рима. От моих глаз не могло укрыться настойчивое желание Каиафы для своего триумфа отправить на крест, казнь жестокую и мучительную, совершенно невинного человека. Но в то же время главный жрец хотел оказать милость настоящему разбойнику, грабившему и убивавшему людей.
«Да, лихая интрига закручивается! А ведь первосвященник преследует какую-то свою цель. Знает, что римляне казнят рабов на кресте. Вот только зачем ему такая казнь, зачем? У них же жизни лишают совсем по-другому, проще, и камнями», – продолжал я размышлять, сделав вид, что не услышал слов приветствия проповедника, обращённых ко мне. Мне просто хотелось немного понаблюдать за его поведением.
В зале, куда привели Назорея, было достаточно светло от горевших масляных ламп и факелов. Я специально приказал принести побольше огня, ибо всегда любил свет. Мне не нравились безлунные и беззвёздные ночи за их непроглядную, вязкую темноту, ибо под её покровом не возможно было увидеть горизонт, и земля, перемешиваясь с небом, уходила вместе с ним в неизвестность, как бы пропадала в бесконечности времени и пространства, к тому же именно ночью…
– …обычно совершаются самые жуткие злодейства и преступления, – вдруг внезапно вмешался в мои мысли осуждённый проповедник и закончил их, высказав вслух. Он недолго помолчал и затем продолжил, – да, очень хорошо, что существует день, когда свет приходит на смену ночи. Так будет всегда. Всему своё время. Всё меняется в мире, что-то приходит и затем уходит, но только земля пребывает вовеки…
Я внимательно посмотрел на несчастного узника, уже во второй раз посмевшего не только первым заговорить со мной, но и, абсолютно правильно угадав мои мысли, потом продолжить их. Меня не удивило это, ибо я хорошо знал о его удивительных способностях, не один раз прочитав о них в доносах своих тайных осведомителей, добровольных соглядатаев и слышать от явных недоброжелателей Галилеянина.
– Если ты, иудей, такой ясновидец, что угадываешь мысли, то, сможешь ли предвидеть, какая судьба ожидает тебя завтра поутру? – с напущенной строгостью спросил я проповедника, совершенно не испытывая к нему никакой неприязни.
– Не думаю, что смогу легко отделаться от Синедриона. Не таков первосвященник Каиафа, чтобы отпускать своих врагов. Самое худшее, что меня может ожидать, так это побитие камнями. Вполне, вероятно, что первосвященник захочет повесить всех осуждённых, хотя сомнительно, ибо иудеи противники нетрадиционных казней, считая их нечестивыми и недостойными правоверного еврея, – проговорил пленник, еле-еле шевеля своими разбитыми губами, и поэтому ответ его прозвучал очень тихо.
«Надо же какая безмятежность и наивность, – усмехнулся я про себя. Мне даже показалось, что он не понимает всей серьёзности своего положения, весьма бедственного, если не трагического».
– Нет! Не повесят тебя и не побьют камнями. Ты ошибаешься. Тебя, Назорей, ожидает смерть жуткая и лютая, на лёгкую и быструю даже не надейся. Завидовать будешь висельникам, так как они умирают мгновенно, а тебе уготована казнь медленная и долгая, а оттого и мучительная. Что если завтра Синедрион приговорит, например, распять тебя? А!?
Услышав мои последние слова, он вздрогнул и пристально посмотрел на меня своими широко открытыми синими глазами. Я выдержал этот взгляд, не отвёл в сторону свои глаза, внимательно всматриваясь в того, кого завтрашним ранним утром поведут на мучительную казнь и долгую смерть, приговорив к ней ещё задолго до суда. Даже спустя многие годы, вспоминая ту нашу ночную встречу, именно её, а не в претории, я так и не смог забыть пронзительный взгляд проповедника, в котором испуг уступил вдруг место уверенности. Вот только в чём заключалась та уверенность, мне не суждено было тогда понять.
Да, определённо, самообладанию Галилеянина стоило позавидовать. Он быстро взял себя в руки. Прошло всего лишь несколько секунд, и пленник выглядел абсолютно спокойным. По глазам Назорея я увидел, что его первый страх уже прошёл. Оно и понятно, ведь ему нужно было привыкать к своей незавидной участи, что он и старался делать. Хотя, по появившейся небольшой бледности на его щеках, мне стало вполне очевидно, что мысль о предстоящем приговоре всё-таки напугала Назорея, ибо рассчитывал он, конечно же, в тайне души своей, на помилование и на то, что судьба пронесёт мимо него горькую чащу небытия. И ничего удивительного в том не было. Ведь никто и никогда не думает о своей скорой смерти, особенно, когда человек молод, полон сил и считает, что вся его жизнь ещё впереди. Так приблизительно размышлял и несчастный пленник, стоявший передо мной. И этим своим поведением он даже вызвал моё искреннее уважение и мимолётное сострадание, которое, внезапно появившись, так же быстро и прошло.Мы молчали, изучая друг друга. Пауза затянулась. Я не торопился возобновлять разговор, так как мне хотелось более тщательно разглядеть внешность осуждённого пленника. Ничего необычного в его облике, что указывало бы на обладание им каких-то выдающихся способностей, присущих великому проповеднику, или врачевателю, или пророку, или ещё кому, явно не обнаруживалось. Я увидел перед собой вполне обыкновенного молодого высокого, одного со мной роста мужчину с крепким тренированным телом и сильными руками. Внешне он скорее был похож на вышедшего с арены цирка после тяжёлого поединка с диким зверем гладиатора, раненого и уставшего. Пленник совершенно не напоминал робкого смиренного ягнёнка, но более походил на матёрого волка. Назорей смотрел на меня открыто и смело, можно было бы даже сказать, чуть вызывающе.
– Тебе бы быть воином, иудей, и заниматься воинским делом. Думаю, ты смог бы дослужиться до центуриона, – совершенно серьёзно сказал я узнику. Он неожиданно улыбнулся и ответил:
– Я плотник, прокуратор, и плотницкое ремесло, поверь мне, не легче ратного труда. Моя работа требует сильных рук, точного удара и верного глаза. Постоять же за себя я смогу, ибо с мечом и копьём управляюсь не хуже чем с топором или молотком.
– Даже так?! Тогда почему же ты позволил схватить себя храмовым стражникам? Почему не сопротивлялся? Чего испугался? – немного ехидно прозвучал мой вопрос, ибо последнюю фразу проповедника насчёт его умения постоять за себя, я посчитал обычным самонадеянным хвастовством.
– Не хотел лишней крови! – только и ответил мой собеседник.
– Крови, говоришь, не хотел? – удивлённо переспросил я проповедника, – это обычный ответ труса и болтуна, прикрывающего слабость своего духа пустыми разговорами о нежелании проливать чужую кровь, но по существу являясь самым обычным предателем. Если жалеть свои и чужие жизни, то нельзя выиграть ни одного сражения! – довольно резко закончился мой небольшой монолог.
Я никогда не привечал всякие словоблудия относительно жалости, сочувствия и сострадания. Когда на поле брани дело касалось вопроса «жить или умереть», единственно, что меня могло волновать в тот момент – это, как жить и как умереть? Пленник, видимо, по моему изменившемуся лицу, а я тогда испытывал большую неприязнь к нему, догадался о чувствах и настроениях, переполнявших меня, а потому довольно быстро и громко воскликнул:
– Ты не совсем правильно понял мои слова, игемон! И если бы у меня сейчас был меч, я бы показал тебе, как умею постоять за себя!
– Что-о-о-о? – моему удивлению не было предела. Я даже на короткое время застыл на месте, услышав столь смелые и дерзкие слова. Решение пришло ко мне практически мгновенно. Быстро оглядевшись, я увидел висевшие на спинке кресла ножны со своим мечом.
– На-ка, держи! – воскликнул я. После чего, резко выдернув из ножен клинок, смело протянул его пленнику, – а ну, плотник, покажи своё умение, если не лукавишь! Правда, мне никогда не приходилось видеть, чтобы иудей мог бы искусно владеть боевым оружием. Камни вы метаете лихо, особенно в свои жертвы, привязанные к столбу. Это мне видеть приходилось, а вот…
– Как же я могу показать своё умение, коли, руки мои скованы, – кивнув на кандалы, зазвеневшие о каменный пол, сказал пленник, – освободи! Или ты боишься меня, прокуратор?
– Кого боюсь? Тебя-я-я? – я искренне рассмеялся в полный голос, ибо вопрос проповедника действительно развеселил меня. Ну откуда ему было знать, что во время походов в Дакию и Сарматию моим воинам довелось побывать в жутких переделках с варварами, и я никогда не испытывал в тех битвах робости или трусости, хотя, скажу честно, сердце щемило от внезапно приходящей мысли быть убитым.
– Стража! – раздался под сводами зала мой громкий крик. Воины, приведшие из крепости пленника, тут же вошли в зал.
– Снимите с него цепи! – приказал я, и они быстро, опытными движениями выбили заклёпки из кандалов на запястьях пленника. Воины, выполнив приказ, задержались, но я, коротко кивнув, дал им команду покинуть зал.
И вот мы с пленником остались одни. Я вновь протянул проповеднику свой меч. Назорей тем временем растирал натёртые железом запястья. Краснота на его руках и водянистые мозоли пропали практически на моих глазах. Только после этого, глядя прямо мне в глаза, пленник взялся правой рукой за острое лезвие боевого клинка и потянул его на себя. Я не сразу отпустил рукоятку меча. Но Галилеянин, не отводя взгляда и чуть побледнев, ещё крепче сжал лезвие. На холодной стали обоюдоострого клинка появились несколько крупных багровых капель, через мгновение заструившихся маленьким быстрым ручейком. В зале царила столь необычная тишина, что даже было слышно, как из порезанных пальцев и ладони пленника тяжело падали на каменный пол капли его крови. Однако Назорей не выпускал лезвие меча из рук, а напротив ещё сильнее сжимал его и продолжал тянуть на себя. Я отпустил клинок. Проповедник недолго подержал освободившийся меч, затем ловко подбросил его вверх и перехватил за рукоятку. Дальнейшие его действия были столь стремительными, что я не смог уследить за ними. Пленник вдруг резко взмахнул мечом, лезвие которого молнией блеснуло перед моими глазами, и висевший у меня на груди отличительный знак римского легиона упал к ногам на каменный пол, громко зазвенев перерубленной своей серебряной цепью.