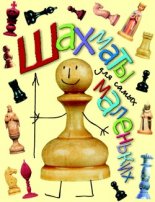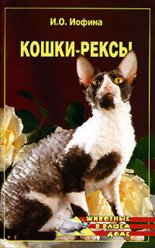Шестой прокуратор Иудеи Паутов Владимир
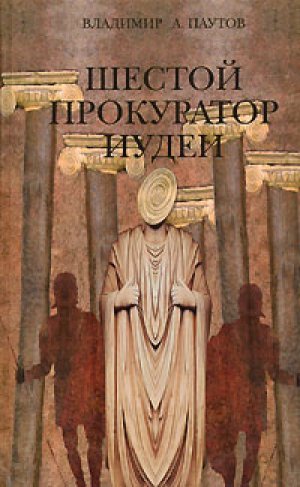
Мы стояли друг против друга. Острие меча находилось возле самого моего горла, и в этот миг я всецело находился в руках проповедника. В зале кроме нас никого не было. Охрана стояла снаружи, и было весьма сомнительно, что на мой зов воины вовремя смогли бы вбежать в зал и спасти меня, да и то, если бы я ещё, конечно, успел что-либо прокричать перед тем, как моё обезглавленное тело рухнуло бы на пол. Пленнику ничего не стоило одним ударом меча, искусство владения которым он сейчас продемонстрировал, отсечь мне голову и, выпрыгнув в окно, раствориться в вязкой темноте давно наступившей ночи, дабы потом бежать в Галилею, а оттуда в Сирию. На побережье этих областей было достаточно много портовых городов, к коим причаливали корабли со всех концов света, сев на любой из которых, пленник смог бы уплыть, куда только пожелало бы его сердце. Не знаю, догадался ли Назорей тогда о тех моих опасениях, что посетили меня внезапно в момент нашего противостояния, или нет? Видимо, сообразил, ибо, горько усмехнувшись, он осторожно положил оружие на пол перед собой, не рискнув вернуть мне в руки, так как рукоятка меча была вся выпачкана его, Назорея, кровью.
– Ловко! Молодец! – воскликнул я с неподдельным восхищением. Этот иудей начинал мне определённо нравиться, да и не мог не вызывать симпатий человек, так искусно владеющий оружием.
– Да, ты, оказывается, не только простой плотник, – сказал я и поднял с пола свой меч, не брезгуя взять его за окровавленную рукоятку. Мне ли, воину было бояться чужой крови.
– Где ты научился так хорошо владеть мечом?
– Первым моим учителем был римский сотник Иосиф Пантера. А потом мне пришлось долго жить на чужбине и порой от умения обращаться с мечом или копьём зависела жизнь. Правда, искусно владеть дротиком как ты, прокуратор, я так и не научился!
– Льстишь, иудей?
– Какой смысл?
Неожиданно моё внимание к себе привлёк небольшой серебряный медальон, висевший на груди проповедника, который сразу я как-то не заметил среди лохмотьев порванной его одежды.
– Откуда у тебя эта вещица, иудей?
– Мать моя надела сей медальон мне на шею сразу же после моего рождения.
– И что же она тебе рассказала? Чей он? Как оказался у неё?
– Ничего не говорила! Просто сказала, чтобы я носил его как память и никогда не снимал! Вообще этот медальон приносит мне счастье, а однажды даже спас от смерти.
Я не стал более расспрашивать пленника об этом, да и зачем ему было знать, что такие серебряные медальоны тридцать лет назад носили на своей груди как отличительный знак воины римского легиона, которым командовал легат Сирии Публий Сульпиций Квириний.
– Тебя сильно били? – неожиданно даже для меня самого спросил я Галилеянина.
– Да, игемон! Храмовая стража поупражнялась на моей спине в своей доблести! – ответил проповедник.
– Вызвать тебе лекаря?
– Не надо, какая теперь разница! Мне, может быть, жить осталось до сегодняшнего вечера, от силы до завтрашнего утра. Ничего страшного, потерплю, – спокойно сказал Назорей.
– Может, ты голоден?
– Да, немного! Дозволь, игемон, мне выпить немного вина и съесть немного хлеба и сыру, – осторожно попросил пленник. Я кивнул в знак согласия, и даже сам налил пленнику в большой серебряный кубок виноградного хмельного напитка и протянул его Назорею. Вино было довольно крепкое. Проповедник с удовольствием сделал несколько глотков и аккуратно поставил бокал на стол. Я не торопился продолжить разговор, а, напротив, решил недолго подождать, дабы крепкий напиток ударил бы в голову уставшего и голодного пленника. Хмель ведь всегда немного развязывает язык, заставляя порой говорить то, что следовало бы сохранить в тайне. Не знаю, удалась ли мне моя хитрость, но, думаю, несчастному пленнику и так нечего было скрывать, тем более что я не пытался узнать у него ничего такого особенного, о чём он мог бы после сожалеть.
– Ответь мне тогда: Ты, Царь Иудейский? – неожиданно спросил я пленника, подождав, когда он немного насытиться и выпьет ещё вина.
Если бы мой вопрос услышал посторонний человек, то он мог бы показаться смешным и несерьёзным, ибо передо мной стоял изнеможённый, избитый узник, который совершенно не производил впечатления злостного бунтовщика, а тем более претендента на царский трон.
– Ты говоришь, что я Царь. От себя ли говоришь это, или другие сказали тебе обо мне!? – прозвучал то ли ответ пленника, то ли его вопрос.
– Разве, я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?
– Ничего такого, за что следовало бы судить! Я просто призывал людей к милосердию и терпимости в отношении друг к другу, к справедливости ко всем, но не избранным. Разве то преступление? Я думал, мы просто дурачились. Если бы я был царём, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Однако завтра я предстану перед судом. Что же касается царства, то царство моё не от мира сего, игемон!
– А где же оно тогда, твоё царство?
– В душах людей, прокуратор Иудеи!
– Стало быть, ты не претендуешь на власть земную, если царство твоё столь призрачно? Но не стоит хитрить со мной, ибо я прекрасно понимаю, что реальной власти обычно добиваются через ум человеческий и сознание, обещая людям богатую, сытую жизнь да интересное зрелище.
– Я не стремлюсь к господству на земле. Мне не нужно, чтобы в моём царстве одни люди господствовали бы над другими.
– Значит, в твоём царстве все будут равны? Исчезнут бедность и богатство? Воцарится всеобщая любовь? Прекратятся все войны? Люди перестанут убивать друг друга? Не будет царей с вельможами? А как же тогда, и кем будет управляться царство твоё? И кто же возьмётся тебе помогать осуществить эти планы? Разве что сами богатеи вдруг откажутся от своего золота, раздадут его нищим и станут вместе с бывшими своими рабами проливать пот, работая на одном поле, так как обладать-то будут общим имуществом? Не смеши меня, иудей! Не будь наивным и глупым! Даже став царём и только задумав забрать всё золото, дабы раздать его по справедливости, ты в первую же ночь станешь жертвой своих же подданных. Они просто зарежут тебя где-нибудь во дворце, например, в тёмном его закоулке, или в спальне во время сна, или в бассейне во время купания. Если бы так стало, как мечтаешь ты, то миром бы владел хаос, а его нет, ибо власть у римского кесаря. И никто никогда не поделится ею, ибо власть есть… – но договорить я не успел, проповедник довольно бесцеремонно перебил меня.
– Всякая власть есть зло, игемон! – твёрдо заявил он, – и только Бог повелитель всего, а всё остальное от сатаны! Царство же моё будут строить не цари, не священники, не книжники и не богатые, а именно те, кто повинуется: рабы, женщины, дети – люди смиренные и малые, ибо сила духа у них и чистота помыслов выше, чем у тех, кто властвует и наслаждается жизнью.
– Стало быть, таких людей, как прокуратор, ты в своё царство не возьмёшь? – не удержался я от того, чтобы не поддеть своим вопросом собеседника, а затем добавил, – у меня и сила есть, и власть, и богатство, других людей держу в повиновении.
– Ты, игемон, воин, а потому твоё дело – служить и защищать! – короткий и потому ясный ответ, данный пленником, мне понравился.
– И когда же тогда наступит царство твоё? – чуть издевательским тоном спросил я.
Тот удивлённо посмотрел на меня, как-то смущённо пожал плечами и не совсем уверенно ответил:
– И не сегодня, не завтра, не через месяц или год наступит царство свободы и братства…. Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно, здесь, или: вот, там. Ибо Царствие Божие среди вас есть, людей, в их разуме и сердцах!
– Долго же тебе ждать придётся, иудей, пока переменятся люди и добровольно согласятся обновить до основания жизнь свою. Значит, если, по-твоему, всякая власть – зло, поэтому ты отказался стать судьёй? – спросил я проповедника, немного поменяв тему разговора. Из тайных донесений мне было хорошо известно, что жители Каперанума и некоторых других городов Галилеи предлагали Назорею занять важную и доходную должность, сев в судейское кресло.
– А что это изменило бы? – ответил вопросом на вопрос пленник.
– Тебе тогда не пришлось бы стоять сегодня передо мной, а завтра перед судом Синедриона, – усмехнувшись его непонятливости, сказал я. Он вновь ничего не ответил, а только пожал плечами.
– Вот смотрю я на тебя, иудей, и силюсь понять, чем же ты, сын простого плотника и обычной пряхи, по существу нищий оборванец, так напугал своих единоверцев, что они решили не просто наказать тебя, но убить. Римскому кесарю ты не угрожаешь, иначе я раздавил бы тебя сразу, как клопа, ещё четыре года назад. За тобой нет ни денег, на которые можно было бы купить власть, ни армии, с помощью которой любой смог бы захватить трон в стране. Да, собственно говоря, для нас и не важно, кто будет управлять Иудеей, будешь ли ты царём, или другой, главное, чтобы народ вовремя и сполна платил налоги в казну. Не понимаю я только одного! Объясни мне, прокуратору Рима, что же ты такого натворил? В чём причина страха главного жреца Иерусалима? Ведь ты не собирался становиться правителем, дабы занять царский трон, или отобрать деньги у богатых и раздать их нищим, ведь твои заповеди, что ты проповедовал, отвергают насилие, мятежи и бунты. Так чем же ты так сильно напугал первосвященника Каиафу? – спросил я Галилеянина.
– Первосвященники не меня испугались, игемон, а слова моего праведного, ибо в слове том, что я нёс людям, сокрыта истина, познав которую, откроются глаза у всех тех, кого призывают жрецы к праведности и учат соблюдению Закона. Ты ведь знаешь, что вся Иудея живёт по древнему Закону, но только вот сами-то они, священники, в тайне ото всех Закон тот нарушают. Своими проповедями я просто открыл людям глаза на лицемерие жрецов, на их себялюбие и тщеславие, корысть и жадность, похоть и прелюбодеяние, ими же спрятанными под тогу фальшивой законности и добродетели. Многим известно, что, одолеваемые безрассудной алчностью, священники и книжники предаются искушению богатством, пожирает их нега сладострастия и порока, потому как более думают они о мирской жизни и утехах земных, нежели о воздержании. Да, вот только те, кто знает об этом, боятся сказать народу правду. Ведь она для жрецов слишком страшна и ужасна, ибо предали они долг свой и перед людьми, и перед совестью, забыв о Завете с Богом, заключённом на крови их братьев. Именно поэтому священники твердеют сердцем своим и коснеют душой. Многие знают об этом, но молчат от страха за себя, семью свою, ибо по Закону, если кто скажет слово против жрецов, тот – против самого Бога. Отступника же храмовые слуги тут же волокут в Синедрион. А главный жрец, будь то Каиафа или кто другой, на расправу скор, а потому после суда – камнями, камнями, камнями или вон… на крест, например, казнь позорную и лютую! Наши священники живут одним днём, в их головах мысли о забавах и развлечениях земных, но не забота о душе. Мне жаль этих людей. Ну, и пусть будет так, как они хотят, пусть душа их превратится в тлен и прах, чтобы развеяться по ветру и пропасть в бездне забвения навсегда, коли, они того желают сами. Пока пророк Моисей получал от Господа заповеди, иудеи тем временем стали поклоняться золотому божеству, продав себя в рабство противнику Бога. Они ошибаются, полагая, что главное богатство – серебро и злато, что запрятано в кованых сундуках и в кладовых, а посему и тратят свою жизнь попусту. Глупцы те, кто так мыслит, ибо истинное богатство в сердцах человеческих и душах их пребывает. Для первосвященника и высшего духовенства даже помыслить страшно о том, что я говорю. Тем более жрецы никогда не согласятся с моими словами, ибо, сделав это, они тут же потеряют всё земные блага и привилегии. У них, правда, был небольшой выбор, всего-то между подлостью и добром, но они сами и добровольно выбрали первое, – весьма убеждённо и горячо проговорил Галилеянин, словно находясь на площади во время проповеди, а не будучи задержанным.
– Складно и красиво говоришь, Назорей! Для Синедриона слова твои, бесспорно, бунтовские, но за такое на смерть не посылают, ведь к мятежу против священников, а тем паче против Рима, ты не призывал. Что же касается проповедей и речей твоих, то это одни всего лишь слова, ничего не значащие. Хотя они только в устах глупца пусты и напрасны, словно песок, сыплющийся сквозь пальцы, или вода, без следа ушедшая в сухую землю, но слова мудреца, напротив, остры как меч и горьки как полынь, поэтому-то мудрецов и не любят, но на смерть их не приговаривают. Я подробно ознакомился с твоими делами, проповедями и речами твоими, что говорил ты и говоришь своему народу, и не нашёл в них угрозы Риму и кесарю. Хотя язык твой и бывает иногда слишком длинным, и немого укоротить его следовало бы. Но, по-моему, ты всё-таки бунтарь! Я бы наказал тебя кнутом и посчитал сие наказание достаточным, однако полагаю, для первосвященника и Синедриона это будет слишком мягким приговором. Они усмотрели в тебе истинного своего врага, злейшего и непримиримого. А сила в этой жизни за жрецами, но не за тобой, – возразил я своему собеседнику, так как слишком уж наивными выглядели все его доводы.
– Что есть сила или богатство со славой вкупе, если человек не знает и не ведает, чем встретит его завтрашний день, и он даже не может ни единого волоса на голове своей сделать седым? – не согласился проповедник с моими аргументами. Он просто спокойно продолжил свою мысль, будто и не слышал моих возражений.
– Многие из людей не властны над собой и своей судьбой. Они словно слепые, бродят в потёмках, когда, ведя один другого, все падают в яму. Виноваты ли они в этом? Конечно же, нет! Не виноваты они, что их обманывают жрецы, говоря красивые и правильные слова, ибо говорящие их так же называют себя иудеями, а на самом деле они таковыми не являются, но представляют собой сборище сатанинское. Только вот не за ними будет последнее слово, но за истиной! Через истину к людям придут и справедливость, и братство, и равенство, и свобода, и милосердие. И все в мире будут счастливы.
– Эка, ты хватил насчёт счастья, иудей, свободы и справедливости! А что вообще есть истина, через которую, как ты говоришь, все придут к счастью? Для человека, видящего уходящее за горизонт солнце, оно видится одним, но совершенно другим тому, кто наблюдает за солнцем, уходящим за море. Так чья же истина вернее? Для того, кто стоит на суше или того – на море?
– Не в том истина, прокуратор, кто, как и откуда наблюдает за солнцем, ибо оно может быть самым разным: красным на закате, жёлтым на восходе, багровым на ветер, бледным на жару, уходить в море и выходить из-за гор. Главное ведь заключается в том, что оно – Солнце! И оно одно! Какое бы Солнце не было, кто бы на него ни смотрел и каким бы его ни видел, оно единственное, и нет у него двойника или близнеца, о котором можно было бы сказать, то также Солнце! А поэтому как нет двух дневных светил, так и не может быть двух истин. Разве бывает две правды? Или разве возможно служить двум господам одновременно? Для меня же истина заключается в том, что завтра я буду казнён, и это не требует никаких доказательств, ибо никто не может изменить судьбу, предначертанную Богом.
– Твоим Богом или Богом первосвященников? Так обратись к тому, кто из них сильней, и он поможет тебе, спастись! – немного раздражённо бросил я пленнику.
– Ты, игемон, язычник. Вы все римляне язычники. У вас богов больше, чем воинов в легионах. Каждый вновь вошедший на престол император объявляет себя богом, а Сенат на своих заседаниях утверждает их целыми списками. Придёт время, и какой-нибудь сумасброд, поверив в свою божественность, прикажет также почитать не только себя, ну и своего, скажем, коня или свой меч. Это абсурд, прокуратор! Бог один для всех!
– Смело говоришь, Назорей, смело! Говоришь так, будто вторую жизнь прожить собираешься. Тогда почему же твой иудейский бог не поможет тебе? Не освободит тебя? Чью сторону он держит – твою или первосвященника?
– Для него все люди одинаковы, ибо все мы дети божьи. А спрос свой он учинит после жизни, когда закончится наше пребывание на земле.
– Даже так? – вскинув вверх брови, удивился я. – А про тебя, Назорей, люди промеж себя много чего болтают, ну, например, говорят, якобы рождён ты от Бога, а потому являешься сыном Божьим!?
– Если бы я был сыном Господним, как кто-то болтает, то не стоял бы здесь перед тобой, игемон, – горько усмехнулся пленник. – Поверь, сыну Божьему не составило бы особого труда избежать всех бед, что обрушились на меня. Это всё досужие домыслы да глупые слухи. Рождён я простой женщиной. Растил и кормил меня плотник Иосиф, коего люблю и почитаю за родного отца. Я человек, прокуратор. А то, что говорят обо мне, так ведь говорят люди, и ты, вон, говоришь, и жена твоя, и слуги, и рабы твои. Почему они так делают, у них спроси, я же только помогал алчущим и страждущим, сирым и убогим, больным и несчастным. Мне много довелось путешествовать по разным странам. Я долго жил в Египте, побывал в Греции, видел Финикию, жил в Ливии и в Сирии, плотничал в чужих краях и с большой охотой обучался всяким другим ремёслам. Мне приходилось врачевать людей и, если это им помогало, они говорили, что я сотворил чудо. Людям хотелось верить скорее не в меня, но в моё бескорыстие, в мою доброту и любовь к ним. В годы лихолетья и смут, которым в последнее время нет счёта, человек, настрадавшись от несправедливости и претерпев много зла и насилия, просто ждёт доброе слово и сострадание к мукам своим, уповая на веру, надежду и любовь. А слово же всегда было у Бога, ибо всё и началось именно с него.
– Мудрёно говоришь, иудей, весьма мудрёно! Только я смотрю, не очень-то тебе поверили все эти страждущие и алчущие, больные и убогие. Ведь именно, толпа, что день назад шла за тобой по пятам, провозглашала тебе «осанну», завтра, вполне вероятно, на крест пошлёт тебя, своего защитника, а разбойника с большой дороги, вора или насильника помилует. Вот она, твоя истина! Разве я не прав? – мои слова казались мне безупречными с точки зрения логики, но я не старался переспорить в чём-то или переубедить проповедника, просто мне было интересно понять суть его философии и взглядов на жизнь. Слишком уж разные мы были люди, чтобы вот так за одну встречу полностью понять друг друга, сразу же согласиться с аргументами и доводами, которые принципиально не принимали, хотя всякое бывает…
– Это не истина, прокуратор! Это обычное человеческое заблуждение! – вновь не согласился со мной Назорей.
– Только то человеческое заблуждение лично для тебя, иудей, слишком дорого обойдётся! Кровью собственной умоешься!
– Что делать? Если мне не поверили сейчас, так, значит, время моё ещё не пришло. Нынче меня многие ненавидят, потому что я свидетельствую о мире, что дела его злы. Кому, скажи, будет приятно слышать такое? Ты ведь не станешь восторгаться, если вдруг скажут тебе, что жизнь твоя не правильна. Народ же иудейский просто ослепил глаза свои и окаменел сердце своё, но я пришёл не судить людей, а спасти их. Может, через смерть мою, мучения и страдания спадёт с их глаз пелена, тяжёлая и непроницаемая, дабы увидеть они смогли бы, как найти путь к истине и проложить дорогу к новому Храму, построенному на обломках старой веры. Нужен новый завет с Богом, который послужил бы человеку путеводной звездой в его поисках правды, в его борьбе и победах. Впрочем, правильно говорят, что пророк не имеет чести в своём отечестве. Может быть, поэтому и предстоит мне пройти через все круги адских испытаний здесь, на земле, дабы люди, увидев стойкость мою в вере и убеждениях моих, устыдились бы поступков своих бесчестных и покаялись бы в совершённых ими злодействах. Верю, что так будет, и что все те, кто ненавидел меня и вредил моим делам при жизни, после раскаяния своего обязательно прольют слёзы в память моих страданий, поклонятся переживаниям и мучениям моим, которые сами же и взвалили на меня. Я же в этот трудный момент не ушёл в сторону и не убрал плеча своего. Нет сомнений, что добро рано или поздно, но пересилит зло. Ведь все люди по своей сущности рождены для добрых дел…
– А особенно твои ученики! Куда они, кстати, все подевались, твои ближайшие последователи, те самые двенадцать человек, так называемых апостолов, что ходили всегда и повсюду за тобой вслед? Что же они разбежались, как крысы с тонущего корабля, от одного только вида храмовой стражи, вместо того, чтобы броситься защищать тебя, своего учителя и друга? И с такими соратниками ты собирался строить своё царство? Право мне смешно и грустно! Кстати, а почему никто из них не пришёл этим же вечером свидетельствовать за тебя и просить о милости и снисхождении? Почему они не возвысили голоса своего с требованием твоего освобождения? Ведь завтра, когда первосвященник Каиафа будет разыгрывать представление, я уверен, твои друзья не предстанут перед судом Синедриона. Очевидцы сказывали мне, что один из твоих сопутников так быстро рванулся из рук стражников, что, оставив одежду, сбежал из сада нагим? Донесли мне также, что другой вообще трижды отказался от знакомства с тобой, когда его спросили об этом? В наших легионах казнят каждого десятого, если воины побегут с поля брани и оставят врагам своего командира, живого ли, мёртвого ли. Слышал я, что одна только молодая девушка вступилась за тебя? Где ты набрал таких трусливых и подлых учеников, иудей? – спросил я пленника, не скрывая своего брезгливого отношения к его спутникам и последователям, вернее к их позорному бегству от храмовников.
– Что касается моих учеников, игемон, то я сам приказал им не сопротивляться.
– Не лукавь, иудей, не лукавь! Они просто струсили и убежали. Ведь никто из них не пришёл сегодня и, повторяю, не придёт завтра свидетельствовать в твою защиту. Мне ли, воину, не знать, как ведут себя трусы…
– Я согласен с тобой, прокуратор, – после некоторого раздумья неожиданно и, главное, впервые за всё время нашего разговора Иисус согласился с моими доводами. Проповедник помолчал недолго и затем тихо-тихо добавил, – так ведь других-то у меня всё равно нет! К тому же надо уметь прощать людей, прощать их недостатки и слабости.
– Как это прощать слабости? Какие? – с негодованием переспросил я, ибо искренне был возмущён услышанным ответом, – ты предательство называешь слабостью?
– Знаешь, игемон, есть сила, которая будет сближать людей более чем что-либо другое, и этой силой станет любовь и прощение…
– Хватить! – грубо и властно перебил я Назорея, даже не дослушав до конца, что он хотел сказать, – предательство не есть слабость, но величайшая подлость человека. Простить предательство может или сумасшедший, или полный дурак. Ты не похож ни на того, ни на другого. А известно ли тебе, что один из твоих ближайших учеников был моим тайным соглядатаем и подробно доносил на тебя? Как, его тоже следует простить? – я только сказал о том, что в его окружении есть мой человек, и тут же увидел, как проповедник сильно смутился. Мне сразу стало понятно, что Назорей уже знает о предательстве близкого своего друга. Я только мог догадываться, какие чувства сейчас боролись внутри проповедника, и какие сомнения мучили его в тот миг, как трудно и больно было пленнику сейчас перешагнуть через собственные принципы и установленные правила. Конечно, не легко пережить предательство и трусость своих учеников, особенно если одного из них искренне любил и доверял ему более других.
– Подставь свою правую щёку, если тебя ударили по левой. Знаю, иудей! Но только это гнилая философия, Назорей. Человек не должен примиряться с врагом своим! В противном случае сегодня он позволит себя ударить, завтра поставить на колени, а через пару дней разрешить убить, стоя смиренно на коленях как скот? – тем временем продолжил я свою мысль, распаляясь всё сильнее и сильнее.
– Я не то имел в виду, игемон, когда говорил и говорю: «Подставь ударившему тебя по одной щеке другую». Этот поступок следует понимать как примирение, как акт милости друг к другу, это принцип жизни совершенно разных людей в моём новом мире, который вначале нужно построить. Не отвечать ударом на удар, дабы не разгорелась внутри общины драка или война, а, подставив другую щёку, вызвать у ударившего тебя чувство стыда за свой поступок – вот смысл сказанного. Я желаю, чтобы в новом царстве царили бы мир и спокойствие. Но с предательством, даже не знаю, как ответить, – вновь немного стушевался проповедник, во второй раз, по-моему, за всё время нашей беседы вновь не найдя подходящего ответа.
– Так зачем же ты, если ненавидят тебя священники, а последователи твои бросили тебя, предали и убежали, ну для чего тогда на смерть идёшь? – немного раздражённо бросил я. Во мне сейчас боролись два весьма противоречивых чувства в отношении пленника: уважение и досада. Во-первых, я совершенно не понимал, как мог он позволить стражникам задержать себя, коли, способен был, владея искусно мечом, сражаться за свою свободу и жизнь. Однако злило меня более всего какое-то обречённое смирение перед постигшей бедой, и это было совершенно непонятно. Я хотел переубедить пленника, заставить его бороться до конца, как сам всегда привык это делать на поле битвы.
– Так, где же твоя армия, иудей, с помощью которой ты собирался завоёвывать умы людей и нести новую правду? Двенадцать твоих ближайших соратников разбежались и попрятались! Ведь тебя завтра казнят. Первосвященник мне однажды уже говорил, что у вас есть Закон, и ты обязан умереть по этому Закону. Для чего? Я хочу знать. Только веры ради своей одной в правоту дела своего? Так в чём суть не учения твоего, но смерти? Ну, умрёшь ты, примешь смерть, лютую и жуткую, но они-то, все, останутся, и будут так же жить, как жили до тебя. Для них ведь ни-че-го не по-ме-ня-ет-ся в их праздной жизни! Ты думаешь, что жрецы перестанут пить, есть, развратничать? Да они ещё сильнее предадутся порокам. Что изменит смерть твоя? Или ты думаешь, увидев казнь твою жестокую, люди тут же устыдятся предательства своего, и все превратятся в праведников, перестанут воевать, убивать друг друга, воровать, прелюбодействовать, сквернословить, лгать и возлюбят ближних своих как самих себя? Ты уверен, что они примут завет твой и тебя всем сердцем своим и всей крепостью своею? Не будь наивным, плотник! Ты глупый мечтатель, но не более того! – я бросал в лицо проповеднику свои резкие и жёсткие фразы, которыми желал его то ли обвинить, то ли уличить, но тогда в чём? Что мне хотелось услышать в ответ, какие признания? Или, наоборот, я провоцировал его своими словами на какие-то решительные действия? Не знаю! – Ну, что молчишь? Мечтаешь перестроить мир, а сам не знаешь, как?
– А я и не питаю на этот счёт никаких иллюзий, игемон! Ты сам говоришь, что жизнь – вещь серьёзная и запутанная. Я выбрал свою дорогу, и та дорога проходит через тернии, а посему она лёгкой быть не может, но осилит её только идущий, а не лежащий на тростниковой подстилке в тени дерева. Всему своё время, и оно расставит всё по своим местам. Ты спросил меня, в чём вижу смысл жизни своей? В одном – чтобы не прошла мимо меня чаша, уготованная судьбой, пусть даже горькой, но горечь та будет иметь привкус моего пота, смешанного с моей кровью. Ничего просто так, случайно или по ошибке, в жизни не происходит. Как ничего, впрочем, бесследно не проходит и, тем более, не исчезает. Всё самое тайное рано или поздно становится явным. Мне просто нужно было во что бы то ни стало поломать старую жизнь и её обветшалые законы. Думаешь, я не знал, что иду против власти силы и золота? Думаешь, я такой наивный человек, и никогда не понимал, что в этой борьбе могу погибнуть? Конечно, предполагал и даже был готов к трагическому исходу. Только смерть моя – это ещё не моё поражение, но победа. Я уже победил в своей борьбе, ибо моими врагами владеет страх, который уже одолел жрецов. А победителя, как известно, не судят, его просто убивают из-за угла, ибо нет такого суда, который был бы способен осудить победу над злом только потому, что это кому-то не нравится и кто-то считает по-другому. Я убеждён, что меня потом вспомнят и не раз помянут добрым словом, так как имя моё станет символом чести, стойкости, терпения и милосердия. Вся жизнь моя была борьба, и смерть станет полным торжеством моих идей, на которых люди создадут новый мир! Мир без богатых и бедных, но равных! – уверенно говорил Назорей, и в глазах его горел огонь убеждённости и бесстрашия, который я видел много раз во взгляде своих воин, громивших противника в тяжёлых боях.
– Так зачем же тогда умирать? Может лучше продолжить борьбу? Умирают ведь один раз. А из царства теней не возвращаются, я, по крайней мере, таковых не видел, кто бы переплыл обратно Лету и вновь вступил на берег бытия.
– Ты хочешь спросить, игемон, страшит ли меня смерть? Что ж, в единственную ночь откровений, подаренную нам с тобой, скажу честно: «Да! Я боюсь умирать!» Тебе ведь, наверняка, доносили, что обо мне люди придумали очень много слухов, порой доходящих до полного бреда. Про мои знахарские дела мы уже говорили, и то не чудеса, но простые знания. Я долго жил в Египте и многому там научился, а потому никогда не поднимал из гробниц мёртвых, ибо пробуждал спящих, пребывающих в глубоком сне. Да, у меня бывали всякие знамения и видения, но спроси кого-нибудь, хотя бы самого себя, разве не было у тебя, например, вещих снов, или не было такого чувства, что ты здесь уже когда-то был, и эти слова уже однажды слышал, и того человека где-то видел? Всем нам страшно уходить из этой жизни, ибо мы не знаем, что ждёт нас в другой и есть ли она – та, другая. Смерть – это главная загадка природы и человеческого бытия. Никто и никогда не возвращался оттуда, с той стороны земли, и в этом ты прав, прокуратор! Только сумасшедший может не бояться смерти…
Мы разговаривали уже несколько часов, а утро всё ещё не приходило, словно кто-то нарочно задержал солнце где-то за горами на подходе к Иудее, остановив рассвет. Осуждённый внешне вёл себя совершенно спокойно, хотя чувствовалось, что страх приближающейся смерти постепенно охватывает его. Он украдкой поглядывал на восток, про себя, наверное, молясь, чтобы темнота не торопилась бы уходить, уступая своё место восходу дневного светила. Казалось, что только ночь, длинная и печальная, сейчас была единственным союзником несчастного Назорея, ибо она всё никак не хотела заканчиваться, продлевая тем самым жизнь моего собеседника. Но время неумолимо, и нельзя остановить быстрый и стремительный бег его. Это для меня ночь чудилась долгой и бесконечной, но для осуждённого на смерть узника она, наоборот, казалась короткой и скорой. Рассвет был просто обречён прийти. Он и пришёл, как положено, ибо уже потихоньку начинал забирать предназначенное ему время, заканчивая своим наступлением и без того короткий отрезок оставшейся жизни, отведённой проповеднику. Пора было вызывать стражу, что я и хотел сделать, но неожиданно для самого себя вдруг сказал:
– Я не хочу смерти твоей, а посему прикажу сейчас своим воинам схватить на улице первого попавшегося бродягу, дабы он занял бы твоё место. Чтобы его не узнали и не смогли бы заметить подмены, легионеры отделают его кнутами так, что никто на свете не сможет распознать – кто се есть на самом деле, ты или другой человек. Дабы хитрые жрецы ничего не заподозрили бы, подмену проведём после суда Синедриона. Тебе же дам лошадь, денег на дорогу и сопровождение, чтобы смог ты спокойно под покровом следующей ночи уехать навсегда отсюда. Беги, иудей!!! И беги подальше! Например, в Галлию, а лучше в Сарматию, что лежит за Понтом Эвксинским. То земля не римская, но варварам принадлежащая, дикая и малолюдная, там сможешь продолжить своё дело. Подмену, думаю, никто не обнаружит. Снимай свои грязные лохмотья. Я распоряжусь принести тебе одежду римского легионера. Помощь сию оказать желаю не потому, что ты убедил меня в правоте своей, и я учение твоё принял за истину, но за доброе дело и услугу, оказанную одному человеку.
– Я знаю, игемон, о ком идёт речь: о красивой, молодой женщине, приходившей в Кайфу. Платье служанки, в которое она был переодета, не смогло скрыть её знатного происхождения. Это твоя жена? Я рад, что болезнь от неё отступила. Значит, помощь моя была не бесполезной. Но не так сильно помог ей я, как её любовь к тебе, прокуратор, жажда жизни и вера в мои слова. Чудес никаких не было и не бывает. Я просто почувствовал, что ей очень хочется выздороветь и жить, поэтому только и укрепил её в том желании.
– Спасибо тебе, Иисус! – я впервые за всё время нашего разговора назвал пленника по имени, отчего он особенно внимательно посмотрел на меня. Немного помолчав, проповедник вдруг неожиданно изрёк:
– Пожалуй, можно было бы принять твоё предложение, прокуратор Иудеи, но при одном условии.
– Ты, ставишь мне условия? Интересно!
– Так вот, игемон, – спокойно сказал Назорей, будто не услышал моего саркастического тона, – согласен ли ты, пойти со мной? Прямо сейчас, бросив всё, дабы нести в земли те, куда побежим, слово истины?
Предложение проповедника было столь внезапным, что я буквально остолбенел от услышанных слов. Но моё замешательство длилось не долго.
«Что он говорит? Да как этот грязный и нищий оборванец осмелился предложить мне такое? Да чтобы…» – пронеслось в моей голове, и чувство безудержной ярости заклокотало внутри меня. В первое мгновение я даже захотел выхватить из ножен свой меч и отрезать язык подлому наглецу, сделавшему римскому прокуратору столь непристойное предложение. Мне стоило большой воли, сдержаться от немедленного наказания, ибо никогда не считал себя палачом, но воином, которому негоже было марать свои руки ремеслом заплечных дел мастера. Стараясь не кричать, чтобы не поднять на ноги весь дворец, я тихо и медленно выговорил:
– Да ты видно сошёл с ума? Ты что говоришь, безумец? Кому делаешь сие гнусное предложение? Мне!?… Римскому прокуратору? Наместнику в Иудее? – я буквально задыхался от ярости, душившей меня, но говорить старался при этом спокойно, – ты предлагаешь преступить мне через клятву? Ведь я присягнул на верность империи, и нет большего бесчестия, чем предательство. Не испытывай моё терпение, иудей, своими глупыми словами, ибо последствия за них могут быть весьма плачевными для тебя!
– Прости, прокуратор! Ты прав! Но и я тоже! Не торопись осудить меня, ибо не может быть терпимым тот, кто уверен, что он вполне прав, а другие совершенно не правы. Я не хотел обидеть тебя, но другого ответа, кстати, от тебя и не ожидал, хотя сожалею, что и ты меня понял неправильно. Я не предлагал тебе совершить предательство, но дружбу и приглашение послужить благому делу. Может, потом вспомнишь, поймёшь и согласишься? Только я тоже не приму твоего предложения, так как имею понятие о чести, и, хотя жить желаю не менее других, смерть выбираю и потому отвергаю с благодарностью твой добрый порыв, идущий от сердца. Нет за тобой ничего, в чём бы можно было обвинить тебя за смерть мою. Искушение избежать вероятной казни во мне весьма велико, но я просто обязан преодолеть его, иначе не будет истинной веры, но посмеются потомки над слабостью моей и назовут все дела мои пустыми словами и тленом, а меня самого обманщиком и негодяем. Ведь это то же самое, что бежать с поля боя, а трусов, как сказал ты, положено убивать. Нельзя, чтобы из-за обычной человеческой слабости окончательно забылось всё, что говорил я и чему учил, иначе быть мне преданным забвению и проклятию. Не должны люди, вспоминая обо мне, думать, что я прожил жизнь болтуном, пустословом или трусом, тем самым, списывая пороки свои на пример моего поступка. Нет, игемон! Мне должно и нужно идти на суд Синедриона и, если придётся, то и на крест, хотя очень не хочу этого, ибо страшно боюсь умирать. Я не Бог, но обычный человек, желающий жить. Никто и ничто не в праве отобрать у человека жизнь его, данную ему по рождению, потому как в момент появления на свет вкладывает в него Господь душу, которая принадлежит тому, кто даёт её, и только он может забрать, однажды данное, обратно. С верой и надеждой иду я на смерть! Будущее покажет – прав ли был я или нет? Ты ведь знаешь, прокуратор, что побеждающий никогда не потерпит вреда от смерти. И отпусти меня, игемон! Я очень устал, к тому же мне ещё надо подготовиться к завтрашнему суду Синедриона и, возможно… – договаривать пленник не стал, но я понял, о чём в тот миг подумал несчастный узник, ведь умирать проповедник не хотел.
Действительно было пора заканчивать разговор, ведь заседание Синедриона было назначена на раннее утро, да и солнце уже начинало своими первыми лучами брызгать из-за горизонта, раскрашивая ими ещё тёмное небо в нежно розовые цвета.
– Значит, я ничего не смог сделать для тебя, Галилеянин?
– Значит так, прокуратор Иудеи! Ты ничего не смог и не сможешь сделать для меня, даже если бы захотел, ибо не в твоих это силах и власти! Хотя ты и наместник Рима, но не во власти даже всех великих и могучих правителей изменить что-либо, потому как есть на свете и посильнее. А про судьбу твои рассуждения не верны! Судьба, не познаваемая человеком никогда, может быть изменена самим человеком, потому как она, что дорога, длинная и трудная, со множеством искушений и соблазнов на ней, а посему вкусит ли идущий по дороге той соблазнов или обойдёт их, такая и судьба будет у него в конце жизненного пути, а дорога та у всех разная, но ведет к одному – истине, коей и является Бог! Крепко запомни слова мои эти, прокуратор Иудеи, Понтий Пилат!
– Запомню, Назорей! Но и ты запомни, что ни в чём меня не убедил! Я остаюсь при своём мнении! Прощай Иисус! Если ты окажешься прав, то после смерти встретимся и поговорим! Не суди меня тогда слишком строго, по знакомству хотя бы, – пошутил я напоследок, – если нет, то…. А сейчас иди!
За дверями зала ждал вызванная мною стража, чтобы отвести осуждённого обратно в крепостную тюрьму. Шаги воин и узника вскоре перестали доноситься из коридора, и вновь наступила тишина. Я остался один. Ночной разговор с проповедником был слишком длинен и тяжёл, но усталости не чувствовалось.
– Марк, – сказал я своему легионеру, выйдя во двор, – передай Артериксу, чтобы перед тем как отправить пленника в Синедрион, он всыпал бы ему тридцать девять ударов. Но пусть это сделает осторожно. У проповедника действительно длинноват язык, за что и следует его наказать, но он должен жить!
У ворот дворца стояла совсем молодая девушка и упрашивала караульного воина проводить её по очень важному делу к римскому прокуратору. Но легионер не только не хотел пропустить неизвестную просительницу, но даже не желал её слушать, а тем паче пойти и доложить о ней. Время было позднее, далеко за полночь, и Мария, поняв тщетность своих попыток добиться встречи со мной, уставшая от всех переживаний за сегодняшний вечер в изнеможении опустилась на землю. Плакать она уже не могла, сил просто не хватало, так как все они ушли на то, чтобы отбить Иисуса от храмовников, когда те напали на него в Гефсиманском саду.
– Ладно, тогда буду сидеть здесь до утра, и ждать, ждать, ждать…., – твёрдо решила девушка.
Но вот только что или кого она думала дожидаться у моего дворца, Мария и сама точно не знала. Светало. Просительница, желавшая увидеть наместника Иудеи, была близка к отчаянию, ибо не представляла, как найти выход из создавшейся ситуации. Ещё несколько часов назад большой компанией они готовились к празднику пасхи, сидели у костра, Иисус как всегда был весел и радостен, много шутил и смеялся, когда внезапно на поляну вышел отряд храмовников. Девушка тогда немного опоздала, поэтому она уже увидела, как стражники, посланные первосвященником, накинулись на Иисуса, к ногам которого, обливаясь кровью и потеряв сознание, рухнул Иуда, а все остальные ученики, охваченные жуткой паникой, бросились врассыпную. Марию поразила тогда до глубины души развернувшаяся перед её глазами картина позорного бегства тех, кто сидел за одним костром рядом с учителем, ел с ним, пил вино. Девушке некогда было кричать им вслед, взывать к их совести, ибо она, не раздумывая, как это когда-то сделал Иисус, спасая Марию от насильников, ринулась на помощь своему другу. Дралась девушка неистово и отчаянно. Она царапалась, кусалась, била своими маленькими, но крепкими кулачками налево и направо всех, не разбирая, в кого и куда попадала, пинала ногами своих противников, а одному даже откусила ухо. Но разве могла она, хрупкая юная девочка, по существу ещё ребёнок, противостоять почти трём десяткам крепких и вооружённых мужчин, служивших стражниками в Храме? Девушку сильно ударили по голове и после того, как она потеряла сознание, её грубо, словно сноп соломы, отбросили в кусты колючего терновника.
Мария быстро пришла в себя, вскочила с земли и, не обращая внимания на боль, бросилась следом за отрядом храмовников, благо он не успел далеко уйти.
Осторожно крадясь за стражниками, девушка проникла во внутренний двор дома главного священника Иерусалима. Она своими глазами видела, как закованного в цепи Иисуса завели в дом Каиафы. Во дворе тогда было много слуг и челяди. Неожиданно девушка заметила среди толпы одного из двенадцати учеников, которого все звали Кифой. Мария только хотела подойти к нему и предложить что-то предпринять для освобождения учителя, но её опередила какая-то незнакомая женщина, похожая на кухарку. Закричав, что она видела Кифу вместе с пленником на базаре и что он так же из бандитской шайки нищих галилеян, пришедших вместе со своим главарём в город, дабы в праздники грабить людей и прохожих, женщина вцепилась мёртвой хваткой в испуганного ученика Иисуса. Кифу тут же окружили слуги первосвященника и стали ему угрожать, если окажется, что он действительно пришёл в город вместе с проповедником.
– Что вы, что вы? Это ошибка! Я один проходил мимо этого дома, вижу, толпа собралась, дай, думаю, зайду любопытства ради, посмотреть, что случилось,… – растерянно улыбаясь и трусливо озираясь, оправдывался ученик Иисуса. Он хотел ещё что-то добавить, но, видимо, почувствовав на себе чей-то презрительный взгляд, внимательно осмотрелся и увидел Марию…
Девушка разозлилась. Она была удивлена, огорчена, поражена, как мог этот человек, которого учитель искренне любил и уважал, так скоро и трусливо отказался от дружбы с Иисусом. Мария, интенсивно работая локтями, постаралась пробиться сквозь толпу слуг к предателю, как она уже стала про себя величать своего бывшего единомышленника. Марии очень хотелось посмотреть тому в глаза, сказать несколько слов, но Кифа вдруг исчез. Он пропал, будто его здесь никогда и не было, и сколько девушка ни искала, она так и не смогла обнаружить его ни во дворе, ни на улице, ни на площади перед домом главного жреца.
Это уже потом, когда пройдёт какое-то время, ученик Иисуса будет вымаливать прощение у Марии за проявленное им мимолётное малодушие и трусость, умолять её никому не рассказывать о том позорном и публичном отречении, заискивать перед ней и втайне ненавидеть, как единственного свидетеля своего предательства. Мне даже не было известно, простила ли Мария его, но тогда, во дворе возле дома первосвященника галилейскому рыбаку здорово повезло, что ему удалось скрыться и от Мария, и вовремя отказаться от учителя. Однако поступок тот давний одного из учеников проповедника не остался навсегда тайным. Несмотря на то, что прошли недели, минули месяцы, но только нашлись доброхоты, которые донесли до людей правду о слабости ли, подлости ли, предательстве ли, но поступке мерзком и неправедном одного из ближайших друзей Иисуса. Однако произойдёт это не скоро, а пока девушка прямо от дома первосвященника пришла к моему дворцу.
Почему Мария совершила столь странный поступок, что она хотела добиться своим приходом, девушка, наверное, и сама не смогла бы ответить на данный вопрос, спроси её кто-нибудь тогда об этом. Но произошло всё случайно. Мария очень долго стояла возле дома Каиафы. Она дождалась, когда на улицу вывели задержанного проповедника и, не думая ни о чём, машинально двинулась следом за конвоем. Так Мария оказалась около ворот крепости Антония. Ждать там долго ей не пришлось. После того, как по моему приказу пленника Синедриона доставили в царский дворец, в котором я той ночью имел с проповедником неспешный разговор, юная галилеянка естественно очутилась возле моей иерусалимской резиденции.
Мария могла бы ещё очень долго стоять возле входа: и ночь, и весь следующий день, ибо ей было не ведомо, что учителя никогда не поведут через парадные двери, но на её счастье мой помощник, Савл, именно в то время решил проверить караулы. Вот он как раз и заприметил сидевшую на земле возле ворот и безутешно плакавшую юную девушку.
– Что ты здесь делаешь? – строго спросил Савл галилеянку.
– Я хотела поговорить с прокуратором, но меня не пускают, – всхлипывая и вытирая безудержно бежавшие из глаз слёзы, ответила Мария.
– О чём же ты хотела поговорить с генералом? Он отдыхает! Ещё ведь только утро! – сказал мой помощник.
– Он не спит! – заверила девушка.
– Это почему? – удивлённо вскинул вверх брови Савл.
– Прокуратор сейчас беседует с проповедником. Я своими глазами видела, как того завели во дворец, но ещё не выводили. Мне нужно сказать правителю что-то важное, но только ему лично!
– А ты кто такая, что хочешь говорить с игемоном? Кем ты приходишься пленнику? – спросил мой помощник и увидел, как девушка в смущении отвела глаза в сторону.
– Жена! – только и ответила Мария, залившись румянцем и потупив взгляд.
Савл понимающе кивнул и, бросив девушке короткую фразу: «Будь здесь!» – он пошёл во дворец, дабы доложить мне о просьбе юной галилеянки.
Пленника только увели, когда внезапно за моей спиной раздалось негромкое покашливание. Я обернулся и увидел своего помощника, центуриона Савла. Удивительно, когда он только успевал спать, ибо его можно было вызвать в любое время дня и ночи, и всегда он приходил свежим и бодрым. Почти семь лет, что он находился при мне, я ни разу не усомнился в правильности давно принятого решения взять с собой молодого иудея, семь лет назад пришедшего ко мне в Риме с просьбой поехать в Палестину.
– В чём дело, Савл? Разве ты не отдыхаешь? – несколько удивлённо спросил я.
Центурион подошёл ко мне и тихо, будто кто посторонний мог услышать слова его, сказал:
– Игемон, у ворот дворца уже почти целую ночь сидит молодая женщина, вернее девочка, она умоляет, чтобы ты принял её. Говорит, что жена задержанного проповедника.
– Разве он женат?
– Не знаю, но она так утверждает!
– Хорошо! Прикажи привести её сюда! – приказал я, одновременно размышляя: «Интересно, а про жену он ничего не сказал. Да и в доносах тайных осведомителей никогда не говорилось о том, что проповедник имеет семью.
Через некоторое время девушка, о которой я уже успел как-то немного позабыть, ибо было о чём подумать и без неё, не вбежала, но ворвалась в зал, словно ураганный ветер, шумно и громко, принеся с собой свежий запах росы и аромат цветущего миндаля. Она стремительно пересекла огромный зал и с разбегу упала прямо к моим ногам, распластавшись на каменном полу. Я замер в полном недоумении. Всё произошло столь быстро и неожиданно, что мне невозможно было сделать ни шагу в сторону, так как светлые длинные волосы девушки роскошными волнистыми прядями рассыпались по отполированным мраморным плитам вокруг меня. Тело девушки содрогалось от сильных рыданий.
– Встань, дитя моё! И скажи, что привело тебя ко мне? – я присел и осторожно взял её за плечи.
Девушка подняла на меня свои удивительно красивые, в обрамлёнии густых длинных ресниц, глаза. Из них ручьями текли крупные, словно капли ливневого дождя, слёзы. Посетительница оказалась весьма привлекательной и обворожительной. Даже бедное платье, скорее похожее на лохмотья, не могло скрыть безукоризненную фигуру девушки. С такой внешностью она вполне могла бы соперничать с любой римской аристократкой.
– Откуда ты, красавица, и чего желаешь от меня? Времени у меня немного, а посему отвечай быстро! Итак, какое у тебя ко мне дело? – вновь задал я вопрос, не в силах злиться и быть строгим, ибо девушка была столь расстроена какими-то своими переживаниями, что сразу не смогла ответить.
– Поднимись и рассказывай поскорее, ибо времени у нас мало! Кто ты, откуда и чего желаешь? – уже несколько сурово приказал я, так как, несмотря на раннее время, у меня ещё оставались незавершёнными кое-какие дела, а потом нельзя было посвятить всё своё время решению трудностей неизвестной горожанки. Я вообще никогда не принимал простолюдинов, а эта аудиенция была каким-то необъяснимым исключением.
Тем временем, немного успокоившись, девушка сквозь редкие всхлипывания сказала:
– Я Мария, родом из Меджделя, что в Галилее, недалеко от города Тивериады, который близ озера, называемым Галилейским морем. Однако понять из сказанного просьбу девушки было совершенно не возможно.
– Хорошо, Мария из Меджделя, что ты делаешь здесь, так далеко от дома? И для чего пришла ко мне?
– Я пришла к тебе, игемон, просить милости за Иисуса, которого вчера схватила храмовая стража. Сегодня утром его будут судить иерусалимские священники, – быстро заговорила девушка, чуть улыбнувшись мне сквозь слёзы.
– А от меня-то чего ты хочешь? Я же ведь не вхожу в состав Синедриона.
Но, казалось, девушка не услышала моих слов, ибо она только повторяла и повторяла одни и те же слова.
– Они не простят его! Они никогда не простят Иисуса! У них приговор один – побитие камнями!
– Ты ему кем приходишься, сестрой или женой? – неожиданным вопросом перебил я причитавшую красавицу.
– Я? Я кто ему? Я ему… – девушка немного стушевалась, не зная, как ответить. Заметив её возбуждённое и неуверенное состояние, я тут же решил спросить свою посетительницу совершенно о другом, ибо и без ответа молодой галилеянки мне стало ясно, что она доводится проповеднику кем угодно, но только не женой.
– А почему не пришли ходатайствовать за своего учителя его ближайшие ученики? Почему прислали девушку? Где они?
– Не знаю, повелитель! Я не видела их после того, как Иисуса схватили стражники первосвященника в Гефсиманском саду. Отпусти его, игемон, очень прошу! Ведь он ни в чём не виноват! Поверь мне!
– Знаю, Мария, и верю тебе! Только поделать ничего не могу! Я не в праве отменить того, чего ещё не было. Суд Синедриона назначен на утро сегодняшнего дня, и приговор официально ему ещё не вынесен. Но скажи мне честно, ты кто ему? Если будешь утверждать, что просто прислуживаешь, не поверю! За хозяина так не просят! – вновь задал я свой вопрос, так как догадки оставались всего лишь догадками, но мне было интересно услышать признание из уст самой Марии.
Девушка ответила не сразу. Она стеснительно молчала, и затем, набравшись смелости, громко и даже чуть вызывающе сказала:
– Я его невеста! Я люблю его! Мне без него не жить!»
– Ну, если так, то иди и уговори своего возлюбленного бежать! Я предложил ему свободу. Империя наша столь велика, что, когда солнце восходит на одном её конце, на другом ещё властвует ночь! Иудея только сотая часть римского государства, поэтому спрятаться можно так, что вас никто и никогда не найдёт! Только вот он…
Мария перебила меня, не дослушав даже до конца. Она, кажется, поняла, что от неё требуется.
– Согласна, я согласна! Я уговорю его! – быстро заговорила красавица.
– Причём здесь твоё согласие, дитя, – продолжил я, даже не обратив внимания на то, что она меня перебила, – он не захотел бежать! Отказался! Умереть решил!
– Как решил умереть? Почему? Иисус отказался от предложения бежать? Он просто ещё ничего не знает! – сделала удивлённые глаза Мария. Она искренне не понимала, как и почему любимый ею человек добровольно отказался остаться в живых, не захотел бежать подальше от этого страшного города, где его ожидала близкая и жуткая смерть.
– Долго объяснять, Мария! Мне целой ночи не хватило, чтобы понять его и убедить. Одно я понял: твой жених решил умереть!
– Но я уговорю Иисуса! Разреши мне увидеть его, игемон! Разреши, прошу!
– Это невозможно, Мария! Твоего жениха уже увели в крепость Антония, в темницу. К тому же уже наступило утро, и скоро его оттуда поведут в дом первосвященника Каиафы. Там ведь состоится суд Синедриона? Время ушло! Ты, к сожалению, опоздала, Мария!
– Почему опоздала? Нет, нет, нет! Я не опоздала! Я… я заплачу. Правда, у меня сейчас нет денег, но я молода, мне всего девятнадцать лет! Я сильная, могу быть служанкой, я отработаю! Меня можно продать, меня купят, дадут хорошую цену… я согласна… – бессвязно лепетала девушка, и слёзы вновь безудержно потекли по её прекрасным щекам. Она судорожно начала что-то развязывать на платье, которое через мгновение упало на пол к её ногам, и красавица предстала передо мной полностью обнажённой. Глаза Марии были опущены вниз, и красавица-галилеянка, смущаясь оттого, что стоит перед посторонним мужчиной без одежды, старалась прикрыть чуть дрожавшими руками свою ослепительную молодую наготу. Девушка была не просто прекрасна, она была божественно хороша собой.
«Да, велика, видимо, её любовь к Назорею, коли, она готова ради него отдать своё тело на поругание, даже продать себя в рабство, дабы только увидеть его и спасти», – почему-то с завистью и грустью подумал я. – Оденься, дитя моё! Никогда не торопись стать рабыней, ибо свобода слишком дорого стоит! Верность твою уважаю. Тебя отведут в камеру к твоему жениху. Попробуй уговорить его, но времени осталось очень мало, об этом помни! Солнце, вон, уже, скоро взойдёт! Иди!
Я смотрел вслед уходившей девушки, даже не предполагая, что спустя некоторое время именно она, эта кроткая красавица из Меджделя, её нежное любящее сердце, создаст вечную и великую легенду о любви и верности своему другу и учителю. Пройдут дни, пролетят недели, минут месяцы, годы и даже столетия прежде, чем люди поймут и оценят благородный поступок Марии из маленького бедного и захолустного городка, чтобы потом в восхищении воскликнуть: «Прочь бессильный разум! Не место твоим холодным рассуждениям в великом деле веры и любви! Если мудрость не в силах утешить несчастный род человеческий, обманутый судьбой, то пусть попытается это сделать безумие. Где мудрец, который дал миру столько радости, сколько дала её полупомешанная Мария Магдалина!» Но не мне, к сожалению, будут принадлежать эти прекрасные слова, потому как я просто не доживу до того времени. Хотя кто знает…?
Глава пятая СУДНЫЙ ДЕНЬ
Крепость Антония. Горькие размышления. Неожиданная просьба за утренним завтраком. Скорый суд Синедриона. Триумф первосвященника. Лысая гора. Последнее слово осуждённого. Опасения главного жреца. Разбирательство в претории. Поездка в дом первосвященника. Ложные свидетельства. Подготовленный обман. Поражение. «…Вина за смерть Его на вас ляжет…». На площади среди толпы. Благодарность бывшего ученика. Роковое опоздание молодой галилеянки. Короткое свидание перед казнью. Прощание. Последняя дорога длиною в жизнь. «Сей есть Царь Иудейский». Доклад центуриона. Разрешение на погребение умершего проповедника. Тяжёлые размышления. Прерванный ужин. Странная просьба первосвященника. Предзнаменование.
Над Иерусалимом господствовал Храм. Построенный по приказу великого царя Соломона на высоком насыпном холме, он гордо возвышался над городом и как бы покровительствовал ему. Весь Иерусалим находился под сенью сего великолепного творения, охраняемый им, защищаемый и оберегаемый его святостью. Но власть Храма была неполной, так как над ним владычествовала и царствовала римская крепость Антония, возведённая сорок лет назад иудейским правителем Иродом. Мощные башни огромными гранитными истуканами возвышались там, где некогда находилась старинная Хасмонейская крепость, разрушенная до основания легионами императора Марка Антония во время жестокого и кровавого штурма Иерусалима. Долго строилась новая цитадель, много сил и жизней строителей было положено в основание её каменных стен и башен. Получив же имя римского кесаря, крепость Антония стала символом власти Рима не только над главным и священным городом Иудейского царства, но и над всей Палестиной. Почти полностью высеченная в скалистом грунте большой горы она напоминала огромный четырёхугольник и занимала весьма обширную площадь. Длина крепостных стен с востока на запад равнялась почти целой стадии, и на двести локтей они протянулись с севера на юг. Крепость ограждали массивные сооружения, такие же сложные и разнообразные, как сам внутренний дворец. По углам крепостных стен возвышались мощные башни, с вырытыми вокруг глубокими рвами, заполненными водой. Насыпные, крутые откосы и земляные валы делали цитадель Антония практически неприступной для лобовой атаки и штурма врагов. Внутри крепости находилась огромная квадратная площадь. Вымощенная массивными отшлифованными камнями и окружённая высокими аркадами, она поистине считалась сердцем крепости, так как вся жизнь её происходила именно там. На ней располагался мой легион, здесь обучались и тренировались воины, дабы не забыть свое военное ремесло, здесь находились прокураторская власть, закон Рима и сила его. Местные жители прозвали эту большую площадь Мостовой, произнося её название шёпотом или про себя, ибо дикий страх и ужас внушала она им. Как раз, на ней все римские прокураторы до и после меня оборудовали свои претории и чинили строгий и правый суд. Я не стал нарушать установленную с давних времён традицию, поэтому ещё накануне пятничного дня приказал установить судейское место в Антонии, вывесив над воротами крепости свой щит, дабы под этим знаком воинской доблести и государственной власти, данной мне Римом, утвердить или отменить приговор, вынесенный судом Синедрионом.
На земляном полу темницы, на ворохе прошлогодней, прелой соломы, лежал человек. Тяжёлой цепью его руки были прикованы к каменной стене, покрытой скользкой плесенью. Полная темнота, непроглядная, отдающая затхлой сыростью, гнилью и запахом крысиного помёта, окружала несчастного узника. Неподвижный взгляд пленника был устремлён вверх. Могло показаться, что каменный потолок подземелья совершенно не мешает ему видеть предрассветное небо.
Какие мысли были в голове у того человека, уже заранее считавшимся виновным? Ведал ли он, предполагал ли, что будет осуждён на смерть, или надеялся на помилование? О чём думал в тот миг несчастный узник, что вспоминал: детство, отрочество, юношество или родной дом, свою семью, друзей или первую любовь, а может жизнь на чужбине среди незнакомых людей?
Воспоминания-воспоминания! Они всегда чудесны и прекрасны. Не так уж важно плохими или хорошими были события, которые всплывают в человеческой памяти, ибо только в воспоминаниях можно вернуться в свое прошлое, от которого нельзя отказаться или убежать. И пусть даже ушедшие дни те были не самые радостные и счастливые, но горькие и трагические, а забыть их невозможно, так как они жизнью являются нашей. Давно и безвозвратно ушли в глубину бесконечного времени, потерявшись где-то среди пыльных дорог истории, многие события, которые, наверно, кому-то и хотелось бы выкинуть поскорее из своей памяти, но только не всегда получается это сделать. Да, и некуда от них убежать и невозможно скрыться, ведь они навсегда, помимо воли человека, остаются с нами в наших воспоминаниях. Вот это, как раз, и есть то единственное богатство человеческой жизни, которое нельзя ни украсть, ни потерять на дороге, ни проиграть и ни выиграть в карты, но которое можно прирастить и приумножить прожитыми своими годами, коим имя судьба! Какая она будет, не ведомо никому, ибо будущее всегда загадочно и неизвестно, непознаваемо и, главное, непредсказуемо. Правда, человеческую судьбу, скрытую за тяжёлым занавесом грядущих дней можно иногда предугадать, заглянув в минувшее время через человеческую память и воспоминания. Но вот увидеть и узнать истинное своё будущее – никогда! Если бы такое только было возможно, то скольких бы тогда ошибок смогли избежать люди и не совершить недостойных поступков, за которые они испытали бы чувство боли и стыда. Вот в чём как раз и заключается главная трагедия человеческого бытия – в невозможности вернуться в прошлое, дабы исправить его. Задумываться об этом надо всегда, чтобы не пришлось бы потом за неправедность, совершённую когда-то нами, расплачиваться ещё не родившимся нашим детям.
Так о чём же мог думать узник? Скорее всего, пленник в мыслях своих был далёк от воспоминаний давно ушедших дней. Хотя кто знает, кто скажет, кто слышал? Испытывал ли он, мучаясь в одиночной тюремной камере в ожидании суда, дикий страх и ужас перед грядущей неизвестностью? Металась ли, томилась ли душа его в тот миг? Ведь трудно осознать и согласиться человеку с тем, что вскоре закончится его земной путь, и он умрёт, а вот повторится ли в жизни, другой ли, третьей ли, так то ведь никому не ведомо, а тем более не гарантировано, хотя вроде бы и обещано. Смерти проповедник уже не боялся, так как успел привыкнуть к той жуткой мысли о том, что конец его неизбежен, просто ему очень было жаль, что ещё много он не успел сделать в этой земной жизни.
Узник чуть пошевелился и сразу же застонал от сильной боли. Избитое его тело нуждалось в покое, но не мог он долго лежать неподвижно. Однако любое положение, которое пленник старался принять – сесть, привстать, лечь на другой бок, или просто пошевелиться, доставляло ему жуткие мучения. К боли никогда нельзя привыкнуть, её можно лишь терпеть, скрипя зубами и кусая до крови губы. А вот кричать категорически не позволительно. Даже стонать не допустимо, дабы не потерять человеческого достоинства перед лицом тех, кто поставил перед собой цель жестокой болью и физическими страданиями низвести человека до уровня дикого животного, заставив того выть и визжать от долгих истязаний, моля о пощаде и взывая к милости.
«Да, по всей видимости, храмовые стражники мне переломали рёбра и отбили все внутренности, – подумал узник, с трудом сдерживая стон, решив всё-таки, что надо немного привстать и прислониться спиной к холодной стене. Он был болен, и чувствовал это, так как, будучи весьма хорошим лекарем, умел определять человеческие недуги. Сильный озноб и лихорадка бросали несчастного пленника то жар, то холод, доводя его до полного исступления. – Ладно, до утра немного осталось времени, потерплю как-нибудь!»
Он никого не винил в своей участи. Даже учеников, что без малого три года находились при нём, слушали его и жили его мыслями, радовались вместе с ним его успехам, ходили по Палестине, посетив все уголки её, но тут же покинули в дни испытаний и гонений. Пленник не ругал и не корил бывших своих товарищей.
«Конечно, же, друг не познаётся в счастье, и враг не сокроется в несчастье», – горько вздыхал и в который уже раз думал узник. Несомненно, ему было обидно и досадно, что близкие друзья, повинуясь его первой же просьбе, не оказывать сопротивление, сразу выполнили её и не стали драться со стражниками первосвященника, а в панике разбежались по саду. Действительно то было паническое бегство, когда, не оборачиваясь и даже не бросив украдкой взгляд, дабы посмотреть, что же случилось с их братом, почитаемым за учителя, они быстро скрылись в кустах, исчезнув, растворившись в темноте наступавшей ночи. Он сразу, как только храмовники вышли на поляну, увидел в глазах своих товарищей страх, причём дикий страх потерять свободу и жизнь, ведь они впервые по-настоящему столкнулись с силой власти иудейского общества и закона. Всего лишь три года назад его ученики были обычными рыбаками, добрыми, милыми людьми, но привыкшими подчиняться своему деревенскому старосте и в любом горожанине видевшими большого начальника, а здесь вдруг целый отряд вооружённых стражников с грозными словами: «Именем Закона», – окружил их и потребовал безропотного смирения. Стушевались простодушные галилеяне, оробели, испугались, подчинились суровому окрику старшины храмовников, поэтому и выполнили сразу же и безропотно его строгое требование. Нет, обиду пленник на них не держал, но поселилось всё-таки в душе у него чувство досады, что не бросились ученики его защищать, ведь тлела тогда в саду в нём маленькая искорка надежды, но всё-таки надежды, а не уверенности: «А вдруг они вернуться? Вдруг вступятся, защитят! Не позволят схватить! Отобьют его у храмовой стражи!» Но, «вдруг» не произошло. Ученики не вернулись.
«Прокуратор правильно говорил, осудив сей поступок как малодушие и трусость! Но он воин. А мне где взять лучше? Сам-то он отказался идти со мной! А что ученики мои? Возможно, они устыдятся своей минутной слабости и не дадут моим мыслям умереть вместе со мной? Дай-то Бог!» – горько усмехнувшись про себя, подумал узник. Об Иуде пленник даже не хотел вспоминать, навсегда изгнав того из своей памяти. Правда, был один человек, который до конца остался с ним. Его верная и любимая Мария. Она не убежала, не растерялась, не испугалась, а дралась, словно дикая кошка, дралась неистово и самоотверженно. Она защищала его до тех пор, пока её не ударили по голове, отчего та потеряла сознание. – Ах, если бы Пилат согласился? – появилась в голове осуждённого необычная своей неожиданностью смелая мысль. – Нет! Такого не могло бы быть никогда! Он слишком честный человек, да и я верен своим идеям. Мы с ним одинаковы и, одновременно с тем, очень непохожи, чтобы быть вместе и действовать заодно во благо единой цели, ибо видим её по-разному. Хотя… как знать, как знать, что там готовит нам будущее? А вообще римскому кесарю стоит позавидовать, коли у него все такие воины, как прокуратор.
– Что? Жизнь и ошибки прошлого вспоминаются? – раздался вдруг хриплый голос. Мрак постепенно начал рассеиваться. Через мгновение в дальнем углу темницы стало достаточно светло, чтобы рассмотреть фигуру человека, восседавшего на непонятно откуда появившемся массивном из чёрного мрамора кресле и одной рукой опиравшегося на трость с белым набалдашником на конце. Из большого серебряного кубка он пил холодную родниковую воду, такую свежую, что всего один глоток её мог бы придать узнику сил, если бы он смог бы испить этой живительной влаги. Пленник облизал шершавим языком свои пересохшие губы и закрыл глаза.
– Не хочется умирать? – спросил человек в чёрных одеждах, наслаждением сделав большой глоток.
– Не хочется! – ответил узник.
– Страшно перешагнуть за грань небытия? А вдруг того, на кого уповаешь, не существует? Уже жалеешь, что не принял предложения прокуратора? – усмехнулся кривоватым ртом незнакомец.
– Страшно, но не жалею!
– Прямо настоящий герой! Однако весь твой героизм основан на обычной человеческой глупости и упрямстве. Нет никакой жизни после жизни, нет!!! Я лично проверял. Это всё выдумки главного моего недруга! А я ведь предлагал тебе заключить со мной договор, вспомни? Разве не так?
– Помню! Предлагал!
– Может, сейчас пересмотрим наши отношения? Зачем тебе какой-то призрачный мир, которого никогда и никто не видел? Жизнь прекрасна, пойми! Ты молод, успешен, известен. Я сделаю тебя своим наместником на земле, ибо здесь мой мир, моя вотчина. Я дам несметные богатства. Ты сможешь купить на золото всё, что захочешь, хоть самого первосвященника, хоть прокуратора, или даже всю империю вместе с кесарем, – хохотнул нежданный посетитель. – А любовь? Ведь ты же познал настоящую любовь такой прекрасной женщины!? Подумай! У меня и договор уже готов. Подпишем его каждый своей кровью и породнимся. Согласен, Иисус?
– Ну, я уже один раз тебе ответил, Велиар! К чему все эти бессмысленные разговоры? К тому же у тебя уже есть помощник! Чем Иуда не наместник на земле? – устало проговорил Иисус.
– Иуда?… – с небольшой обидой в голосе переспросил человек, которого узник назвал Велиаром, – ты что же, надо мной смеёшься? С такими соратниками, как он, мир не переворачивают! Иуда жаден, а потому труслив. Он любит жизнь и не способен на подвиг.
– Ну, ты же ведь сам сказал, что я глупец, ибо отказался от твоего предложения, – засмеялся узник.
– Не передёргивай! Здесь речь идёт совершенно о другом, – вновь обиделся незваный гость.
– Зато мой бывший ученик не откажется ни от одного твоего предложения! Пригласи его, Велиар, пригласи! Он согласится тебе помогать. И ещё позови Каиафу, тестя его, Ханана, и остальных. Они так же все тебе помогут.
– Позвал! И они уже помогли, ибо ты здесь!
Противный скрип железных петель, от которого обычно по коже спины волной пробегают мурашки, прервал этот довольно странный разговор. Узник отвёл глаза от своего давнего и вечного спорщика и увидел, как вначале сквозь узкую щель открываемой двери темноту прорезал тоненький и слабый луч масляной лампы, а затем в камеру кто-то вошёл. Проповедник с трудом смог рассмотреть в пришедшем человеке старого тюремщика. Тот стоял перед узником и держал в руках кувшин с водой и краюху чёрствого хлеба. Старик случайно услышал из-за двери стоны и какие-то бормотания несчастного узника. Надсмотрщик видел, как легионеры протащили по коридору и бросили на каменный пол избитого проповедника. Ему стало жалко пленника, о котором говорил весь город, а потому и решил дать ему немного воды и пол-лепёшки.
«Человек всё-таки! Видимо, от голода и побоев свихнулся малость, если сам с собой разговаривает», – думал надсмотрщик, входя в темницу к заключённому. Старик хотел что-то сказать, но даже не успел поставить на пол кувшин и положить хлеб, так как буквально через мгновение в темницу, грубо оттолкнув его в сторону, вошли несколько легионеров с факелами. Глаза узника уже успели отвыкнуть от света, поэтому он, гремя цепями, ладонью правой руки закрыл их от яркого огня. Пленник не смог сразу разглядеть лиц пришедших к нему людей, зато услышал приказ, сказанный громким голосом.
– Вставай, царь иудейский! – крикнул один из римских легионеров и довольно сильно двинул лежавшего проповедника ногой. – Время уже пришло! Тебя ждёт суд Синедриона.
Солнце уже поднималось над горизонтом. Оно только-только начинало раскрашивать в розовые цвета серый, ещё не отошедший от ночной мглы, сердитый и не проснувшийся небосвод, по которому отдельными белыми островками плыли редкие облака. Спать этой ночью, оказавшейся такой бесконечно долгой и полной столь неожиданными, трагическими и бурными событиями, мне не пришлось.
Выйдя в сад вслед за молодой галилеянкой, которая, получив от меня разрешение на свидание с пленником, счастливая убежала в крепость Антония, я всё ещё стоял на террасе, погружённый в свои мысли, находясь под впечатлением от множества встреч, произошедших нынешней ночью. Воспоминания вперемешку с переживаниями так сильно захлёстнули меня, а утренний воздух, несущий в себе свежесть и прохладу прошедшей ночи, не отпускал из своих объятий, что я даже не услышал, как сзади осторожно подошёл слуга и тихо произнес:
– Завтрак в садовой беседке! – Думая, что его не услышали, он ещё раз, но уже чуть громче сказал: – Игемон, завтрак готов и накрыт в садовой беседке.
– Хорошо, иду, – ответил я и начал спускаться по ступеням террасы. Сегодня мне надлежало быть в претории и решить весьма важный вопрос: утвердить приговор суда Синедриона или отвергнуть его, помиловав осуждённого проповедника из Капернаума по прозвищу Назорей.
В саду под ветвями деревьев ранним утром было свежо и прохладно. В беседке за столом, несмотря на столь ранний час, сидела моя жена, Клавдия Прокула, отдававшая приказания своей рабыне. Я остановился и невольно залюбовался ее утончённым профилем, роскошными волосами, красивыми тонкими пальцами.
«Почему она поехала за мной в такую даль? Внучка бывшего императора Клавдия и дочь жены Тиверия – нынешнего римского кесаря, могла бы найти для себя более выгодную партию, например, какого-нибудь придворного вельможу или сенатора, но почему-то выбрала меня. Зачем?… Что она, царственная княжна, нашла в этой богами забытой стране?» – пришла мне в голову неожиданная мысль. Мы были вместе уже более десяти лет. И все эти годы меня удивляло, что же заставило ее, привыкшую к роскоши молодую женщину связать свою судьбу со мной? Ведь я был воином, для которого походная жизнь являлась более привычной, нежели спокойное существование и развлечения.
– Доброе утро, дорогая! Почему вдруг встала так рано? – я тихо подошёл к жене сзади и, нежно поцеловав её в обнажённое плечо. – Почему ты бросила Рим и поехала со мной на край света? – вдруг совершенно серьёзно прозвучал мой вопрос, своей неожиданностью удививший даже меня.
От внезапного прикосновения моих губ Клавдия вздрогнула.
Конечно, Клавдии здесь было скучно, и я это прекрасно понимал. Круг её общения ограничивался редкими, но интересными и увлекательными беседами с хранителем моей библиотеки. Когда Клавдия приезжала в Иерусалим, то всегда встречалась с Гамалиилом, который являлся, пожалуй, самым образованным человеком в городе. Мне же невозможно было уделять жене времени более того, что я имел, а его как раз и не хватало. Неотложных дел всегда скапливалось очень много, особенно в последние дни перед праздником иудейской пасхи, когда местные священники вновь жёстко подняли вопрос о нищем проповеднике из Каперанума, который, по их мнению, представлял страшную опасность для государства. В конце концов, духовенство и первосвященник добились цели – им удалось схватить давнего своего недруга.
Вначале, правда, могло показаться, что события прошедшей ночи должны были бы разрешить все спорные проблемы, но, к сожалению, задержание Назорея не только не уменьшило количество имевшихся трудностей, а, напротив, поставило передо мной ещё и немалые дополнительные вопросы.
«Иерусалим сегодня вечером будет бурлить. Возможны и волнения. Надо будет обязательно усилить охрану дворца», – подумал я про себя, садясь напротив Клавдии, которая, устремив на меня взгляд своих изумительного цвета тёмно-зелёных глаз, в ответ на мою нежность приветливо улыбнулась. Но вопрос относительно её приезда в Палестину очень удивил супругу.
– Я готова поехать с тобой куда угодно, ведь ты мой муж? – ответила Клавдия, ласково погладив меня по щеке.
– Но почему, дорогая? Разве жизнь в Риме, что ты оставила, сравнима с нынешней скукой, царящей здесь?
– Для меня это не столь важно, потому что я люблю тебя, дорогой!
За все те годы, что мы прожили вместе, я ни разу не пожалел о своей женитьбе на Клавдии, ибо не было у меня более преданного и верного друга на свете, чем моя жена. Я любил эту стройную и красивую женщину больше самой жизни, я научился чувствовать её настроение и угадывать её желания. Мне нравилось баловать жену и выполнять все её капризы и прихоти, порой весьма удивлявшие, но, по сути, это были не причуды взбалмошной женщины, ибо она никогда не имела неосуществимых желаний. Я прекрасно знал характер своей жены, а поэтому от моего взора не укрылось то, что сегодня, например, Клавдия встала очень рано и была чем-то весьма сильно обеспокоена, хотя и старалась скрыть от меня своё волнение.
– Что случилось, дорогая? Я вижу, ты чем-то озабочена. Может быть, нужна моя помощь? Говори! Те ведь знаешь, что я готов выполнить любую твою просьбу.
– Понтий, от тебя невозможно ничего скрыть, – смущённо улыбнувшись, ответила Клавдия, не зная с чего начать, и я вновь почувствовал, что какая-то тревожная мысль не даёт ей покоя. Мне даже показалось, что она стеснялась сказать о своей просьбе.
– Дорогая моя, не робей! Ты слишком эмоциональна и совершенно не умеешь скрывать свои переживания, ибо принимаешь всё близко к сердцу. Мне вполне очевидно, что у тебя есть какая-то деликатная просьба. Говори, я слушаю!
– Да, милый! Хорошо! Ты ведь, как прокуратор Иудеи, наверняка, уже знаешь, что по приказу первосвященника Каиафы храмовая стража сегодняшней ночью задержала и бросила в темницу одного беднягу, кажется, какого-то нищего проповедника, пришедшего, будто бы из Капернаума. Ну, помнишь, я как-то даже тебе про него рассказывала?
– Да, да, да!!! Что-то припоминаю, дорогая! – сказал я вслух, но про себя удивлённо подумал, – «Да, популярность проповедника действительно весьма велика в Иудеи, если к раннему утру об этом стало известно супруге прокуратора, хотя она только вчера поздней ночью прибыла в город».
Клавдия внимательно смотрела на меня и ждала моей реакции на её вопрос. Не нужно было обладать особой интуицией, чтобы почувствовать, как ей в данный момент очень хочется услышать мой утвердительный ответ.
«Сама наивность, – вновь подумал я, – видно, она забыла, что мы живём вместе не один год, и её характер мной изучен досконально. Она ведь прекрасно знает, что я помню наш последний разговор относительно проповедника, но желает, чтобы я лишний раз подтвердил, что не забыл ту нашу недавнюю беседу».
Мне уже была понятна примерная тема предстоящего разговора. Моя жена просто хотела замолвить слово за проповедника. Я с большим интересом наблюдал, как она собиралась попросить о снисхождении к оборванцу, пришедшему из Галилеи. Клавдия сейчас пребывала в весьма сложном положении. Она мучалась сомнениями, подыскивала нужные слова, ибо понимала, что ей, жене римского прокуратора, не совсем удобно выступать просителем за какого-то иудея. Ведь я вполне мог спросить её, мол, почему вдруг она, просит о милости к незнакомому ей человеку? А потом я ещё мог поинтересоваться, откуда она узнала о том человеке, за кого просит, ибо никто и никогда не будет просить за кого-то, не имея на то веских причин. Наивная моя и добрая Клавдия даже не предполагала, что мне известно абсолютно всё о её тайной поездке в Кайфу. Ну откуда она могла знать, что мои соглядатаи ведь для того и нанимаются на службу, дабы человеку, платящему им деньги из государственной казны, быть в курсе всех дел, которые творятся на подвластных ему землях. К тому же Клавдия, как жена первого человека в Иудеи, является слишком заметной фигурой, чтобы её не заметили те, кому это положено делать, пусть даже во время путешествия она была переодета в обычное платье. Несколько раз мне доносили, что моя жена, переодевшись в одежды простолюдинки, тайно, в сопровождении своей любимой рабыни и без охраны ездила в небольшой городок, что располагался на побережье Средиземного моря севернее Кесарии. Я же в то время находился в Дамаске у легата Сирии. Правда, здесь мне следует открыть нашу семейную тайну. Жена моя года четыре назад внезапно заболела. Тяжёлый недуг мучил её жестоко и беспрестанно. Никакие эскулапы не могли помочь Клавдии и прочили весьма печальный конец. Ей советовали съездить на Киллирое, целебный источник с горячими серными водами, но и та поездка окончилась безрезультатно. Однако, нашёлся один единственный лекарь, который смог помочь моей Клавдии, и как ни странно, тем человеком оказался нищий проповедник из Галилеи. По утверждению соглядатаев Назорей только прикоснулся к её голове своей ладонью и сказал: «Боль твоя и все твои недуги уйдут и больше никогда не вернутся. Живи спокойно и счастливо, сестра!» После той встречи Клавдия, действительно, стала чувствовать себя значительно лучше: пропали боли, а приступы, преследовавшие и мучившие её последние несколько лет, прекратились вообще. Прошло всего несколько месяцев после поездки моей жены в Кайфу, и я обратил внимание на то, что Клавдия начала внимательно слушать всех, кто рассказывал ей хотя бы что-нибудь о том удивительном проповеднике из Капернаума, и даже что-то записывала на пергаменте, сидя в библиотеке. Вечерами, когда у меня выдавалось свободное время, и мы гуляли по саду, она часто с восхищением пересказывала всякие разговоры и слухи о чудесах, творимых Назореем, которые передавали ей её рабыни, сами услышавшие эти вести от всякого нищего сброда на городском базаре. Я никогда не спорил с ней по поводу чудесных способностей проповедника. Мне ведь было известно, что он имел много приверженцев и последователей своего учения, а люди, видевшие в нём пророка, приписывали ему иногда то, чего и не существовало на самом деле, но оспаривать сей факт с моей стороны было глупо. Ведь в задачи прокуратора входило обеспечение порядка в Иудее, а деятельность капернаумского проповедника не нарушала спокойствие империи. Однако я всегда сомневался в нём как в чудотворце. Ну, как можно было поверить в то, что он-де пятью хлебами и двумя рыбами насытил чуть ли не целый легион голодных и нищих? Вот только где это произошло, точного места не называли. Однажды мне даже докладывали, что кто-то видел Назорея гулявшим по водам Тивериадского озера, а тут вдруг слухи пошли, что оживил он где-то даже умершего человека, подняв того одним своим словом из гроба. Многое, конечно, люди придумывали, приукрашивали, поэтому поверить в совершённые чудеса было выше моих сил. Правда, Клавдию я слушал всегда очень серьёзно, ни разу не улыбнувшись, ибо не хотел обижать её, коли, была она такой доверчивой и доброй.
Итак, я сделал вид, что вспоминаю кое-что о том нашем давнем разговоре, и, конечно же, вспомнил, а поэтому после некоторого раздумья твёрдо сказал:
– Да, дорогая, я естественно помню ту беседу! Ну, и что ты хочешь, чтобы я сделал?
– Милый, я знаю, что проповедник тот схвачен храмовой стражей по приказу первосвященника и брошен в темницу Антония. Его оклеветали, и поэтому ему грозит смертная казнь. Воспользуйся своим правом римского наместника и наложи вето на приговор. Я не хочу, чтобы его наказывали так жестоко, он ведь не делал и не делает ничего дурного, а только лишь помогал и помогает людям. Прояви милосердие, и тебе воздастся. А потом мне сегодня приснился сон такой страшный, что…, ну, о том…! – взволновано говорила Клавдия, и я видел, как её глаза наполнились слёзами, готовыми через мгновение извергнуться бурным потоком по её прекрасным щекам, – ну…, не надо делать ему ничего плохо! Я очень прошу!
Она не хотела говорить мне о своей тайной поездке и потому старательно пыталась придумать причину своего внезапного интереса к судьбе несчастного проповедника. Тонкая её натура не могла скрыть своего желания помочь несчастному, дабы тот избежал страшной участи быть побитым камнями под стенами города.
– Хорошо, дорогая, хорошо! – поспешил я успокоить свою жену, – ты ведь знаешь, Назорей ничем не угрожает римской власти. Это внутреннее дело иудеев. Я же ничего не имею против проповедника, да и деятельность его мной никогда не запрещалась. Его задержали сегодня ночью по приказу первосвященника Каиафы. Ко мне уже приезжал гонец от главного жреца и привёз приглашение участвовать в сегодняшнем заседании суда Синедриона. Думаю, они хотят втянуть меня в свои интриги, чтобы я утвердил приговор, который хитрые иудеи уже вынесли. Сделаю всё от меня зависящее, дабы выполнить твою просьбу, дорогая моя. Не волнуйся!
– Ты отпусти его своей властью, ибо миловать осуждённого есть полное право прокуратора Рима. Тебя же все и всегда будут вспоминать по-доброму. Относись к людям так, как если бы ты хотел, чтобы они относились к тебе! – радостно заговорила Клавдия. У неё даже порозовели щёки и заблестели глаза, когда услышала от меня обещание выполнить её просьбу.