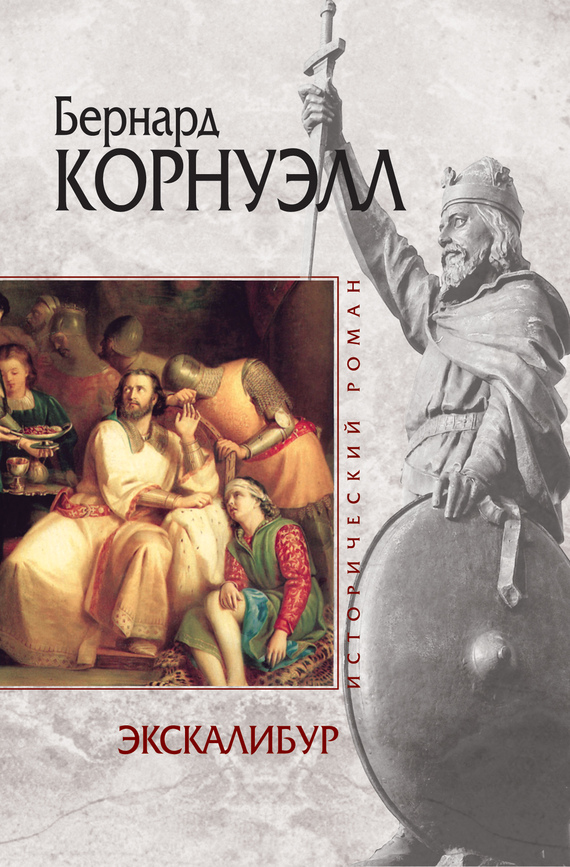Стулик Парисов Роман

Домой я ехал обнадёженный. Почти счастливый.
…ударить-то ударим, а даст ли директор Пал Палычу столько предоплаты – это же на три фуры рублей почти миллион?.. (Эх, Кубаньщина, житница-кормилица, это как тебя угораздило к буржуям сунуться, и за чем? – за рогами-копытами!..) Нет, генеральный точно с Палычем в доле – сейчас даже за мясо вперёд никто не платит, а тут, видишь, какое-то сердце, прочие субпродукты… (Поймёт ли народ?) Ну, мне до этого… Задумчиво набираю Пал Палыча.
(…непостижимы выверты памяти – крутятся под гудки в трубке весёлые картинки: конференция в Сан-Себастьяне, делегация российских колбасников на морской прогулке. Директора крупнейших мясокомбинатов в шортиках и чёрных очках, оккупировав корму, нарезают на газетках колбасу под водку. Каждый свою нахваливает. И – шторм, качка. Что-то всем нехорошо. По очереди начинают складываться через поручень в приступах морской болезни. Подыхают со смеху, подходят и опять блюют… Пал Палыч активней всех, явно играет на публику. Багровое выпученное лицо, гогот вокруг, заглушающий морской ветер…)
Алё?.. Нет Пал Палыча. На семинаре он, по маринованию.
Вчера опять к телефону подошла мама Анна. Таинственно, вполголоса: Роман, чуть попозже, у неё Марина. – Какая Марина? – Ну, наша Марина. – Так… они же в ссоре. – Ну… вот она и приехала помириться, говорит Светлашке – встречайся с кем хочешь, мне главное – чтобы тебе было хорошо…
Я в спортзале, в сауне, в солярии, в джакузи. Я везде – и нигде, что-то делать надо, а не находится места. Повсюду со мной безмолвный телефон. Нашла-таки способ, чёрная ведьма. И затюкала в мозжечке обида, а на подступах уже глухая ярость…
Мне – ни звонка! Бурая пелена накрывает всё, я смотрю на мир сквозь пелену…
К чёрту всё.
Через пару часов мама Анна сообщила, что болей вроде сегодня не было, и она отпустила Светланку посидеть с Мариной в кафе… Я где угодно, только не дома. Вдруг я на Арбате (??!), пытаюсь осмыслить, понять, оправдать, я не желаю принимать, что задвинут. Кое-где у метро остались ещё Светины плакатики: «То, что нас объединяет».
Света, Света, вспомни лето, повернись к Марине задом, ко мне передом.
А телефон молчит, и я прислушиваюсь к тому, как гулко бьётся сердце. Каждый удар сердца отдаётся пустотой. Стемнело. Как я очутился у её подъезда?.. Папа Сан Саныч встречает меня с собачкой. То есть… конечно, не меня. Просто: гуляет с собачкой.
– Скоро обещала подъехать, – говорит Сан Саныч, щурясь сквозь толстые линзы.
Что-то есть в нём неуловимо Светино. Чувствую – симпатичен я ему. И мне тоже с ним уютно. Вот и сейчас – монотонно грузит меня автомобильными темами. (На его шестёрке, видишь, шаровую скоро менять.) Я что-то там поддакиваю, приятно мне быть в доверии. Как всегда. Почти зятем.
Нет, не въезжает Сан Саныч в моё состояние.
– …а Светка… Ну что ты хочешь? У неё, я понял, главная мысль пока – погулять. Вот придёт время, втюрится в одного – и гулянке конец. А пока… – он махнул рукой. – Ну а к тебе, Роман, она очень хорошо относится.
Нет, не въезжает Сан Саныч в наши отношения. Не знает он про нашу любовь. Говорит мне как бы: а на что ты рассчитывал с моей дочерью?.. Глупо развивать дискуссию.
…если я сейчас с ней серьёзно не поговорю, завтра всё будет не так. Я дождусь её, дождусь. Что скажу ей я? Да хотя бы… Светик. Я ведь чувствую, что ты со мной совсем другая. Я не игрок в одни ворота. Давай ты подумаешь, нужен ли я тебе и что вообще у тебя внутри творится, а после сама позвонишь. Или не позвонишь…
Подарю цветы, поцелую…
Улыбнусь на прощанье. Красиво? Благородно?!
Вдруг отдаю папе заготовленную жёлтую орхидею, жму ему руку, направляюсь к машине. Не дождался тебя Роман, скажите.
И мобильный даже выключил в сердцах.
Она подъехала через пять минут, показал мой домашний определитель.
Как я жалел полночи – о том, что выключился, о том, что не дождался, не поговорил… О том, что приехал вообще!
Откинувшись в кресле, я уставился на балкон. У меня прострация. Лицо, наверно, полоумного выражения. Подвисла-застыла-застряла воздушным шариком у потолка недожилованная рулька.
– Смотри, мелюзга, какие огромные зёрна в моей кормушке! Золотые!.. И блямбы у меня какие королевские – учись!.. – орёт Лавруша. (Он же Пал Палыч.)
– О старший брат. Пускай я невелик – мне суждено кормиться мелким «Триллом» – но я не променяю сердолик на грубое сияние берилла. Достоинство моё другого рода: простую душу мне дала природа! – заливисто парирует Кирюша, почему-то ямбом.
(Наш ответ Пал Палычам.)
Резкий, нереально резкий звонок.
– Ало. Роман?.. – (Тяжёлый, железный голос.) – Это Лобанов, по субпродуктам. Павел Павлович у нас на учёбе…
Скрипнув, подпрыгиваю в кресле, принимаю рабочую стойку. (Сам генеральный, однако! Как серьёзно всё. У-у-у!) Стряхиваю хандру. Округлив глаза, соображаю.
– …Я так понял, вы с ним в хорошем контакте. Он говорил о вас как о человеке надёжном. – (Голос металлический – с мобильного: для секретности!) – Мы готовы перечислить предоплату через месяц. Э-э-э… наша дельта , наличными, нужна бы нам до товара…
(«Вопрос улавливаешь?..»)
…как не уловить. На хрен не дались вам субпродукты. Денег на карман хотите скорее. Так же, как и я. Схема простая, распространённая. С первого же грузовика высвечивается там десятка. И всё же – вот он, контракт! Давняя мечта моя прорваться куда-то… На новый уровень.
И… эх, не успел ответить я Александру Христофоровичу, что никаких проблем; не успел чисто интонационно, этак невзначай, абсолютную искренность и компетентность свою выказать, как умею обычно. «SVETALITTLE», «SVETALITTLE», пролетающая в ожившем экранчике мобильного, ошпарила роем горячих мурашек, и потерял я на миг ту нехитрую нить рабочей беседы, и повис, замирая от внезапного отроческого счастья, между двумя мирами… Мне бы, конечно, тут же остудиться – послушать ласковую трель для вдохновенья, проигнорировать её вроде, употребить в воспитательных целях, перезвонить потом… Да где там! Запамятовав уже как-то, кто в левом ухе моём и чего ему надо, бросаю что-то вроде «извините, чуть попозже», и отмершая трубка, набрав инерцию, вслепую падает на место.
– Ал-л-лё! – (Бодрость! уверенность!)
– Пр-риет, Рём, как дела.
– Весь в работе. Тут такое может завариться… – (Оптимизм! самодостаточность!)
– А. Мы просто вчера с Маринкой долго, потом ещё подошли люди…
– Я понял. Ну, и… как Марина? – (Благородство! снисходительность!)
– Нормально… Это не то, что ты думаешь.
– Нич-чего я не думаю! А я сделал кипрское видео! – (Жизнелюбие! интересность!)
– У-у-у… пешком бы дошла, лишь бы одним глазком…
– Значит, в субботу – генеральный просмотр! Скажи: «Ура!». – (Инициатива! искромётность!)
– Ой, нет, только не в субботу. Я хочу завтра!
(…а в субботу – с Мариной на дачу?..)
– Как скажешь. – (Уступчивость! немелочность!)
– Ой, Р-ромик, Р-ромик, ну как там Кирик с Лаврушей?!!…
Ну конечно. Попугаи! То, что нас объединяет.
Несколько угольных, упругих, мазких нажимов, вычерчивающих зрачок – и застынет вечной рукотворной улыбкой, невинной и умной, моё пастельное чудо. Мгновения, ушедшие мои горькие и вдохновенные, несчётные секунды спрессуются наконец и явят миру образчик искусственного времени, остановленного вручную. (Меня опять заносит.) Обострены тончайшими резкими линиями смягчённые было растиркой контуры, выбелены ластиком блики на уже почти живом, почти том самом лице, чуть напряжённо замершем в ожидании прозрения…
Что-то не даёт мне.
А ведь пока не закончу, я не избавлюсь – от чего бы только? – подумалось вдруг просто, с непривычной лёгкостью, невесть откуда сошедшей, впервые за последние чёрные дни. И кто-то – без меня, вне меня, за меня, помимо меня – задумчиво выписал те самые два шарика, две незамутнённые сферы с перепадами света и мёртво-чёрной точкой посредине, полные уже своей хрустальной жизни и невесомые, как бабочки после бури.
«Если ты у меня есть, то я самый счастливый ребёнок на свете!!!»
Я шпионю. Подсмотрю при случае на Светином телефоне отправленные SMS. Вот и сейчас. Кому это, кому?! Известно кому – Марине. Вот она, латентность бытия – на миг как будто я счастлив. Как будто мне. Из неполученного.
В эту пятницу вообще всё кувырком – пятница, тринадцатое. Вместо торжественного показа смонтированного видео я долго вызванивал ей куда-то в бильярдную, она же отвечала недовольным криком, что играет и что ничего не слышно. Потом, с какими-то вдруг подружками, захотелось ей в «Кабану», но Сан Саныч непреклонен: «Куда ночью – только с Романом». (Ей-богу, если бы не он, и не подумал бы я ехать.) Но, загоревшись возложенным доверием, подъехал прямо в бильярд к возбуждённой и надутой Свете, чтобы иметь напутственное собеседование по её мобильному с железным папой. И за несколько часов игры заплатить – заодно, из благородства.
«Ну уж сегодня я точно всё тебе выскажу», – с обречённой твердостью думал я.
В «Кабане» после шоу, как всегда, сидим в ресторане. Всею душою силюсь улыбаться – спокойно и надёжно. Она бегает вокруг глазами, сливая меня с плоским рядом видимых объектов. По-новому как-то, по-тинейджеровски стервозно, скалится поехавшими глазками. И вижу я: этой неузнаваемой, поверхностной Свете очень, очень хорошо. И последнее Маринино SMS, гарант надёжного тыла, у ней на курносой рожице. И свежайшая радостная весть – Марина с Фисой разругались вдрызг! (Маринкин друг снял ей в сюрприз красивую девчонку, а та оказалась Фисою… Тут и не поделили что-то, наверное.)
И разговора не вышло – Света была развлечена стриптизёром Сашей, который, расспрашивая про Кипр, всё млел от её загара, всё норовил приблизить губы к её колокольчиковому профилю, и несколько раз я видел, что она теряла грань и нить, попадая в поле его дыхания, а когда отошёл к кассе спросить якобы что-то у официантки и резко обернулся, они были уже далеко, они были уже друг в друге, как перед первым поцелуем…
А кстати: Света пришла сегодня исключительно на Сашу. (Шутка.)
И бабочку свою надела для него. (Тоже шутка.)
О читатель! Что должен был я делать? Развернуться да уйти?! Банально. Леденея, я и смеялся одновременно, да – горько и саркастически хохотал про себя над всеми этими цветистыми метаморфозами, давая ей совсем уже опуститься предо мною в безликий ряд глупых кокетливых сверстниц, чтоб облегчить таким вот образом мою задачу.
Но сама она вовсе и не опускалась никуда. Она просто была собой, ничем и никем не напрягаясь – как и в любой другой компании. Так бы она вела себя без меня, до меня… Только сейчас, следя за происходящим, как за неким фильмом, я вдруг ухватил за хвост эту простую истину и уже всё последующее наблюдал в оцепенелом недоумении: как, зачем, почему я втюрился в неё – в такую?! Как получалось у неё тогда быть совсем другой, ведь это тоже была она?.. или играла? И неужто я действительно был способен пробудить сколько-нибудь серьёзную тягу к чувству в этом испорченном и несерьёзном человечке?..
Мы всё-таки поехали ко мне. В машине она равнодушно свернулась таким безупречным калачиком и глухо проспала до дома, оставив меня с моим тупым бременем, причём сладостные потягушки пробуждения вовсе не обещали мне его разрешения, но предвкушали некую скорую встречу, составляющую для неё смысл приезда – и до рассвета, забыв про свои клетки, кружили над восторженной девочкой моей Лавр с Кириллом, и метались от неё, и орали, и хлопали удивлённо затёкшими крылами, аплодируя что было мочи неведомой свободе, и сеяли по ковру чёрно-белые гранаты, размечая уже вдоль и вкось будущие свои территории.
И только с восставшим солнцем изловили мы партизан да упихали по клеткам, а я, заведённый и десять раз перегоревший, стянул с неё тот умелькавший меня синий пеньюарчик. Под ним была она – она, две недели нецелованная, такая вдруг ослепительно-голая, такая возбуждённая после попугайчиков, но неготовая как бы ко мне… что застоявшийся мой запал повис и сник, совершенно неуверенный в своей нужности. Я, я… я целую её во все косточки, я пытаюсь транслировать чувство, но внутренний позыв, уже непривычно загашенный и вялый, так и не приходит вовне. И Света, было подавшись и размякнув от ласки («Как давно этого не было…»), открывает с упрёком глаза:
– Как интересно. Сейчас выйди на улицу – у любого встанет, а у тебя…
Я поработал над собой – и вырвал у неё несколько стонов, удерживая от улицы. Глаза её были закрыты, всё время закрыты… (Как будто скрывали, что лично для меня нет в них ничего.) И кончил я еле-еле, скупо, не понимая, зачем и для кого. (Это что, всё?.. Неужели – всё?!)
А поутру не мог понять, что за переполох. Неодетая Света металась по комнате, заглядывая в мобильный, что-то отчаянно от него хотела… Что случилось? – Ничего, Ром. Ни-че-го. Закрылась в ванной, и сквозь мерный шум воды я, подскочив, замерев и не дыша, улавливал обрывки разговора, по которым тут же, неровным и натруженным шестым чувством, стремительно реконструировал истину – субстанцию пресную и мало кому нужную, но мне почему-то абсолютно необходимую. Как раз тот момент!.. Вот-вот прорвётся как-нибудь мой нарыв и, вооружённый знанием, получу я наконец своё моральное право.
У неё что-то срывалось. Я был неоспоримый номер третий, вариант до боли запасной, который легко всегда откинуть, и в такой вот лёгкости, подвешенности, наступившей враз свободе от статуса любимого болезненно предчувствовались мне уже некие перспективы мазохистского, мстительного поругания моего опустелого храма.
Короче, чего там. Так хотела на дачу к Маринке… проспала, а та обиделась – не отвечает… да что делать, ничего я не хочу уже… поласковей? С ним? Я стараюсь… Пашка такой: к-тё-о-нок мо-ой, ты же знаешь, как я тебя люблю… зовёт на скачки. Это… ма-ам! У меня прыщик вскочил! на губе!… Ой, вчера Сашка так приставал, свидание назначал уже… хи-хи… кадрилась-кадрилась… Ой, мам, ну сколько можно – всё Рома да Рома!.. У нас нет нигде дома адреса Маринкиной дачи?!…
Вода осыпалась ровно и торжествующе. На кухне подгорали помидоры. Попугаи перебранивались в клетках. И перепёлка на балконе снесла ещё одно яичко. Мир… оставался пока на месте. Но уже качнулся, ощерясь шатким и прозрачным основанием, готовый лететь в тартарары.
…ой, Светик, как я забыл, мне ведь сегодня по контракту. Через час ждёт человек на Красносельской. С документами. Очень, очень важный человек. Большие деньги там. Сейчас я тебе вызову такси, а сам поеду.
Бред. Такой неожиданный бредок.
– Ой, а я тогда Кирюшу заберу – мне мама разрешила, пока у нас собака на даче?..
13:00–22:00. Она не звонит.
Я над нашим альбомом, я брожу по альбому, ухватываю её разной, я вживаюсь во все фотографии, от начала до неконченного конца, проникаю в тогдашние настроения и расположения, и всё задаю этой кривляющейся детской рожице один и тот же вопрос: как так получилось, что ты стала для меня аксиомой?.. За которой, стоит сделать решительный шаг вовне, нависает уже такая оглушающая пустота, такой беспросветный сосущий зёв, что вопреки всей логике и диалектике событий, против элементарного смысла цепляюсь я за свою разваливающуюся скорлупку, латаю её собственными соками, сорокалетний смешной птенец, боящийся продрать глаза на жизнь?!!
Это вопрос не ей. Этот вопрос задай себе.
…Светик. Послушай меня. Мы очень разные. У нас разная… шкала ценностей. Между нами 24 года. И… ты не готова к тем отношениям, которых сама так хотела. И… у меня нет гомосексуального приятеля, в которого я пожизненно влюблён. И… разберись со своими Пашами, Сашами. У тебя ветер в голове. Мне всё это дико. Я горю одной тобой. Позвони мне лет через десять…
22:03. Я открываю водку и набираю номер.
07:20. Розовое солнце на прозрачной занавеске – но это уже другое солнце, холодное и равнодушное, это солнце без меня, встающее потому, что так надо вечности, потому что так было и будет. А я лежу без сна перед наваливающимся рабочим утром, растаяв в пустоте. В налитой утром оранжевой комнате, в чёрной пустоте. Как интересно: вокруг предметы не остыли ещё – дышат прежней жизнью. Но мир другой – в нём уже нет её. Так просто: мир обессветел . Рассыпался вмиг, как аннигилированное чудовище из фильма, при том бесстрастно сохранив свои формы. Чуть помедлил на краю и стремглав полетел вниз, бесстыдно при том оставшись на месте… И мой единственно верный, мой правильный выбор с того невозвратимого треклятого «вчера» ласковой бессонницей одобрительно присосался ко мне.
23
Мягчайшие три четверти, приподнятые бровки. Идиллически прозрачные зрачки жалобно распирают веки. Просятся наружу… ко мне! Вот оно, застывшее мгновение – с сентября по самый по декабрь.
Вот. Наконец ты смотришь на меня ласково. Ты – такая, как должна быть. Такой тебя сделал я – себе. Очистил от всяческих наносных плевел.
…послушай меня, хорошая моя девочка. (Ты же внутри – хорошая?!) Только я вижу твоё «внутри», кому ещё оно там нужно! Кто ещё бы так искренне да всерьёз раскрылся тебе?.. Какой ещё сорокалетний идиот выворачивал так себя перед тобою?! Вникал в твои лошадки, радовался твоим капризам?!
…а ведь были, были же счастливые мгновения, когда видел только себя я в твоих глазах, и ради доверчивых этих искорок рад был и обмануться, и не заметить, и простить! А потому что неожиданно – от души шёл тогда порыв твой… Ох и возликовал я, и возгордился: через меня, меня свершилось это чудо! Я – изменяю – мир!.. Смотрите-ка – почти уже пробился сквозь равнодушный пафос этого птенца…
И вот, не рассчитав накала, растянулся на циничных потрошках, заботливо разложенных в кормушке всё тем же мудрым кукловодом по имени Жизнь!….
Неспавший, выйду к первому солнцу, колючему, сухому – на пустой балкон… Перепёлка! – холодно тюкнуло в мозгу. Крылья отросли – и стало близко небо… Только яичко на прощанье оставила – в углу.
«…ещё одно яичко». Бегут, все от меня бегут.
У меня остался один попугай, только один. Зато большой, маленького она взяла, ну и кассета с Кипром тоже у неё, надо же было так. То есть на руках у меня козырей-то нету, если не считать глупого Лаврушу…
Отыгрались, что называется. Два сыночка без алиментов. Ну, и дочурка – без вести пропавшая.
О пунктиры неостывшей родности, ударьте в её светлую головку… И мнится мне уже спасительная и абсолютно неизбежная телефона очередь – за каждой фразой душа, за шёпотом дождя…
И?! Придумался вдруг прикол, да такой, после которого – казалось – всё просто напрочь прощалось, забывалось, отбивалось и тут же автоматически начиналось сызнова. Я зачарованно вывожу на мобильном:
«Mirites’ skoreye. Rrrrrromka khot’ i durrrrak, no khorrrroshiy. Nam bez tebia plokho! LAVRUSHA».
Минут через десять – окрылённых метаний по комнате, жизнеутверждающих нечленораздельных возгласов и порхания под самым потолком – был ответ:
«Lavrik, ne skuchay. Skoro ya tebia zaberu».
– …ну и что? – лицо обыкновенное, фигура девочки двенадцатилетней… А ты сам дал себя оседлать – вот она и возомнила о себе невесть что…
Надо мною сто тридцать. Хорошо бы сделать на шесть да почуять грудью ту самую звонкость, ощутить прилив бодрости. Прилив самоуважения. (Что-то Сева-тренер раскомментировался, не знаю я его таким.)
– …любовь? – нет никакой любви. То есть она, может, и есть, но как привязанность, м-м-м… необходимость существовать именно для тебя. Вот. То есть: ты должен быть для неё настолько сильным, чтоб реально привязать к себе, чтоб она без тебя, как без воздуха…
Я балансирую на грани. Тренировка вводит в тонус, но зажигает окошечко вечернему рому, веселящему, вселяющему веру в чудеса. Ром даёт подпитку с той стороны. С этой – опять же спортзал, послевкусие себя – сильного. (Ноги я забросил; да и хрен с ними.)
– …ну и что это? – суслик какой-то. Тьфу. Забудь. Тебе сороковник скоро, денег бы заработал нормально. Вот спорим: денег настрогаешь – она тут же и прибежит. Они все…
Надо выжать на шесть. Во что бы то ни стало – на шесть. Шесть – счастливое число, и значит, всё ещё будет! Мне бы только вжиться в квадратуру жима, додавить по паре, на три…
– …так, сам, сам, сам!! Э-э, нет, десятку минимум снимать надо… А вообще-то… если, скажем, отключить все эти условности… ну, мораль, уголовный кодекс… так я бы и сам какую-нибудь двенадцатилетнюю трахнул.
И я сломался первым, не в силах более выносить несправедливости нашего противоестественного отдаления, нарочитого стирания друг друга – друг в друге. Не желая более выдерживать ежесекундную муку безвестности, усугубляемую неумолимым ходом бесстрастных единиц времени. Впервые за пять лет надел зачем-то я костюм и повязал привычным движением шикарный галстук – ну да, был бессознательный позыв сообщить посыл успешности, независимости, мужского шарма. Не сказавшись, каким-то ещё тёплым вечером рванул я на проспект Мира – с отпущенной душой, верхом на пушечном ядре, с охапкой роз и грёз, уверен в неотразимости такого импульса.
Светы нету. Света в кино, в «Пушкинском», на премьере «Олигарха». Глаза у мамы Анны строги и печальны.
– Я бы на вашем месте так не делала, Роман. – (Типа, я, взрослый, вероломный, бросил её дочку!) – Подождали бы, когда она выздоровеет, а теперь… попытайтесь, конечно, но вообще, если она что-то решила, уже очень сложно. И того, что было, конечно… уже не будет.
Ещё как будет, и ещё лучше будет! Чувствую силы в себе великие, есть у меня на Свету один приёмчик…
– Какой-какой, Роман, скажите! – оживилась мама Анна…
Удалилась воодушевлённая.
Вышел на лестницу папа Сан Саныч – покурить.
– Да детство ещё, Роман. Вот нагуляется…
Так я ж не против, должна же быть у девчонки степень сравнения!
Провёл я на лестничной клетке часа два – балагуря, поддержанный семьёй.
И когда полновесно и однозначно ухнуло на этаже, и неизбежностью перехватило сердце, и выпорхнули раскосо из лифта облачённые в клёш родные стебельки и тут же замерли перед коленопреклонённым препятствием… – и вылетели из головы все приёмчики да заготовленные фразы, и рассыпались удивлённо успешность с независимостью, и голая правда последних дней претворилась во взгляде, и осталась в ней только – израненная, еле дышащая, беззащитная и немая – осталась одна…
– Не прит-р-р-рагивайся ко мне!! Ты чего пришёл?! Это что за прикид?.. Ты что, не понимаешь – то, что со мной происходит, это не обида, как ты выражаешься, – нет… это можно охарактеризовать одним словом: раз-оча-рова-ние!!… Хорошо. Хочешь ещё один шанс? Но… забудь о том, что было – всё будет, как будет!….
Господа! Как объяснить сорокалетнему подростку, что ну не стоит вся наша ситуация той неизбывной скорби, того переполненного сожалением ежесекундного копания в прошлом – в бесплодных поисках ответа на вопросы, того постоянного изматывающего напряжения – в поисках тона для звонков как ни в чём не бывало, той безапелляционной отрешённости ото всего, что не имеет хоть малейшего касательства к тебе, о узкогрудая самовлюблённая нимфетка, уложенная в центр бытия?! Не стоит – остекленелых, мёртвых глаз моих – мимо, поверх, сквозь, кроме – книги продаж, списка клиентов, графика отгрузок?.. Искреннего недопонимания и озабоченности давних партнёров, пусть Валентин Кузьминичен да Пал Палычей?!
И уж конечно, той жирной забытой кляксы на несужденном контракте, того повисшего в воздухе многоточия – в планах на лучшее будущее.
Между тем, освобождённая недавним телефонным заявлением от каких бы то ни было обязательств, моя распоясавшаяся девочка, в отместку или по проявившемуся в одночасье бесчувствию, решила вить из меня рога. Да, она будто вдруг обнаружила моё слабое место (как раз в районе пуповины). Она попросту подвешивала меня за него – и била, била наотмашь нарочито безразличным, дурацким тоном, как бы заявляя собственное тотальное превосходство, да так уверенно и неподдельно, что становилось почти смешно (если бы не было так грустно). Израненный, я судорожно прятался в свою норку, чтобы в который раз надумать себе хоть какое-то обоснование этой жестокой подмене.
Тогда… я скрепил сердце, стиснул зубы и решил не звонить вовсе – как бы плохо ни было, чего бы то ни стоило. Через неделю на мой усохший телефончик эдакой стеснительною бабочкой приземлилось-таки некое послание…
«Esli s kazhdim rassvetom vsio silney I silney neizbezhnost’, Lish’ razluka sumeyet spasti nashu prezhniuyu nezhnost’».
Я был почти счастлив. Вполне уловимые искренние нотки, донесённые до меня бог весть каким спонтанным ветерком, оставляли автору место среди натур не совсем ещё потерянных – творческих и эмоциональных. А за этим невинным нарушением анапеста в первой строчке, за этой повисшей «неизбежностью», открывающей бездну глубокомыслия, я живо увидел всю её – маленькую, всклокоченную, переживающую по-своему, сомневающуюся, вредную, ещё чувствующую – но уходящую. И защемила прежняя нежность, и заходил я по комнате быстро, прокручивая последние контексты – припоминая выражения её лица, интонации, пытаясь уловить скрытый смысл фраз, чтобы придумать ей – и за неё – лазейку для возврата…
Мой ответ, однако, лазейки никакой не оставлял. По-детски не терпя паллиативов и не веря в разлуки, я декларировал бескомпромиссное желание видеть её прежней.
Диалога не вышло, она молчала – и всё равно я выиграл, выиграл: ещё через несколько дней она позвонила первой! Она, как ни в чём не бывало, подстроилась под меня по времени, она сама, почти ласково, сообщала мне план свидания!..
Ну что же. Кафе «Москва-Берлин» на Белорусской! («Не будем изменять традиции».) Тот же столик. Тот же Стулик. Кажется, та же официантка. Уклончивые глаза напротив, вроде те же, да, почти те же. Она предлагает мне… дружбу, ну да, это же лучшее лекарство от любви! Она ущипывает изюм с шоколадкой. Она – свободная девушка! Нет, сейчас никого нет, но скоро будет. Что, естественно, не исключает наших близких отношений. Иногда.
А, кстати: те фотографии, где она голая… лучше бы я, конечно, отдал ей негативы – чтобы никто не смог её шантажировать. Ну, лет через пять, когда она будет супермоделью. («А знаешь ты вообще, сколько эти негативы тогда будут стоить?!»)
Я идиот. Я размазня. Нужно было срочно уходить – твёрдо и бесповоротно. Я… принял игру. Я пошёл с ней в «Кабану», танцевал с ней! (То был не я.) Она презрела толкучку в женском туалете, зашла в мужской и долго, долго, с вызовом подмазывала у зеркала губки перламутровым блеском, возбуждая живейшее мужское одобрение на входе и выходе. Я идиот. Я размазня. Мы поехали домой – и я еле сделал ей эту долбаную любовь. Утром она съела свою корочку с солью, попросила какой-нибудь шарфик – а то дождик, и, не помахав, не посмотрев ни разу, укатила на такси.
(Читатель, погоди! Я сам бы плюнул на нашего героя, не заслужил он с таким умом и характером – да ещё романы писать… Так что обяжемся хотя бы не вырождать повествование в каменистую стриндберговскую [27] пустыню – голое, схематичное изложение «борьбы полов».)
Господи! Да возможно ли это, чтоб этак вот сразу – да прямо на сто восемьдесят градусов?! – отчаянно вопрошал я темноту, ночью, стискивая зубы от всепроникающей жалости и обиды за то, что случилось с нашими отношениями. Я давно, конечно, чувствовал, что и во мне что-то иссякло, мои возможности удивлять её, угождать качественно новым – на этом постоянном взводе делания приятного – истощились. Да уж, некуда больше везти её, нечего дарить, потакать – нечем… На свои деньги, своим сумасшедшим запалом, особенно в начале, я сделал всё, что мог, она почти уже проснулась – но я не знал, как и куда дальше, и напряжение моё ослабло… И вообще: я весь расслабился, а требовать стал больше! (Боже, зачем я пил так на Кипре?)
…и всё, конечно, начало возвращаться на круги своя. (Боже, неужто это «всё», это наше «что-то» держалось лишь на мне?!) Она быстро очнулась от трёхмесячного дурмана. И… невольно, пока вроде неосознанно всякой там глубине поставила заслончик. (Так, типа, проще и привычней.) Потянулась к прежней жизни, полной досужего конфетти, каких-то необременительных придуманных «друзей» – какие, кто, зачем?! Что там может быть, маленькая дурочка?! Всё поверхностные шуры-муры без выяснений, разноцветные блёстки встреч – для неё, конечно, по отроческому дальтонизму кажущиеся вполне разноцветными, но по сути блестящие на редкость одинаково, всё тридцати-сорокалетние попрыгунчики на мерседесах, и чего они от тебя хотят, как ты думаешь?! – «Между прочим, очень хорошие есть люди. Просто друзья. И им тоже ведь хочется меня поцеловать, но они ждут…» – объяснила она намедни мне, непонимающему, нетерпеливому, прыгнув в машину в новом легчайшем полушубке (?!!). А когда я с жаром объяснил, зачем нужна она своим новым друзьям, обида исказила нежные черты: «Я знаю, что такая, как я, нужна буду всегда».
…и как так нелогично ты забираешь у меня то, чего хотел сам, господи, а?! – Глубокой претензией к богу завершался сумбурный ночной обвал мыслей и эмоций, но бог пока безмолвствовал, так что кощунственные выпады подвисали во тьме, уступая место кошмарам и кошмарикам, которые, как кометы, таранили чуткую ткань моего сна. То были тревожные всполохи, назойливо развивающие всё одну и ту же тему в преувеличенном, гротесковом ключе, никак не дающем зацепки для какого-то осмысления, – и я просыпался измордованным, и начинались клипсы, и вырожденные за ночь из вечернего коньяка депрессанты разливались внутри свинцовой затруднительностию в принятии решений. Эти тормознутые твари неохотно разрежались с первым потом в спортзале – или, едва проснувшись с первым же глотком вечернего коньяка, хватали по красному флагу и рвались на буйную демонстрацию протеста.
Опять, опять зияла всё та же дыра – чёрная, вязкая, настежь.
Я упорно не хотел звонить первым, и мне казалось отчего-то, что по детскому недомыслию моя понятно-естественная гордость воспринимается на том конце пустой строптивостью, а значит, может отозваться бесшабашными карательными мерами. И я уже рисовал себе сцены её неправомочной параллельной жизни – вне, помимо и наперекор меня, а первым сказочным снежным вечером, почти берендеевым, не оставлявшим лету ни шанса, понёсся туда, туда – туда, где и так уже давно томился, застывши против чуждого подъезда, весь соткан из отчаяния и враждебного воздуха, мой неприкаянный призрак. Я привёз ему бинокль, он же молча кивнул на какой-то тёмный зарешеченный балкон в доме напротив, холодный балкон лестничной клетки. Этаж седьмой, переулок на ладони, метров сто до цели. Там мы на спор выстоим до победы, всё дальше вмерзая в оторопь, ревниво ловя в каждой фигурке, нацеленной на наш подъезд, тот единственный силуэт – пронзить, расплавить его линзой бинокля, чтоб ойкнулось, проснулось-шевельнулось-зашептало: Рома, Ро-о-омик, Ро-о-о-омочка, ты где?!…
И чёрный мерседес, подплывший верно и как-то невзначай, просто не мог в себе держать иную ношу, я не представил справа там кого бы то ещё. Ну, слева – пальцы на руле пухловатые, перстень, дальше костюмчик какой-то – значит, улыбка дежурная, набор фраз стандартный… Три минуты уже прощание… Поцелуй?!
Ноги вдруг как вата, я бегу вниз по тёмной лестнице, я даю себе слово искоренить, извести это имя, чтоб никогда больше…
Гулко в кармане звенит мобильный. Света?! (Ромик, ты бы не мог меня завтра подвезти на кастинг, а то у кого ни попросишь… Ага, ты тоже видел меня на мерседесе. Ну вот, все говорят об этом. Все осуждают. Но это не то, что все вы думаете… Это испанцы приехали, по съёмкам затаскали… Кстати, завтра отдашь мне бук, он же в машине у тебя остался.)
Меня волнует вдруг сам факт её звонка. И как она так быстро?.. Маленькая недалёкая самовлюблённая засранка. Пуп земли. Она хочет меня водителем, а заодно и свой портфолио. (Но мне легчает, я доволен?!)
Иди ты, девочка, к чёрту.
Опять мобильный?.. Не пойму, кто. (Роман?.. Меня Света просила забрать у вас её бук, он нам очень нужен…) А голос интеллигентный, волнительный, знакомый-знакомый, и номер знакомый. Вы думали, не узнаю? Ха-ха. Это Лия. Здравствуйте, Лия. Я знаю, кто вы. Вы – сутенёрша. Вы увели у меня жену, а теперь вот торгуете Светиком… Отключилась.
Иди ты, девочка, к чёрту.
«Поздравляем счастливого обладателя нового мобильного пакета от МТС! Ваш приз – поездка в д/о „Гелиопарк“. Подробности по тел. 8-916-637-…»
Меня кидает в крайности. На днях пожаловалась мне мама Анна: в очередной раз своровали у Светы в школе мобильный. И вот я, возбуждённый, снаряжаю коробочку: укутываю новенькую «Моторолу», обкладываю её шоколадными яичками (на них понадписаны уже маркером разные симпатичные глупости), утрамбовываю лучшие Светины фотографии, отпечатанные 20 Х 30 – для бука… (Я верю – эти фото, моменты, застывшие счастливыми, имеют смысл: они влияют на общую судьбу.) И искромётный текст SMS выдумывается сам собой. Только включит она телефон – невольной улыбкой заиграет он на её губах!
Суховато поблагодарила меня Света по новенькому телефону. Сдержанный, усталый тон без признаков искры… Ну что, опять раздавили тебя, Р-р-раман? И ради такого вот ответа два дня ходить-выдумывать ей мои коврижки?!
Иди ты, девочка, к чёрту.
Искра-то была – столько озорства, энергии, чувства излучал мой спонтанный, но продуманный выпад, что она, конечно же, высеклась, эта искра – механически, в никуда, так и не попав на заботливо мною же подложенный хворост.
– Раскрыла Света эту вашу коробочку – и вдруг… заплакала, – наутро признавалась мне шёпотом мама Анна. – Долго-долго всё там читала, а потом ещё много курила на кухне… А ваши розы, Роман… ну, розы, что вы дарили, – ни одна не завяла! Они так и засохли – стоя…
…и всё ж! – пока что горячо – соберёмся-ка с остатками нашего запала, вырвем молчаливое согласие у Светы, продумаем уик-энд, заручимся поддержкой мамы Анны, реальные путёвочки возьмём – хотя бы с субботы на воскресенье…
Начнём, однако, в пятницу – не изменять традиции. Но уж на этот раз в «Кабане» твёрдо зададимся некой психологической установкой. Продемонстрируем вдруг нормальный мужской интерес ко всевозможным окружающим, с другой же стороны заявляя как бы полное равнодушие и неожиданную стойкость ко всяким Светиным штучкам и провокациям – и, в итоге: понаблюдаем удовлетворённо за надутыми нашими губками, насупленными бровками, посуровевшими глазками, а также: за недовольно одиноким стриптизёром Сашей, так обещающе опалённым лёгким нашим дыханием, да оставленным с тупою болью на самом, что называется, конце состава…
Но! Хватит ли одной «Кабаны» начинающей светской львице, пустившейся во мстительные происки? Не потянет ли её куда-нибудь в «Джет-сет» – к девчонкам из «Замуж пора»?.. И хватит ли сил следовать установке своей, столь для него искусственной и бессердечной, нашему измученному герою – здесь, на чужой территории, в этой вычурной купели московского пафоса?.. Когда, вылетев из барочного туалета и чуть не стукнувшись о нарочито недоделанную притолоку балкона, проплыв по головам и отразившись равнодушием в псевдоантичных барельефах, а также в кукольных размытых личинах, вскользь определённых им как «девчонки из „Замуж пора“» – кинется он наверх, в стылый полумрак летней площадки…
И там, в одном из зачехлённых полукружий, в уютном радиусе согревающего балдахина, средь груды тел с намёками на лица будет играясь восседать его единственная цель, его бездонный бездонный Стулик – верхом, однако, будто бы ещё на одном стулике, нет – на целом троне, чёрном и чужом!.. И в легковесной готовности этого нового комфортабельного кресла угадается тотчас такой знакомый нам, такой вездесущий силуэт чертовски косоглазого, убойно зажигательного, великолепного московского плейбоя…
Лёгким шлепком по попке убедит он её соскочить и подскочить ко мне.
Но меня уже не было. Не было уже меня!
– Ну? Что такого?! Ну, села к Ущукину на колени. Холодно – погреться!…. Ах, две тыщи ма-аделей? Нет, две тысячи первой не буду. Буду две тысячи последней… Если захочу! Между прочим, он предложил мне уже петь с девчонками – у меня лицо, фактура, а голос необязательно! И… знаешь, что сказал? Ты у меня после Метлицкой самая красивая – тебя единственную, говорит, после Метлицкой я воспринимаю всерьёз!….
Ноги вдруг, как вата, и руки как вата, и вообще не я это рассекаю ночной обжигающий ветер, не я все стёкла опустил навстречу чему-то белому, колкому, слепящему… То сам эклипс, он впустил в себя пургу – проветрить замкнувшее, оцепенелое, больное, а я… я что-то пойму вот-вот под этот усталый и вечный речитатив «Снэпа». Какого какого ну какого цвета любовь… Если вмёрзнуть в него и видеть только белое на чёрном, да да белые хлопья на чёрном лобовом стекле и смотреть только вперёд как бьются как ходят пульсируют дворники – как разметают то наносное как разлетаются из-под них даже машинки машинки – и назад, всё отходит назад… То вот-вот станет совсем ясно – там, впереди в чёрном переди переди там ответ на мой вопрос, только вон ещё один поворот ещё один и опять этот припев – какого какого ну какого цвета любовь… Не может ну не может всё быть так черно и вон наконец красный – красный?! – это он ононон, конечно он, и я жму я лечу я парю на красный я знаю теперь точно знаю:
Красный – цвет – любви!!…
…почему все кругом стоят?!
И что-то непотребное, несуразное выскакивает прямо передо мной – мне даже смешно ребята какого хрена эта девятка лезет на мой цвет?!!
24
Она хочет ко мне – с портрета. Об этом говорят мне её глаза. Вот наконец смотрят они только для меня – родные и постоянные. Вот-вот спрыгнут сейчас – и подскочат, и обласкают, и всего-всего растворят меня сразу привычно, и буду тогда опять я сам собой, и не вспомню даже тягучего бреда последних месяцев. (Утром жутко в этот бред проснуться, но реальность вроде бы уже не здесь, а там.)
И всё-то, всё против реальности во мне восстаёт. В съехавшей реальности этой вдруг я разлинован и мигом стёрт до дырки. Или: энергично слит в очко. Или: разом выведен в тираж. Вот ещё ощущение: я, фактически, фарш. Реальность – старая скрипучая мясорубка, и кто-то – кто? – всё время суёт меня туда и прокручивает, принимает и обратно в раструб, и нет уже в этой гнусавой массе ни радужных хрящиков, ни волнения прожилок. Глухая спесь мертвечинки, обречённой на своё бессмертие.
Я лежу в темноте, я гляжу в потолок. Меньше всего заботит меня раздолбанный эклипс. Точнее, его половина. Бессловесная полутушка. Иногда она таращится на меня из ракушки… Это уже не то, конечно. Я постою, постою да и прикрою её обратно. А что вы думали. Двигатель 2 см не дошёл до тела. И – в тальке, всё в тальке. Прости, прости, мой верный зверь… (Тьфу.) Где-то ждёт меня ещё половинка – девятки. Вот вместе склеить их, и пусть тусуют. (Я бессердечный какой-то, что ли?..)
Я лежу в темноте, я гляжу в потолок. Передо мной – её пупок. Нежная раковинка с розовой висюлькой, пирсингованное чудо. (Что там – бабочка, стрекозка?!) Смещённый в центр фигурки фривольный акцент. Вживлённый намёк. Игривый вызов. Что-то вдруг нехорошо мне. Кому-то светит он теперь, мой несказанный тюнинг?!
Я лежу в темноте, я гляжу в потолок. Я очень хочу услышать это родное «алё», но она сменила подаренный мною номер. (Телефон был на меня, и я лишался последнего удовольствия – следить за распечатками её звонков…) Глупая мобильная трубка. Теперь ты с нею заодно.
Я лежу в темноте, я гляжу в потолок. Задаюсь вопросами. Стервенею. Какого чёрта – именно она?! (Хулиганка – лолита – лесбиянка…) Нет, а я-то такой взялся откуда – трепетная тля, откидывающая лапки в приступах любовной рефлексии?!! Чему не сокол я?! Почему, употребив поражение на потеху первобытной самости, не перетоптал уже всё вокруг?..
Так были, были попытки. Сполохами промелькивают в нездоровом сознании позорные картинки недавних дней – в порядке иллюстрации, исключительно для сравнения. Вот подо мною белое-белое, чуть целлюлитом подёрнутое, но ещё целое вполне, почти стройное – и очень, очень крикучее. (Потом ещё удивляешься, как вся спина исписана.) Это Оля. (С семнадцатого этажа.) «Краса России!» (С конкурса девяносто четвёртого года.) «Я так хочу детей», – шепчет в ухо моё после разливанных оргазмов, от которых не знаешь, куда деться. (Вот модель бывшая, а… душа!) Зрелыми её соками пропахла вся постель… Неожиданная встреча у подъезда. «Ну – куда ты пропал?..» – в глазах томление, надежда. Нитки на куртке, носки фиолетовые идиотские. Пакетик потёртый полиэтиленовый. (В спортзал собралась – по моему совету.)
Я вспоминаю Фису, ну – как бы она посмотрела на эту Олю. Вздрагиваю. Жутко становится. Ничего, ничего. Это всё от безысходности – переходный период, утешаю я себя. А всё равно стыдно, я лежать-то не могу больше. Опять хочется напиться. Я поднимаюсь в холодильник, достаю ром.
Вот опять прыгает на мне что-то, однако довольно дивное – загорелое и спортивное, почти вообще сухое, трясёт на мне возбуждённо грудками. Это Ира. (Только что из Египта.) Мой, мой размерчик, приговаривает неистово. А мне бы скинуть её да выставить. Чтоб неповадно было после ресторана – да сразу в постель!…. Минут десять уже она на кухне. С каким-то Вадимом по мобильному, да как громко – всё вид делает, что гоняется за ней пол-Москвы. Девушка-то из Твери, уж двадцать пять, за квартиру съёмную не плочено, да и замуж надо бы – за москвича.
Только меня-то, меня увольте!!
Я заполняю стакан ромом до половины и разбавляю колой. Отпускает почти мгновенно… Они, конечно, все очень разные. Но – в общем: мать или блядь. Не желаю! – ни тех, ни этих. В одних, до уровня стройных ножек своих опущенных, сразу холодную сучинку учуешь, в других же, с ножками покороче, но несомненной массой других достоинств – какую-нибудь почти воловью преданность… Да – так вот просто, это закон, это вложено генетически – и всё, всё, я смотрю на неё, улыбаюсь, а область сердца-то уже выключена. Кстати: чем дальше, тем область эта всё тяжелее задействуется – если только не случится вообще что-нибудь неуловимое, но вроде как неподдельное, искреннее. Если только не Стулик стулик стулик стулик – звонкий, озорной, натянутый, упругий, что стрела перед полётом, и одновременно: безобидный якобы, ласковый – вот и прощаешь ей невольно даже ножки стройные, и обманываешься приятно на каждом шагу…
…но самое-то главное – совсем ведь непонятный, хрупкий, субтильный даже элемент детского конструктора! И не сесть было на него, и не слепить ни с чем, а склеишь – так всё равно отвалится. Что же у меня за сердце, что как ударит в него такая залётная стрелка – вот и носишься с ней везде, как с орденом, счастливый и гордый, хоть и не знаешь, что делать-то с нею… И древко обломилось – так остриё застряло. И не пускает, не пускает… Никого не пускает. (Я наливаю ещё рома. Становится всё лучше.)
А за окном, господа, декабрь!.. Огоньки кругом, петарды, веселье. Тридцать первое! Провожаем старый год. Желаем себе успехов в работе и личной жизни в новом 2004 году. И уже, по мере разгорания внутренней лампочки, поверить готовы, что в новом уж будет у нас всё лучше, больше и веселее. Ну не может не быть.
Только опять вот – её глаза. (Ну что опять с ними такого, что сердце заколотилось?!) Ах да. Вчера проплыли они по ТВб – как ни в чём не бывало, внезапно, но и предсказуемо, вообще-то, в контексте программы – и были так непохожи они на те, что сделал себе я, что мигом вырвалась тогда душа – да тут же и застыла над экраном, и проводила удивлённо глаза эти – чужие, расплёскивающие кругом взрослость свою и важность, глаза – опустошённые до собственной блистательности, выказывающие природную свою причастность к чему-то самому-самому и от него же несомненную усталость, да-да – чуть потухшие глаза уверенной, шикарной и утомлённой от жизни женщины… Проводила их с миром моя осаженная душа по знакомому коридору некоего совсем нового, самого ноне модного ночного клуба, и дверь им таким открыла на выход, и даже усадила в чёрный мерседес, на заднее почётное сиденье… Передача-то о чём, передача?! – Ой, ой. Не поверите. О съёме – на дискотеках. Вот угадывается серебристый интерьер верхнего привата и чёрный силуэт всем нам уже такого известного, вездесущего героя – в полосочку костюма от «Армани». У «первого московского плейбоя» и «убеждённого холостяка» берётся «несколько слов». Вопрос один: как, как?! – Ответ: ну, чего. Подкатываешь на мерсе, чтоб было боле-мене ясно, на чём приехал, потом часами светишь… там ещё каких-нибудь пару ходов – и она ведётся. Куда деваться-то? Старо как мир. Пожалуйста – демонстрирую. И тут… Светик! Золотые какие-то волосы, чуть пополнела – кукла! Для ТВ, чтоб уж наверняка, чтоб не ходить далеко, подопытная – мутированная, трансгенная – только якобы снятая овечка живо и охотно иллюстрирует собою волчиный улов!
Да нет же! Просто её подставили, не могла б она не разобрать контекста, в котором выступила… а, как бы там ни было – ты, Светка, абсолютная дурочка в этой роли, ласково бормочу я и бреду к холодильнику. (Ром удивительным образом поднимает с обычно неподвластной глубины ту самую мудрость, ту спокойную объективность, позволяющую нам быть выше рядовой запальчивой ревности.)
А – интересно: то несомненно была она, Стулик – но настолько при этом чужда всему, что любил в ней я, что улучшенные, налившиеся, получившие цвет черты лишь низвели объект в малоузнаваемую, усреднённо-сексапильную восковую форму… И фигурка эта, окружённая движимо-недвижимыми атрибутами из того, прежнего, беспроблемного, такого ей привычного глянцевого мира – смотрелась возмутительно естественно… будто и в помине, никогда-никогда не было нас !
О благородный чёрный ящер, великолепный надутый идол, хамелеон с железным зобом и безошибочным бархатным языком! С тобой-то нам всё боле-мене ясно. Ты, ты – герой нашего времени! Тебя знают все, и модные ток-шоу, время от времени вспоминая о любви, охотно подставляют свои тёртые бока под твои неприкрытые, хлёсткие сентенции. (Я тоже начинаю тебя понемногу любить: ты ведь моя тёмная сторона, генетически мне заказанная!!) Ты – философ, у тебя линия: ломщик, зажигательный и холодный. Всеми своими появлениями передо мною ты смеёшься, ты стираешь меня в ноль: ключик к стуликам теперь не подбирают – просто взламывают одной и той же всё игрушечной отмычкой: устало обнажить золотистое жало, раскинуть веером пёстрый хвост… и, не скрывая незамысловатости поступательного движения языком (длинным и ленивым), попасть точно в цель.
И ты, овечка, молодец. Тоже ведь попала – в обойму! В самый фокус богемной московской тусовки. С Ущукиным – на виду, с ним прямо в центре. С Ущукиным – небанально. С ним модно! Престижно!! И – главное – легко!
Мне тоже легко. Я закрываю глаза. Я в абсолютной темноте. Времени уж, наверно, около десяти. Мне абсолютно невдомёк, где я буду в Новый год. Я наливаю ещё рома. Роме легко с ромом. Рому легко с Ромой. Лёгкость выдавливает меня, и я парю вместе с матрасом. Я уже не скажу, где я. Скорей всего, в общечеловеческом пространстве, потому что всё боле-мене ясно. Вот рядышком два шарика воздушных, поцеловались, стукнулись – и оттолкнулися тут же, а мне легко-легко – и смешно немножко, потому что понимаю я: ну не могут они не оттолкнуться друг от дружки! Каждый своим надут, чем-то лёгким очень и звонким…
И сразу ясно мне: они не просто так, это – модель! Современная модель соединения: эс-эм-эс. Безопасного опыления шаблончик. Тут главное что? – у всех же газ внутри. (Это чтобы свой реальный, мало кому интересный форматец ухоронить за латексной отпыженною гладью. Да и как пихаться, если не надуться до упора – как же?!) Газ этот легче воздуха и иных там предрассудков, он примитивен и инертен – в реакции, значит, не вступает. И всего-то у него два цвета: розовый да зелёный. Для мальчиков, значит, и для девочек. (А ну, кому какой, если у одних в глазах – секс, у других – деньги?!)
И он уносит нас необратимо в невыносимую ту лёгкость бытия!
А куда летим? – В зиму, кне-е-е-ечно, куда ещё!! – Ага. Зимой, то есть, только в «Зиму». Для непосвящённых, отсталых или просто ботаников: «Зима» – это такая ночная московская Мекка, новый центр вселенной. (Наследница «Шамбалы» – там-то уже отстой.) Так что зимою – только в «Зиму»!..
– И ведь опять мы в каком-то гадюшнике – нет чтоб в метро или там в музее, – обязательно выскажет усталый читатель (отчаявшийся уже сквозь столько девиаций продраться к обещанному кристальному финалу).
– Так вот он вам и музей, – ответим ему дружно. – Эспозиция: «Постиндустриальная Москва и культура межличностных отношений в свете новейших тенденций» – не претендует на охват, но даёт картину…
– Да это разве… Ты в метро, в метро спустись, вот где жизнь настоящая!
– В метро не буду. Не на метро нам надо равняться, дядя. Интерес наш наверх обращён, туда, где новая культура лепится, где прямо на глазах то самое-самое происходит!..
У-р-р-р-ра-а-а! Мы в средоточии воздушных шариков… – И никого, и ни-че-го! Где ещё так повисишь?! Где ещё такую высокую степень прочувствуешь?! Все нереально лёгкие, полны светящихся эфиров… Все вместе колыхаются – которые раньше бахались и которым предстоит ещё… И все – все кто под чем. Щас попихаются, стукнутся-трахнутся – а там и разлетятся!.. (Ну меня несёт.)
Так ещё, гляди, и не пустят – вон их сколько у входа сгрудилось, качаются, дышат в унисон – надеждою… И куда только маленький пуп тот смотрит, а, Паша-фейс-контроль?! Удивителен, ну просто-таки непостижим его промысел: самые модные и красивые мёрзнут, а папики, всё левые да лысые, как домой к себе, заходят!..
И ответил бы модным-красивым тот непробиваемый пацан в ушанке (если бы смысл в том видел):
– Э-э-э, так для них-то, мальчишки, вся воздушная наша ярмарка и затеяна, для них наш балаган, наш конкурс пузырей. Ведь дяди – тоже люди!! Могут они, немолодые и немодные, хотя б одно приютное местечко иметь в индифферентной этой Москве, чтоб выкинуть за час какую-нибудь десятку, а лучше двадцатку, и чтоб ещё вокруг все видели?.. Ну – если хочется им?!… Так что, господа, каждую пятницу/субботу пожалуйте к нам – на самоутверждение! На демонстрацию статуса! Вот у нас и столы соответствующие: стол «5 млнов», стол «20 млнов», «от 50…» (Не обращайте внимания, господа, это вы все у нас тут по ранжиру расклассифицированы.) А моделей будет сейчас виться у стола-а-а… а хотите – на столе?! Или… может быть… под?..
– …они же, модели, видят сразу настоящего мужчину! Они же, модели, знают, что нужно настоящему мужчине. Настоящий мужчина всего-то хочет по-ни-ма-нь-я – чтобы, знаете, этак можно было вздохнуть устало в простые и заботливые глазки: «Слушай, малыш, не мельтеши, а?.. Да не надо мне от тебя ничего. Ты просто это сядь рядом, на тебе пятёрку…»
Скажет какой лысый дядя в чёрной майке так вот просто и, может, ещё ящичек «Моэта» ли – «Шандона» у официанта попросит – мысль свою продолжить:
– …да, господа. Выпьемте за моделей. Именно модели задают современности тон и ритм. Что – почему? Ну как же. Вдохновительницы и музы наши – активного, скажем так, состава. У того – машину, у другого – квартиру. (А, бог с ними. На себя не жалко.) И… любовь?.. – Ну конечно, любовь. Это так теперь называется. (А куда деваться?) Потому и кругозор, конечно. Присядьте тихонечко где-нибудь в «Курвуазье», послушайте… Три темы: 1. Какая у него машина, 2. Где мы были вчера и 3. Что он мне подарил. (А куда деваться?) Вот выпрыгивает она в беленькой шубке из нового мерса – это на сорока-то-долларовый показ. Спрашивается: и зачем ей моделировать дёшево, если и так всё есть? – Ан нет же. Если не модель, то ничего и нет! Надо, чтоб модель!! Даже поужинать девочку – и то в агентстве выбираем! А она… застенчиво, с буком приходит. Лапуля. Она – модель, дело в том что. (А куда деваться?) Вот говорят: мы их ломаем. Кто кого ломает – эти сучки круче кокса! Нас в семью уже не загнать – нам призраков давай, 90–60–90!.. Эту, другую, десятую, а ещё вон ту бы – как денег хватит!! (А куда деваться?) Куршевель?.. Что там про Куршевель?.. Где он был, этот Куршевель, три года назад? Кто вспомнит через три года, что такое «Зима»?! Так что – мужики, не паримся, мужики, развлекаемся – здесь, сейчас! Но – повнимательней!! Модель – она как ракета: всё вверх куда-то несётся – и ступени знай откидывает по дороге…
А! Вон они как раз, три шарика плывут, розовых шарика – в обнимку. Совершенно же неземной лёгкости и ломкости субстанции, одна другой длиньше – ну абсолютно аэлиты… (Сразу как топор сзади словил ледяной – от предчувствия несбыточности.) Смеются возбуждённо на ухо друг дружке, не дай бог в сторону куда глянуть (ещё кто поймёт что не так), меж собою вроде забавляются – но громко, однако, выступают, картинно… Нет, надо брать, всё равно надо брать. Уверенность надеть на грудь, харизмы подпустить в походку… Дивчата, вы чьи-и-и?! – Взгляд еле-еле. Мимо, поверх, сквозь, кроме… – и опять целоваться. – Да вот он я – красивый, здоровый, умный! Перед вами я, рядом!! Модный – очень, молодой – почти… – Да нет, нет тебя. Мы здесь только. Мы! Кроме нас – никого. И не нужен нам никто. Потому что самая-самая женская вещь – у нас только. У нас только самая-самая женская вещь…
И ты обосран, слышишь, Дон Педро, ты – чужой на празднике жизни! Какой бы там ты ни был – нет тебя, понял?!
«…кто же на дискотеку сниматься ходит?!»
«…мы же не проститутки».
«…глазки у нас намётаны».
«…чем удивишь ты нас? Котлами золотыми палёными?»
Никто никого – в упор.
«…или „Порш“ у тебя тысяч за двести?»
Все кто под чем.
«…ну, может, сядем тогда, а то и подумаем».
Все напоказ, а вокруг… никого!
«…вот у меня есть цель: мне 50 млнов и выше».
И – никого, и – ничего!