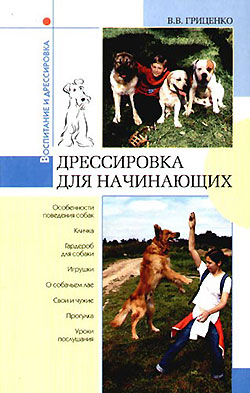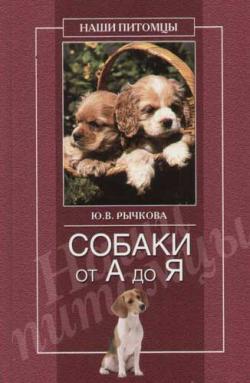Возвращение в «Кресты» Седов Б.
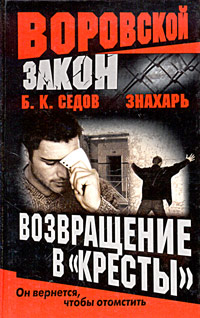
– Да, я знаю этого человека! – вдруг сказала она твердо. – Это мой муж.
– Ваш муж… – как эхо отозвался следак. – Это хорошо, что ваш муж. Зовут его как?
– Костя… – ответила Лина. – Константин Александрович.
– Ну?.. – поторапливал ее следователь. – А фамилия?
– А… – спохватилась супруга. – Разин! Разин Константин Александрович.
– Так… – сказал Муха, зачем-то постучал ручкой по столу и снова повернулся ко мне: – А вы, гражданин Разин? Знакома ли вам эта женщина?
Я отрицательно покачал головой.
– Вы, гражданин Разин, не головой трясите, – неприязненно сказал он, – а говорите вслух, чтобы ни у кого из присутствующих на очной ставке не оставалось сомнений относительно ваших ответов. Я доходчиво выражаюсь?
Я решил, что не стоит прямо сейчас дразнить этих жирных и глупых гусей, и сказал четко и ясно:
– Я уже сказал, что не знаю эту женщину и никогда раньше ее не встречал.
– Вот как?! – деланно изумился Муха. – Не встречали? Вот ведь загадка природы! Она его видела – а он ее нет! А?! – Он повернулся к Живицкому, всем своим видом как бы говоря: «Нет, ты таки видал ухаря?», и, не дожидаясь ответа, снова обернулся ко мне:
– Вы, гражданин Разин, все менее прозрачно намекаете нам, что у вас с психикой не все в порядке? Я бы не рекомендовал вам этого делать. Термин «лоботомия» вам известен? – бросил он как бы невзначай.
Сразу представилась сцена, будто из фильма ужасов: закованные в заляпанную кровью одежду люди – в узких прорезях видны только их сосредоточенные холодные глаза – загоняют блестящий хирургический инструмент в ноздрю пациенту, наглухо пристегнутому к столу широкими кожаными ремнями. У несчастного не только все конечности и грудь стягивают черные кожаные полосы с никелированными пряжками – лоб и подбородок тоже жестко зафиксированы ремнями, не дернешься! Пациент в сознании и ужасе, в его обезумевших глазах с покрасневшими белками – безысходный и безголосый кошмар. Он весь исходит холодным липким потом, его зеленая роба мокра насквозь. Вот инструмент – я уже не помнил, как он называется, помнил только, как он выглядит, – инструмент с хрустом взламывает кости черепа и входит в лобные доли мозга. Человек бьется с такой силой, что даже вмурованный в бетон стол заметно вздрагивает. Хирургам это нравится, раздаются возгласы «О-о!», возбужденные похохатывания… Один из них с усилием проворачивает инструмент, и тот с хрустом и чавканьем размалывает мозг жертвы, прямо под лобной костью. Человек под ремнями в последний раз выгибается в страшной, почти предсмертной судороге и отключается.
Забытье его теперь не закончится никогда. Ему никогда не стать тем, кем он был до операции, которая называется не всем понятным термином «лоботомия». Это существо отныне обречено вести растительное существование, у него сохранятся только основные физиологические функции и некоторые простейшие инстинкты.
«У НАС – могут» – подумал я. И усилием воли отогнал от себя неприятное наваждение – мало мне, что ли, ужасов в объективной реальности, мать ее так и эдак?
– Мне известно много разных терминов, гражданин следователь, – как можно проникновеннее ответил я Мухе. – И не только терминов, поверьте мне, а много чего другого полезного из мира медицины. Известны, например, еще внешние признаки, симптомы заболеваний и волшебное словосочетание «окончательный диагноз»! Вам его не приходилось никогда слышать?!
Муха недобро сопел и исподлобья сверлил меня выпученными глазами. Но пока молчал – и я поспешил воспользоваться представившейся возможностью как следует пнуть мерзавца. Ногой, вот жалость, не достать. Тогда хоть так:
– Приходилось, конечно, – вы же человек образованный, гражданин следователь! А я, представьте, превосходный диагност, хоть и не врач. Я народный целитель, как это принято сейчас называть. Хотя раньше другое слово было в ходу – знахарь, и оно мне больше нравится. Я людей насквозь вижу, в полном смысле этого выражения. Поэтому ошибаюсь очень редко, мне даже в некоторых особо трудных случаях коллеги-целители звонят, консультируются. Да что там коллеги, – разошелся я. – Ортодоксальные врачи – и те не стесняются иной раз вопросы задавать. Так что я вам, гражданин следователь, как образованный человек образованному человеку, исходя из внешних симптомов, решительно рекомендую – оставить вашу благородную деятельность по искоренению преступности и предаться подведению жизненных итогов и возмещению долгов. Причем немедленно! Я достаточно понятно выражаюсь, гражданин следователь? Дело в том, что при средней степени усердия на оба эти занятия у вас уйдет от силы полгода. Именно столько времени у вас и осталось. Ну, если повезет, месяцев восемь. На все про все. И учтите – это диагноз, точный и окончательный. Обжалованию не подлежит.
В кабинете повисла тишина. За стеной на этот раз не ржали. Слышно было только, как в каком-то из бесчисленных коридоров огромной тюрьмы позвякивают ключи о стену. Значит, где-то вертухай куда-то ведет зека.
Я только сейчас удивился, какую долгую речь позволил мне произнести Муха. Трудно сказать, чем это было вызвано – интересом следователя (вдруг разговорившийся Разин незаметно для себя о чем-нибудь важном проболтается!) или все-таки интересом больного (который и сам знает, что он болен, но либо не доверяет своим лечащим врачам, потому что привык никому не доверять, либо по этой же причине так до врача и не дошел). Теперь даже непонятно, чего от гражданина следователя ожидать.
Муха был ошарашен. Он, конечно, понимал, что Разин-Григорьев сказал эти страшные слова намеренно, именно для того, чтобы его напугать. Обычные зэковские штучки, мало ли он их наслушался за годы своей богатой следовательской практики, но страх уже стиснул его горло. В голове безостановочно крутилось одна и та же нарезка из разинских фраз, как рекламный ролик по радио: «Месяцев восемь… если повезет… На все про все…»
Он и сам знал, что болен, и болен серьезно. Странно было бы, если бы не знал, – не вчера ведь заболел. Врачи, к которым ему приходилось обращаться, были тоже не из последних – и социально-служебное положение помогало, и личные связи играли не последнюю роль. И обследования проводили настоящие, по полной программе, с привлечением всех возможных достижений науки и техники – не то что этот, блин, шаман. Тоже мне, диагност хренов, думал Муха. Я те щас такую диагностику покажу – мама родная взвоет! Нет уж, гражданин Разин, мы еще посмотрим – кто кого похоронит, а кто у кого на поминках веселиться будет!
Я с интересом наблюдал за изменениями Мухиного облика. Очень было похоже, что все его мысли и эмоции движения тут же отражаются на его внешности. Муха либо этого не знает, либо банально не умеет владеть собой. А наверняка ведь считается отличным следаком, на хорошем счету у начальства – перевели же его из районной прокуратуры в городскую!
Отличный следак, меж тем, сначала позеленел, затем приобрел цвет свежей побелки, затем покрылся красными пятнами, которые постепенно расплылись по всему лицу и шее. Выпученные глаза под насупленными бровями снова налились кровью. Глядишь, и удар хватит. Идеальное убийство.
А в углу возмущенно завозился Живицкий. Опять хрень какую-нибудь начнет нести! Я решил не давать фальшивому адвокатишке такой возможности.
– На вашем месте, уважаемый Борис Наумович, – обратился я к нему, – я бы не стал особо обольщаться насчет собственного здоровья. Одна стенокардия чего стоит…
Живицкий с грохотом выронил портфель. Из портфеля вылетели какие-то невидимые в полумраке мелочи и с треском рассыпались по всему полу. Стенокардия была чисто интуитивной импровизацией, но в цель, похоже, попала исключительно точно.
– Молчать!!! – рявкнул Муха, со всей силы грохнув ладонью по столу, и добавил уже потише: – Разговорился, падаль! Извините, Ангелина Ивановна! – тут же обратился он к Лине. – Нервная работа, не всегда удается сдерживаться…
– Я понимаю! – закивала она, с усмешкой наблюдая за мной.
Чего лыбится, интересно?! Довольна, что видит меня снова в дерьме? Теперь она отомщена за свое египетское путешествие! Нет, милочка, пока еще не все закончено, это я тебе обещаю! А за моей спиной щелкнула задвижка глазка – вертухай услышал шум и забеспокоился.
После минутного ступора Муху отпустило. Лицо его приобрело обычное для него выражение спесивой тупости, которое многими почему-то считается признаком солидности. В голове тоже все встало на свои места. Наваждение рассеялось, можно работать. Следователь вздохнул и, поморщившись, посмотрел на Живицкого, собирающего с пола свои финтифлюшки.
– Борис Наумович, может, вы как-нибудь потом подберете свои пожитки? Они же никуда отсюда не денутся. Честное слово.
Адвокат замер, будто наткнулся на невидимую колючую проволоку. Щелкнув суставами, он поднялся с пола, высыпал в свой портфель горсть каких-то, судя по звуку, пластмассовых штучек и зло защелкнул замки. С заметным усилием снял портфель со стула и, сев, положил его на колени. Интересно, что у него там лежит, такое тяжелое? Наверное, просто большой камень, который вскоре Лже-Живицкому придется нацепить себе на шею и спрыгнуть в какую-нибудь вонючую трясину, где ему самое место. Потому как прощать актеришке эту пакость я не собирался. Каждый, конечно, зарабатывает деньги как умеет, но надо ведь и совесть иметь!
Муха опять постучал по столу авторучкой, привлекая к себе внимание:
– Гражданин Разин, вы еще не забыли, зачем мы здесь сегодня собрались? На всякий случай напоминаю: для проведения очной ставки. Поясняю: это когда двух или более людей, скажем – обвиняемого и потерпевшего, либо обвиняемого и свидетелей преступления – собирают вместе, дабы прояснить непонятные следствию моменты. В данном случае вы, Ангелина Ивановна, являетесь свидетелем, более того – одним из главных свидетелей. И я обязан предупредить вас о том, что все, что вы здесь скажете, будет занесено в протокол. И в случае, если, скажем так, сообщенные вами сведения окажутся неверными – протокол послужит основанием для привлечения вас к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. К сожалению, на обвиняемого это не распространяется, – добавил он, посмотрев на меня.
Я позволил себе ухмыльнуться – спектакль казался мне затянутым, а пьеса неубедительной в плане характеров, но уйти в антракте не получится. И освистать актеров тоже не дадут. Что ж, пусть дальше стараются! Театр одного зрителя!
– Вы все поняли, Ангелина Ивановна? – спросил следак у Лины. – Очень хорошо! Таким образом, будем считать, что вы предупреждены, в чем вам придется расписаться. Нет, не сейчас, а в конце очной ставки, вместе с ее протоколом. Итак, продолжим. Вы, Разин, утверждаете, что никогда с Ангелиной Ивановной не встречались, что само по себе исключает какие бы то ни было отношения вообще, не говоря уже о законном браке. А что мы видим из показаний уважаемой Ангелины Ивановны? А видим мы совсем другую картину. И картина эта стоит того, чтобы спросить вас еще раз, Ангелина Ивановна: знаком ли вам этот человек? – Муха снова указал на меня, всей ладонью; таким жестом бесчисленные памятники Ленину указывали пролетариату дорогу в светлое будущее. – И, пожалуйста, уточните, в каких именно отношениях вы состояли с этим гражданином и как долго.
Ангелина смотрела на «гражданина Разина» и не произносила ни слова. Трудно сказать, что происходило в это время у нее в душе, но пауза затягивалась.
– Ангелина Ивановна! – позвал ее Муха.
– А… – Лина будто очнулась ото сна. – Что? Что вы говорите?
– Я спрашиваю вас, Ангелина Ивановна, знаком ли вам этот человек, и если да, то в каких отношениях вы с ним состояли и как долго, – терпеливо повторил следователь, будто с ребенком или больным говорил. – Вам вопросы мои понятны?
Она утвердительно кивнула в ответ.
– Я ведь уже говорила, я знаю этого человека. Это Разин Костя…нтин Александрович, – на ходу поправилась она, переменив имя на официальный лад. – Мой муж. Поженились мы в ноябре девяносто шестого года, одиннадцатого ноября. У вас же свидетельство о браке на руках должно быть!
– Не «должно быть», а есть! Только не на руках, гражданочка, а в деле! – бодро хлопнул Муха рукой по толстой полиэтиленовой папке с таким количеством бумаг внутри, что мне казалось, что папка от этого удара лопнет, и прыснут мухинские бумажки по всему кабинету, как перед этим адвокатские канцелярские принадлежности. Но ничего подобного, к сожалению, не случилось. Следак извлек из папки зелененькую ксиву с обтрепанными краями и громогласно провозгласил, потрясая ею в воздухе:
– Вот этот документ!
«Баран недоделанный! – подумал я со злостью. – Похваляется, будто и вправду нашел хрен знает какую ценность! А цена-то ксивке этой – копейка в базарный день. Оттого и хвалится, мусор копеечный. Цену набивает».
– И этот документ является вещественным доказательством правдивости показаний вашей жены, гражданин Разин! – объявил Муха.
– Ничем он не является, – спокойно возразил я, постаравшись вложить в это заявление максимум презрения.
– То есть? – удивился следак.
– То и есть, – ответил я. – Какое отношение ко мне, Николаю Григорьеву, имеет свидетельство о браке какого-то Разина Константина Александровича, которого я знать не знаю и в глаза никогда не видел? Я, в отличие от вас, ничего против господина Разина не имею. Но называться его именем не стал бы и в более благоприятной обстановке. С какой стати?! А сейчас вы, к тому же, инкриминируете ему такое малопочтенное деяние, как убийство женщины из корыстных побуждений. А вы, гражданин защитник, чего молчите в уголке, как мышь? Канцтовары свои пересчитываете? Может, займетесь вместо этого исполнением своих прямых обязанностей?
Возможно, адвокат и нашел бы что сказать в свою защиту, но Муха перехватил инициативу в свои руки. Неожиданным и, надо признать, исключительно эффектным образом: он захохотал! Уперев руки в колышущиеся бока, раскрасневшись, как первоклассник на морозе, хохотал следователь Муха. Смех у него оказался неожиданно заразительным, как у человека с отменным чувством юмора, легкой душой и чистой совестью. Этот смех до такой степени не вязался ни с фигурой, ни с личностью следака, что у всех присутствующих поневоле возникло ощущение противоестественности происходящего. Живицкий перестал обиженно вошкаться на своем стуле и глотать воздух: он вытянулся, как суслик у норы, с полуоткрытым от удивления ртом. Его глаз за стеклами очков видно не было, но их выражение представить было не трудно. Ангелина тоже застыла, раскрыв рот, хоть и не так широко, как адвокат.
Но надолго следователя не хватило, он внезапно оборвал смех и снова стал неприятным типом с грязной душой и прыщавой физиономией. Стерев с лица всякий намек на веселость, Муха как ни в чем не бывало произнес:
– Не отягощайте участь свою немотивированным хамством, гражданин Разин!
По моей спине пробежали толпы мурашек – холодных, будто только что выскочивших из морозильной камеры. Черт возьми, что же такое происходит!? Эта странная фраза просто преследовала меня, непонятным образом переместившись из его бреда в реальную жизнь.
– Тем более, что Борис Наумович – ваша единственная защита! Вы же не собираетесь давать отвод адвокату?! – продолжил следак, не столько спрашивая, сколько утверждая. Он явно был почему-то уверен, что я этого не сделаю.
Я предпочел просто согласно кивнуть головой. Мне надоело это дурацкое представление, хотелось, чтобы все поскорее закончилось и меня увели обратно в камеру. К параше! Вот уж не думал, что когда-нибудь буду мечтать о параше. А замечтаешь поневоле, когда мочевой пузырь вот-вот лопнет…
– Очень хорошо, – сказал Муха. – Собственно, цель очной ставки достигнута. Гражданка Разина признала своего мужа, а муж гражданки Разиной продолжает делать вид, что он не он и жену свою сегодня в первый раз увидел. Позиция ваша, гражданин Разин, банальна и неконструктивна. Даже странно видеть такое бессмысленное упорство перед лицом неопровержимых фактов. А факты – упрямая вещь. Вот вы человек высокообразованный, как сами подчеркнули, может, подскажете, кто именно из классиков сказал такую замечательную фразу?
– Ленин, – неожиданно раздалось из адвокатского угла.
Все без исключения посмотрели на Живицкого. Тот, задрав нос, поводил им из стороны в сторону.
– Кхм… – кашлянул Муха. – Оно и понятно, юридический ведь закончил. Ладно, переходим к процедурным вопросам. Я сейчас допишу протокол очной ставки, а затем вы и вы, – он поочередно указал листом бумаги на Лину и меня, – прочитаете его и подпишете. В конце и на каждой страничке, внизу. Пишите…
– Я ничего подписывать не буду. Ни сейчас, ни потом, – осадил его я, снова перебив на полуслове.
– Послушайте, Константин Александрович, – тут же заблеял Живицкий, – это бессмысленно! К тому же вы не имеете права…
– Имею, – перебил я, не дав адвокату развить тему. – Вы будете смеяться, гражданин защитник, но о своих правах я осведомлен неплохо. Оформите отказ от подписи – или мне надо вам рассказать, каким образом это делается?
– А откуда вам все это известно? – встрял следак, очевидно надеясь хоть в чем-то меня ущучить.
– Мы так много сегодня говорили о моей высокой образованности, что напоминать вам об этом еще раз будет уже чересчур! – ответил я. – Так что закончить процедурные вопросы вы можете и без меня!
Муха некоторое время вглядывался в меня. Он не знал, как ему на такое поведение реагировать и что предпринять, чтобы сохранить лицо. Сопел, покусывая губы, постукивал карандашом по столу. Ну давай же, сука ты комнатная, зови вертухая! Мне уже так хотелось в туалет, что я готов был начать мочиться Мухе на стол. Но я надеялся, что мусорам не заметно мое нетерпение. Если заметят – начнут кота за гениталии тянуть. Просто так, чтоб поиздеваться!
По всей видимости, Муха нажал кнопку, приделанную где-то под столешницей, потому что за моей спиной загремел засов и открылась дверь.
– Уведите! – бросил конвойному следователь.
Я встал и вышел из кабинета.
Глава 4
О ВРЕДЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
– Безусловно, удивлен появлением Ангелины. Но держался неплохо…
– А она?
– Ненадежна! Хотя старается! Очень велико желание отомстить супругу, но не хватает выдержки.
– А что там с его адвокатами? Настоящими адвокатами…
– Ищут клиента… Ищут его, но не могут найти – стишок такой был, помните!
– Помню! Только нужно эту бодягу заканчивать, пока наружу слухи не просочились!
Все эти дни у меня не шел из головы наш первый разговор с Бахвой. Никак не мог я понять этого человека. С одной стороны, Бахва ко мне откровенно благоволил. Причем не только из-за необходимости иметь при себе «домашнего врача», что при его состоянии здоровья было объяснимо. Нет, он по-человечески симпатизировал мне и не скрывал этого. Да и мне Бахва был симпатичен, несмотря на его категорическое отрицание всего, что было связано с моим тюремным прошлым. Наверняка имелись на то серьезные причины, иначе такому правильному вору, как Бахва, хвост не прищемить. Оч-чень серьезные причины… Интересно, какие? На сегодняшний момент об этом можно только гадать. Что ж, тоже неплохая гимнастика для ума.
И о гимнастике для тела я тоже не забывал: все свободное время в камере умудрялся посвящать физическим упражнениям. И самым простым, и посложнее, китайским и индусским, а часто просто импровизируя, следуя за потребностями организма. Потому что знал, что в покое меня не оставят. Фортуна иногда делала мою жизнь исключительно увлекательной, но никогда – спокойной. Разве так, ненадолго, чтобы отлежался и пришел в себя.
Я как раз занимался своей замысловатой гимнастикой, когда пришел вертухай. Надзиратель был новый, его я видел в первый раз. Отутюженный такой, наглаженный, как будто на парад собрался.
Я шел, привычно опустив голову и сложив руки за спиной, но не мог не заметить, что ведут меня не туда, куда обычно. До сих пор меня выводили только в Мухин кабинет на допросы. А теперь маршрут пролегал совсем в другую сторону. С сожалением подумал о том, что совсем не ориентируюсь в «Крестах». Но была в этом и светлая сторона, несомненно. Я даже улыбнулся: куда хуже было бы, если бы я уже знал «Кресты», как дом родной.
В какой-то момент появилась мысль, что следак сдержал угрозу и меня ведут в пресс-хату. Вмиг стало дурно и прошиб холодный пот: а ведь у меня даже бритвы нет. Это в ту, первую, ходку Бахва дал мне ее и научил, как спрятать между пальцами рук, чтоб мусора не спалили. А там, в хате, мне оставалось всего-навсего вспороть себе брюхо. Тогда в первый момент казалось, что я никогда не смогу этого сделать. Но Бахва сказал:
– Из этих пресс-хат выносят таких, навроде тебя, либо жмурами, либо инвалидами опущенными. Понимаешь? И не люди они уже после этого. Не проживают и года. Знал, к примеру, одного паренька, вроде тебя, образованного! Тот тоже по мокрухе шел – убийство из-за ревности. И тоже в несознанку вздумал играть… Думал, наверное, что здесь ему как в американском кино – адвокаты, права обвиняемого, презумпция невиновности!.. А его сразу в пресс-хату!.. Признание, после этого, он, конечно, подписал, только уже поздно было. Имели его на зоне как хотели, так что через пару месяцев повесился – и для него это лучшим выходом было, поверь! Так что, Коста, бери бритву – и поперек живота! Да так, чтоб все кишки наружу! Не мне ж тебя учить, как брюхо вскрывать… Тогда не тронут тебя. В больничку поедешь, а там за неделю тебя откачают.
– И снова в пресс-хату? – спросил я тогда.
– Не-э-эт… – ответил Бахва, картинно щелкнул дорогой золотой зажигалкой с какой-то монограммой (Бахва всегда любил понты!), закурил и, запрокинув голову, выпустил вверх струю дыма. – Не бывает такого, чтоб туда во второй раз. Это как с казнью через повешение: порвалась веревка или там сук переломился – все! Второй раз не вешают. Так пристрелят! – Бахва засмеялся, потом закашлялся, а прокашлявшись, сказал уже серьезно: – Тогда даже легавые на тебя начнут смотреть по-другому. А промедлишь – погибнешь…
Тогда из каких-то своих источников Бахва заранее знал, что предстоит Костоправу (такое погоняло дал Бахва мне), а главное – когда. Но тогда это был совсем другой Бахва. А от теперешнего не знаешь, чего и ожидать. Ну что ж, решил я, раз уж так сложилось, придется обходиться самому. Я теперь тоже совсем не тот, что тогда, и кто-то сильно обломается. По-любому! В пресс-хату так в пресс-хату. Жаль, конечно, что бритвы нет, но все время брюхо резать как-то неизобретательно. В этом сезоне он им другое представление устроит.
«Жмуром или инвалидом опущенным…» Что ж! Опущенным – точно не про меня. Не будет голубым и на этот раз праздника! Инвалидом… Вполне возможно. Хотя и не хотелось бы. А жмуром… Ну, жмурами мы все когда-нибудь будем.
В этом раскладе жмур – не самый плохой исход. Гасить меня холуи мусорские запарятся, а уж я постараюсь до того, как меня замочат, причинить максимальный ущерб максимально возможному числу этих уродов. Биться с ними буду как зверь, до последнего вздоха, и постараюсь прихватить с собой хотя бы одного на тот свет. А если повезет, то и не одного. В конце концов – убивать мне не впервые!
За этими героическими размышлениями я и не заметил, как мы оказались во дворе. В легкие ударил невыносимо чистый воздух, в лицо ветерок, в глаза дневной свет. А в спину – вертухай! Сволочь. Не даст насладиться моментом, козел душной. Я прищурил глаза, чтобы не слепило солнышком.
– Направо! – Команда сопровождалась еще одним чувствительным тычком.
Я повернул направо и увидел стоящий невдалеке тюремный воронок, возле которого курили двое омоновцев почему-то в зимнем камуфляже, с автоматами и скатанными на макушки масками. К этой живописной группе вертухай меня и повел. Оп-паньки! Это было неожиданно.
– Разин? – спросил один из омоновцев.
– Разин, – ответил вертухай и зашуршал какими-то бумажками. Что там дальше между ними происходило, я уже не видел. Передо мной открыли дверь в задней стенке воронка, кто-то из омоновцев увесисто хлопнул меня по спине и скомандовал:
– Давай!
Перед тем как влезть в машину, я поднял голову и посмотрел на небо. Глаза уже привыкли к свету, и сколько оно мне доставило радости – серенькое питерское небо с небольшими проплешинами яркой летней синевы. Боже, какой кайф! Я вздохнул поглубже, стараясь набрать в легкие побольше настоящего, чистого воздуха, которого ему так не хватает в затхлой камере!
Омоновец снова толкнул меня в спину:
– Давай, давай!
Сказал не злобно, да и толкнул не сильно. Все-таки сразу чувствуется – не вертухай. Хоть и мусор. Перед тем как захлопнуть двери, второй омоновец крикнул водителю:
– Все! Давай, поехали!
Закрутился с подвывом стартер, но спустя несколько секунд заткнулся. Снова завыл, и снова тишина.
Ну вот, прокатились с ветерком! Я еще не знал, куда меня везут, даже не предполагал, но прокатиться все равно хотелось. Хоть так, хоть через стенку воронка послушать свободу! Увидеть не удастся, во всяком случае, на ходу – в этом воронке не было окон в отсеке для заключенных. Жалко, что ли, окна было прорезать? Чтобы зеки, которые света белого не видят, хоть одним глазком могли на него поглядеть, пока их по улицам везут? Или специально не сделали, чтобы лишить их и этого мизерного утешения? Видимо, чтобы успокоить меня, двигатель, пару раз чихнув, все же завелся. Воронок порычал несколько минут, прогреваясь, и наконец тронулся с места.
Мне доставляла удовольствие просто сама смена ощущений. Вот двинулась машина, поехала по двору, натужно подвывая и покачиваясь на неровном асфальте. Остановилась ненадолго у ворот. Было слышно, как створки поползли в стороны и открылись. Машина проползла на несколько метров вперед и опять остановилась. Теперь она находилась в узком пространстве между внутренними и внешними воротами, как в шлюзе. Снаружи некоторое время что-то происходило, судя по всему – проверяли документы. Мимо борта пробубнили какие-то голоса, заскрежетала внешняя дверь, кто-то поднялся в воронок. Открылась дверь в мою конуру, и в проеме появился незнакомый прапор, видимо – дежурный с КПП. На всякий случай я поднялся и сложил руки за спиной.
– О! Правильно, – одобрил прапор. – Фамилия?
– Сельцов! – ответил я.
– Не по-онял, – с гнусавой интонацией сказал прапор и обернулся назад. Омоновец, что сажал меня в машину, тут же появился рядом с ним и спросил, тихо и зло:
– Ты че, балбес? Ты тут, типа, шутки шутишь? Я щас тоже пошучу, хочешь? – И, повернувшись к коллеге-прапору, успокаивающим тоном: – Да Разин это, Разин. Кому еще быть-то?! На следственный эксперимент везем.
– Так ты Разин или кто? – снова спросил прапор.
Я взглянул на омоновца, который только что предлагал пошутить, и предпочел согласиться с тем, что я Разин.
– Ну вот, видишь, – сказал омоновец и снова исчез за переборкой, открывая прапору дорогу на выход, – Разин это, Разин. Давай добро, таможня!
«Таможня» еще раз подозрительно оглядел меня с ног до головы, фыркнул – и вышел вон. Хлопнули двери, одни, вторые, снова что-то пробухтели голоса снаружи, раздался громкий смех, и, наконец, я услышал, как открываются внешние ворота, отъезжая в стороны по стальным направляющим. Машина медленно перевалила через них, заревел маломощный газовский движок, и воронок вырвался за территорию «Крестов». Я вздохнул с облегчением.
Следственный эксперимент! Любопытно, что еще задумал Муха? Что изначально заварил всю эту кашу и, в конце концов, снимет пенку совсем не он, а кто-то другой, было и ежику понятно. Но мне было проще персонализировать неизвестную вражью силу в лице и этого без того неприятного следователя. Тем более что именно Муха представлял ее интересы. По крайней мере, в части следствия. А Бахва, интересно, – в какой части представляет эти вражьи интересы? В криминальной? Я усмехнулся. И почему он вообще ввязался во все это дерьмо? И кто его на это подписал? А главное – как?
Но что толку гадать – информации для размышлений у меня фактически – ноль! Вражья сила в этом вопросе постаралась на славу – я оказался в абсолютном информационном вакууме. Как в пузыре! И прорвать этот пузырь пока что не было никакой возможности.
Поэтому, оставив все вопросы на потом, я решил вспомнить молодость. Не в смысле ностальгии по ушедшим годам, этим я пока не страдал, пресловутый кризис среднего возраста меня еще не коснулся. Я просто постарался остановить все мысли, достичь внутреннего безмолвия, как это называлось… уже и не помню точно, в какой из духовных практик. Среди студентов интерес к ним был модным, и кое-что осталось, безусловно, в памяти, повлияв на мое мировоззрение. К тому же они мне кое-что дали в житейском плане. Например: умение успокаиваться и концентрироваться. Умение по-особому дышать, разминаться и растягиваться – ну, это точно из йоги. И остановка внутреннего диалога оттуда же. Или нет?
«Ладно, хватит болтать!» – сам себе приказал я и попытался сосредоточиться на звуках, доносившихся снаружи. Больше концентрировать внимание было не на чем – не на этой же собачьей конуре, в которой меня везут. Но ничего не получилось. В голову лезли разные мысли и услышанные недавно фразы…
«На следственный эксперимент везем». Куда, интересно? Хотя что за глупый вопрос! Если меня действительно везут на следственный эксперимент по делу Смирницкой, то значит – в Лисий Нос. На мою же собственную дачу и на дачу давным-давно убиенной соседки, находящуюся на соседнем участке, за полуразрушенным забором и длинной неглубокой канавой, заросшей хвощем и дикими ирисами. Я зримо представил себе темную зелень их саблевидных листьев и синие огоньки разбросанных то там, то здесь цветов. Ирисы цвели все лето, и, если смотреть из окна нашей спальни на втором этаже, канава выглядела скорее как клумба. Наверно, когда-то это была дренажная траншея, но сырой заболоченный грунт почти совсем ее съел. Весной участки заливало талой водой, которая не сходила иной раз до середины мая. Правда, оба дома, и мой, и соседский, стояли повыше, и их никогда не заливало. Дом Эллы Смирницкой вообще был построен на небольшом пригорке, поросшем веселой сочной травой. Чтобы участок совсем уж не одичал, Элла время от времени нанимала какого-то местного синяка выкашивать сорняки.
Неужели Карабас-Барабас решил настолько расширить сцену? Или за этим стоит что-то другое? Но что? Пристрелить меня при попытке к бегству? Зачем было весь этот огород городить? Собственно, я это уже обдумывал, даже и не раз, и вывод был прост и очевиден: хотели бы замочить, давно бы замочили и фамилию б не спросили! Кстати, о фамилии. Какого рожна они мне Разина этого навязывают с таким параноидальным упорством? Он мне, конечно, роднее всех родных, Разин этот. Но как-то все слишком мудрено, неправильно как-то: свинтить человека за старое преступление, которое и не преступление даже, а вообще подстава голимая, подстроенная от начала до конца, да еще и восемь лет тому назад! – и шить ему это дело, создавая видимость, что восьми лет не было вовсе. Тем более, что за эти восемь… Ух, и считать не хочется, самому страшно, сколько на мне всего за эти годы по все стороны всех мировых океанов! Три года расстрела и сто пожизненных заключений можно по совокупности присудить. Так нет же, далась им эта Элла Смирницкая. Хотя, конечно, не она, а я в этой игре и цель и главная разменная фигура.
А может, это какой-нибудь запоздалый мститель за порезанную Эллу – из числа верных клиентов, чьи дела она улаживала с такой проворностью, что даже старый Бахва вспоминал ее не иначе как с почтением? Но я тут же отбросил эту мысль – слишком все затейливо. Банальному мстителю весь этот народный театр без надобности. У него простые цели, и средства их достижения были бы не сложней. Попытался бы как-нибудь грохнуть меня, сам или кого нанял бы – и вся недолга.
Нет, эта история совсем о другом. А о чем?.. Судить об этом можно было бы, имей я хоть какое-то представление о конечных целях этого урода-кукловода. А так – без понту гадать. Ментальная мастурбация, не более того.
Пока не выехали из города, воронок то и дело останавливался перед светофорами, застревал в пробках, маневрировал из ряда в ряд, кого-то даже обгонял, нервно кому-то сигналил, и ему сигналили тоже. А может, и не ему, просто все вокруг сигналили, как придурки, – будто от этой какофонии пробка может прийти в движение! Только когда проехали пост ДПС перед Лахтой, воронок наконец пошел ровно, и я на те двадцать минут, что остались до Лисьего Носа, по-настоящему погрузился в дремоту.
Машину сильно тряхнуло, я стукнулся головой о стенку и тут же очнулся. Похоже, доехали. Судя по раздолбанной дороге, мы повернули под виадук, по которому трасса «Скандинавия» проходит над поселком. «Не самый удачный вариант», – подумал я. Можно было свернуть в поселок дальше по шоссе и проехать по гладкому асфальту, а не пробираться по колдобинам. Но водила вряд ли толком знает маршрут, для этого надо жить в Лисьем Носу, как когда-то жил Константин Разин.
Ну вот, еще несколько минут – и мы на месте. Я ощутил холодок под ложечкой – волновался, как перед свиданием. Это и было свидание. Только на этом свидании чувства свои надо будет не проявлять, а скрывать. Причем так глубоко, чтобы и самая чувствительная мусорская ищейка не догадалась о том, что у меня в душе творится. Максимум, что можно показать, – вежливый, но неактивный интерес.
Покрутившись еще немного, воронок остановился. Снаружи шумели деревья – видимо, с залива дул ветер. Впрочем, он всегда здесь дул, но деревья защищали поселок. Здесь внизу, всегда тишь да гладь.
Открылась дверь:
– Выходи, приехали!
Я вылез – и меня сразу атаковали запахи и звуки! Я уже и забыл, как их много в мире! Я втянул носом воздух, вдыхая знакомый с детства букет ароматов. Подождал немного, чтобы глаза привыкли к свету, снова открыл и огляделся.
Воронок остановился у забора моей дачи, возле самой калитки. Чуть поодаль на этой же стороне стояла черная «Волга» с ментовскими номерами и грязная светлая «восьмерка». Щелкнули замки дверей, и из «Волги» вылез Муха, за которым хилой тенью возник Живицкий. А вокруг, и за заборами, и просто на улице, уже собирались зеваки. Первыми, само собой, примчались мальчишки на велосипедах, за ними следом появились несколько старух в цветастых платьях. Остальные подтянутся по ходу действия, как обычно, – разве можно пропустить такое представление! Не часто на их Репинской улице такое увидишь. На моей памяти всего лишь второй раз. И оба раза из-за меня.
По двору ходили какие-то люди официально-ментовского вида. Дверь в дом была открыта по-летнему настежь, оттуда доносился запах только что сваренного кофе – значит, Лина дома. Перед крыльцом по обе стороны были разбиты небольшие клумбочки, на которых росли любимые женой анютины глазки. На окнах те же самые занавески, что были восемь лет назад. Или очень похожие. Немного в стороне от крыльца между старыми соснами натянута бельевая веревка, на которой сохнет постельное белье и еще какие-то вещи, в том числе и мужские.
Выходит, Ангелина с кем-то живет, решил я. Это не удивляло. Удивило бы, если бы было наоборот. Непонятно только, как она ментам объяснит наличие другого мужчины в доме при живом муже. Хотя, возможно, ментов это как раз и не интересует. Во всяком случае – этих ментов.
– Здравствуйте, Константин Александрович! – услышал я от подошедшего Мухи.
Так обращаться к зэкам, даже к подследственным, не принято. Нежданная вежливость со стороны ментов, как правило, ничего хорошего не предвещает.
– Здравствуйте, Владимир Владимирович! – сказал я, а потом обратился к уже подошедшему адвокату: – Здравствуйте, Борис Наумович!
Изображавший Живицкого актер в ответ вскинул косматую голову, блеснул очками и пробурчал что-то невнятное. Он выглядел напряженно и озабоченно. Наверное, очень страдал от того, что пришлось вылезти из своего темного угла на яркий свет и всеобщее обозрение. А как похож – вылитый адвокат Живицкий. Или, может, я просто подзабыл, как тот выглядел. Вот посмотреть бы пленочку, где эта шкура режет себе вены, и сравнить… Только где эта пленочка, я и представить себе не могу.
– Как настроение, Константин Александрович? – бодрым голосом продолжил Муха.
Угреватая его физиономия на свету выглядела еще неприглядней, чем в полумраке тюремного кабинета, но светилась довольством.
– Чувствуете себя как, хорошо? Нам сегодня много работы предстоит. Горы просто! И без вашей помощи нам здесь не справиться. Так что милости просим в ваш собственный дом, для начала. А потом во-от туда, – Муха махнул рукой в сторону дачи Смирницкой, – на место преступления, так сказать! Преступников всегда тянет на место преступления, ведь правда?
Я пожал плечами:
– У преступника бы и спросили, Владимир Владимирович.
– Так вот мы и спросим! – засмеялся в ответ Муха. Обычным своим сипловатым придушенным смешком, а не так, как заливался на очной ставке.
Я предпочел пока промолчать, а следак продолжил:
– Пройдемте, господа и граждане! Нас ждут великие дела!
И чего это он так раздухарился, интересно? Аж распирает его, борова прыщавого! То ли обдолбался чем-то, то ли у него туз в рукаве. Второе более вероятно!
– Шабалин! – крикнул следак кому-то во дворе. – Понятые готовы?! Где понятые?
– Готовы, Владимир Владимирович! Здесь уже все, – раздался голос из-за угла дома, и через секунду оттуда вышел человек типичной оперской внешности: среднего роста, среднего телосложения, темные волосы, смуглая кожа, серо-зеленые глаза. Особых примет – никаких. Разве что глаза чуть-чуть раскосые. И одет он был под стать внешности: черная куртка из искусственной кожи, темные брюки, темные же башмаки, сплошь испачканные землей и песком. Похоже, Шабалин успел уже пошарить по участку.
– Инструктаж провел? – строго, но доброжелательно спросил у него Муха.
– Так точно, Владимир Владимирович, – ответил Шабалин по-военному, только что честь не отдал. – Все готово, можно приступать.
– Молодец! – похвалил следак и обратился ко мне: – Пройдемте, Константин Александрович, пора делом заняться.
«А до сих пор мы типа чаи гоняли в тени под соснами», – мысленно ответил ему я.
– Пройдемте, граждане понятые! – позвал кого-то Шабалин.
Из-за дома появились трое субъектов, которых я никогда раньше здесь не видел. Двое мужичков-синячков и неопрятная тетка такой же алкоголической внешности. Честно говоря, я рассчитывал, что понятыми будут соседи – их и найти проще, вот они тут, прямо за забором. Не то чтобы я от этого что-то выигрывал, просто было бы интересно на них посмотреть. Никогда ни я сам, ни мои родители не были в особенно близких отношениях с соседями, но никогда и не ссорились, а иногда даже по мелочам помогали. Кажется, такие отношения называются добрососедскими – хорошее, но забытое слово. И сейчас мне было бы гораздо приятнее видеть здесь, в своем (все-таки!) доме, давно и хорошо знакомых людей, чем этих неприглядных синеморов, незнамо откуда приведенных ментами. Хороши понятые, нечего сказать! Приглядят теперь, где тут что лежит и как двери закрываются, а потом дождутся, когда хозяева свалят в город, и домик обнесут, как пить дать. Хорошо, если не спалят все по пьяни. Хотя мне-то какая теперь разница. Это Лина пусть парится, коли жива оказалась.
Моей экс-супруги, кстати, пока видно не было. Ее присутствие выдавал только жилой вид дома: белье на веревке, цветы на клумбе да запах кофе. Наконец вся наша компания двинулась к нему: следак с адвокатом, я с двумя омоновцами по бокам, за нами понятые, а позади всех – Шабалин. То ли арьергард, то ли сторож, чтоб понятые за бутылкой не сбежали. И чем ближе мы подходили, тем больше захватывало у меня дух – все свое детство, во всяком случае летнюю его часть, я провел здесь, на дедовой даче. А потом, уже когда был студентом и после института, вообще жил тут несколько лет, пока от мамы не досталась квартирка в Купчино. Тогда дача снова стала оживать лишь в летний сезон, а на зиму впадала в спячку.
Все здесь было знакомо до мелочей, до каждого сучка в вагонке, которой этот дом обшит. Вот это крыльцо, ступени… Прямо экскурсия в прежнюю жизнь. Но виду показывать нельзя. Никто моего волнения почувствовать не должен.
Вся толпа во главе с Мухой ввалилась на веранду, которая летом была и прихожей, потопталась там и двинулась дальше по коридору в гостиную. Справа была дверь на кухню, и, поравнявшись с нею, Муха притормозил и воскликнул:
– Ангелина Ивановна, несравненная! Что же вы тут сидите в одиночестве? А что вид такой заплаканный? Что случилось? – Она что-то тихо залопотала ему в ответ, но слов было не разобрать, зато громогласный ответ следователя разнесся по всему дому: – Не-ет! Глупости какие вы говорите, честное слово. Не стоит из-за такой ерунды расстраиваться, вам это не к лицу, поверьте!
«Чего это ты так расшаркался, старый пень? Глаз, что ли, на Линку положил? Ну-ну, флаг тебе в руки, перо в зад. А лучше три», – подумал я и представил себе женушку под этой жирной тушей. Впрочем, после арабских горячих парней ее, наверное, уже ничто не смутит.
– Пойдемте лучше, Лина, с нами, – переходя на фамильярную интонацию, продолжил Муха. – У нас тут запланировано важное мероприятие, на котором ваше присутствие обязательно. Вы когда-нибудь бывали на следственном эксперименте? Нет? Ну, тогда вам повезло. Как раз сегодня и поприсутствуете, прямо сейчас. Пойдемте!
Из кухни в сопровождении следователя показалась моя супруга. Глаза ее и в самом деле были заплаканы, вокруг них чернели круги. Но это странным образом делало ее еще привлекательнее, может быть, из-за выражения детской беспомощности, написанном на лице.
Тут же с улицы, торопливо поскрипывая половицами, вошел человек с видеокамерой на плече. Теперь, похоже, вся грядка была в сборе. Можно начинать представление. И оно началось.
Муха подозвал оператора:
– Иди сюда, Эйзенштейн! Снимай все подробно, чтоб картинка была, как у Спилберга! Аккумулятор на этот раз зарядил? Смотри, чтоб не как в прошлый раз! Дату, время в кадре выставил? Тогда поехали!
«Мотор!» еще крикни, телезвезда хренова! А Муха уже начал витийствовать перед камерой:
– Сегодня 23 августа две тыщи третьего года, время одиннадцать часов, – он взглянул на настенные часы, затем сверился со своими карманными и наконец сказал: – двадцать минут…
И далее почесал по тексту, видимо, не раз уже повторенному перед камерой. Камеры он не стеснялся совершенно, вел себя естественно и бойко. Процесс съемки явно доставлял ему удовольствие. И вправду телезвезда! Прокурорская. Перечислив все необходимые реквизиты – что проводится, кто проводит, где и для чего, – он перешел наконец к сути дела. Вот тут-то я и узнал много нового.
Муха рассказывал, как присутствующий здесь гражданин Разин из корыстных побуждений задумал убить и ограбить соседку, а чтобы обеспечить себе железное алиби, пользуясь медицинскими знаниями и служебным положением, украл на работе сильнодействующий препарат диморфозол («Ну вот, сейчас еще и это пришьют») и отравил свою несчастную жену Ангелину. Во как – не она меня, а я ее!
– Гражданин Разин! – обратился Муха ко мне. – Покажите, где вы хранили вышеуказанный препарат!
– Я не Разин, гражданин следователь! Меня зовут Николай Григорьев. Ко всему, что вы здесь излагаете, я никакого отношения не имею и никакого препарата никогда здесь не прятал. Даже не смогу произнести, наверное, правильно его названия. И эту женщину, – я указал рукой на Лину, – я вижу второй раз в своей жизни. Впервые я увидел ее несколько дней назад на очной ставке в «Крестах»!
Ангелина ни с того ни с сего зарыдала в голос. Алкаши-понятые зашушукались.
– Гражданин Разин!.. – неожиданно заблеял Живицкий.
– Не отягощать свою участь немотивированной грубостью? – насмешливо поддразнил его я. – Что вы! Мне воспитание не позволит.
– Разин, – прикрикнул следак, – прекратите балаган! Учтите, ваше поведение фиксируется на камеру!
– Вот и хорошо, гражданин следователь, – ответил я. – Может мне еще раз повторить, что я не Разин?
– Слышь, ты, не Разин! – сказал один из омоновцев вполголоса. – Кончай ваньку валять. А то мы щас тебе сами наваляем, без камеры. Охота нам на тебя, урода, здесь смотреть. Отвечай давай на вопросы по-быстрому или молчи в тряпочку ваще! Понял?
Я на это никак внешне не отреагировал, но счел совет дельным: все, что хотел сказать, я сказал, хотя вряд ли выступление будет иметь последствия. А теперь можно и правда помолчать, пусть Муха дальше пораспинается – вон он как гладко брешет, прямо Ираклий Андроников!
Ангелина по-прежнему жалостливо всхлипывала, прямо как профессиональная побирушка: «Поможи-ите, чем мо-ожете…». Но понятые шушукаться перестали, а Живицкий заткнулся.
– Гражданин Разин, укажите место, где вы хранили флакон с диморфозолом. – снова попросил Муха.
Я сделал вид, что не слышу вопроса.
– Подследственный отказался отвечать на вопросы следствия, – пояснил Муха в камеру.
И стал сам рассказывать и показывать полку в холодильнике со стоящим на ней початым пузырьком злополучного лекарства. А меня вид флакончика с диморфозолом неожиданно поразил. Никак не мог отделаться от ощущения, что это правда тот самый пузырек и есть. Хотя – почему бы, собственно, нет? Вполне возможно. Вполне мог храниться как вещдок у ментов! Впрочем, ерунда – все эти флакончики одинаковы. Тем временем Муха продолжал с увлечением живописать, как злокозненный гражданин Разин, опоив доверчивую супругу заранее припасенным снадобьем, зачем-то поднялся на второй этаж, в комнату для гостей. При этом следак, увлекая за собой оператора и всех прочих присутствующих, поднялся по узкой лестнице в эту самую комнату, за стенкой которой находилась супружеская спальня. Там Муха и пояснил, что Разин в свое время совершил такой маневр исключительно для того, чтобы выйти из этой комнаты на балкон и спуститься с него в сад с задней стороны дома, оставаясь невидимым для соседей.
Хитер же я, ну прямо как черт! Вот только по лестнице этой трухлявой даже кошка не пройдет – навернется. А они сами, интересно, будут по ней лазать для иллюстрации своих бредней, или все-таки меня попросят? Ну, меня-то они фиг заставят шеей тут рисковать. Так что придется самим. Кажется, приближается кульминация шоу, если только они лестницу заранее не подремонтировали.
Муха как раз растворил двери на балкон и обратился ко мне:
– Гражданин Разин! Покажите, пожалуйста, как вы спускались с этого балкона в сад.
– Я с этого балкона никогда никуда не спускался, – ответил я. – И потом, насколько я могу судить, эта лестница и кошку не выдержит.
– То есть, вы отказываетесь.
– Конечно, отказываюсь. Хотя бы из опасения за свою жизнь.
– Хорошо, – легко согласился Муха и позвал: – Шабалин!
Опер прошел вперед и встал перед следователем.
– Шабалин! – обратился к нему тот. – Выручай. Ты, конечно, не кошка, потяжелее будешь. Но полегче этого отказника, – он махнул головой на меня. – А уж про меня и говорить нечего…
– А вы Живицкого попросите, – не удержался я, – он ненамного тяжелее кошки…
И тут же получил быстрый и увесистый толчок в бок от второго омоновца. Все без интереса оглянулись на меня и снова уставились на Шабалина. Опер, провожаемый многими парами глаз, подошел к распахнутым дверям, выглянул наружу и осторожно попробовал балкон носком ноги.
– Владимир Владимирович, – проникновенно обратился он к своему начальнику. – А может, не надо? Балкончик-то и вправду никуда не годный. Да и лестница не лучше.
– Шабалин, – сказал Муха утомленным голосом. – Не позволяйте подследственному оказывать на вас влияние. Вы что, не видите, что он над нами издевается?
– Вижу. Но я и балкон вижу. И лестницу, – ответил Шабалин с явно сдерживаемой злостью.
– Вот и ступайте, Шабалин, покажите нам… – Муха запнулся, видимо, не знал, что же должен показать Шабалин, и добавил без особой уверенности: – Не бойтесь!
Шабалин посмотрел на Муху так, что, будь я на месте следака, я не то что покраснел бы, а просто сгорел от стыда под таким взглядом. Но Муха ничего не заметил, или ему было наплевать.
А он вообще-то был крепкий, этот балкон, в лучшие времена вся наша семья летними вечерами на нем чаевничала, да еще и гости заглядывали нередко – и ничего. С тех пор много лет прошло и воды утекло, но я знал, что он вряд ли обвалится сразу. Но вот лестница – совсем другое дело!
Шабалин осторожно проверил доски балкона на прочность, наступая на них с возрастающим усилием. Удостоверившись, что его вес они держат, опер осмелел и вышел наружу. Балкон заскрипел, но не поддался. Люди в комнате – и мусора, и понятые – вздохнули с явным облегчением. Муха посмотрел на меня торжествующе – мол, видишь, сучонок, не запугаешь нас! Еще немного, он бы и язык, наверное, высунул, как дурно воспитанный мальчишка.
Попрыгав на балконе и убедившись в его прочности, Шабалин проверил ногой первую ступеньку на лестнице, затем, еще не сходя совсем с балкона, – вторую. Они оказались крепкими и даже особо не скрипели. Это совсем расхолодило опера, и он, уже не особенно осторожничая, стал спускаться. Все присутствующие снова затаили дыхание. У меня в мозгу опять зазвучал Высоцкий – «Посмотрите, вот он без страховки идет! Чуть правее наклон – упадет, пропадет!..» Да, о страховочке мусорам следовало бы побеспокоиться. Первая ступенька… Вторая ступенька… Теперь – третья ступенька… Шабалин попробовал ее ногой – не скрипит. Поставил на нее ногу и перенес на нее всю тяжесть своего поджарого тела.
Что сейчас произойдет, я понял по быстро нарастающему треску. Один из омоновцев успел крикнуть:
– Шабалин, назад!
Но в этот момент Шабалин уже летел к земле вместе с кучей трухи и обломков.
Его вопль заглушил даже грохот от обрушившегося вслед за лестницей балкона. И судя по этому воплю – оперу крепко досталось. Тут же завизжали обе женщины – и Ангелина, и синячка из понятых. Вскрикнули все мужчины, кроме меня – я разразился гомерическим хохотом! Хохотал и ничего не мог с собой поделать. Это не было истерикой, это было заслуженной радостью! Я ждал этого – и вот это случилось! Подумать только – как по нотам! И кто после этого здесь кукловод?