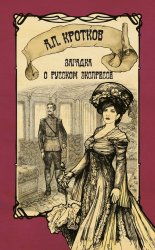Московские Сторожевые Романовская Лариса

Часть первая
Смена караула
- Первая четверть. А класс… Так, наверно, пятый.
- Сонная немка привычно листнет учебник.
- «Тема урока… не надо шуметь, ребята, —
- „Наши питомцы“…» И тут ты соврешь зачем-то.
- Ты не хотел. Просто ты отвечаешь пятым.
- Фраза готова: «Их нихт никаких животных».
- Будешь бубнить — как всегда второпях, невнятно.
- Только тебя вдруг под локоть толкает кто-то.
- Если точнее — как будто тычется носом,
- Преданно дышит и мокрою шерстью пахнет.
- Не дожидаясь немкиного вопроса,
- Ты говоришь, что есть у тебя собака.
- Ты называешь породу, окрас и возраст:
- Сладость вранья и его же запретный ужас.
- У Фомичевой — облезлая кошка Лора,
- А у Витька — хомяк. Ты, выходит, хуже?
- Но из мечты тебя воротят с размаху:
- «Пять, молодец, вот так бы, ребята, всем вам».
- И на Витьково: «Он врет про свою собаку!» —
- Немка ответит: «Зато он усвоил тему».
- Лживость пятерки и Витъкино: «Вот обманщик», —
- Выветрятся сегодня за школьной дверью.
- Чертова псина шагнет, несомненно, дальше.
- Будет с тобой всегда — ты в нее поверил.
- Это какой был год? Девяносто первый?
- Или, скорее, восемьдесят девятый?
- Немка сгорит от солнца, жары и нервов
- Где-то в Эйлате — она из репатриантов.
- У Фомичевой появятся грудь и дети.
- Толстый Бойцов — он в тот день заболел краснухой —
- Станет священником. Витьку ты завтра встретишь:
- Скажете: «Сколько лет?!» — не узнав друг друга.
- Всем невдомек — и церковным, и нецерковным, —
- Что на каких-то выбеленных просторах
- Немка, совсем без морщин, шебуршит попкорном,
- Бродят хомяк и облезлая кошка Лора.
- Ты попадешь туда лет через сорок девять,
- Въедешь в покой на слегка опоздавшей скорой.
- И неизвестно где тебя сразу встретят
- Немка, Бойцов и красивая кошка Лора.
- Ты их обнимешь, кого-то — рукой погладишь.
- И без команды к тебе подойдет собака.
- Шумно вздохнет, на плечах расставляя лапы.
- Ты пятиклассник, а им — не пристало плакать.
К шести утра кошка окончательно окостенела. Даже трогать было не надо — достаточно просто посмотреть. Но я все равно тронула. И позвала привычно: «Кис-кис… Софико, девочка моя… кыса-кыса-кыса-кыс». У Софико моей был такой вид, будто ее вырезали из бумаги — из плотной, рельефной фотографии, сделанной в тот момент, когда кошка кралась по наружному подоконнику. Значит, и не мучилась, не поняла ничего. Я коротко застонала, опускаясь на корточки, вытащила из кармана перчатки — опять непарные, одна ржаво-рыжая, другая серая в узорах. Снова потрогала. Оттащить пока не могла. Размотала платок — как знала, взяла ведь серо-белый, в узор из маленьких черных башен. Укрыла Софико — от усов до хвоста, еще и место осталось. Приподнялась, морщась. Спина ныла который день, а теперь и колени к ней добавились. Ничего-ничего, уже недолго осталось. Софико ушла, никто меня не держит, пора. На подол халата успела налипнуть мерзотная газонная земля. Под платком никто не шевелился. Пальцы жгло, жар: я сняла перчатки, зажала их в мокрой ладони. И пошла прямо под окнами к своему подъезду. За лопатой.
Хороший октябрь в этом году, мокрый, но теплый. Земля на клумбе послушно прогибается, комкается, как рыночный творог. Утро ясное и пока безлюдное. Кто в машину садится, тот по сторонам не смотрит, а собачники спят на ходу, держась за поводок так, будто он единственная нитка, связывающая их выморочную жизнь со сладким забытьем. Да и знают меня те собачники прекрасно. А кто не знает, тот не удивляется: ковыряется себе бабка в клумбе, видно, что-то сажает на зиму или выкапывает, вот делать нечего старой ведьме… А что в такую рань — так и неудивительно, у стариков бессонница бывает, это всем известно. Особенно у одиноких, у которых два спасения — Альцгеймер да серо-белая кошка с опаленными усами. Все, Софико, мягкая земля кончилась, руки от усталости трясет, больше не могу. Пора.
Так и похоронила кошку в своем платке, не стала жадничать. Софийке моей этот платок ни к чему, да и мне тоже. Утрамбовала землю хорошенько, сыпанула семян — тех, что зиму переживут и меня по весне встретят. Надо будет весной сетки на окна поставить. Не мне уже, ну да какая разница. Все-таки последний этаж, особое место.
Я на край клумбы камушек с книжной полки положила, серенький, морской, в семьдесят четвертом году из Сочи привезенный. Не знала тогда, для чего беру. А он же не плоский, а фигурный. На кошку похож. Ну вот и отметина. Теперь точно никто не тронет.
Взяла лопату, обратно пошла. Грязь газонная с халата на асфальт сыплется, подковы на ботинках — и те не стучат. Стерлись. Ну вот и пора.
Пока я в лифте поднималась, у соседей как раз будильник прозвенел. Я лопатой о бетонный пол дзынькнула, руки-то не гнутся, ключ в них пляшет, и брелок подпрыгивает, а Тамара уже на площадку выкатилась. Тоже в халате. Сигарету на губы посадила, только потом поздоровалась:
— Утро доброе, Лика Степановна…
У Тамары утро не добрее моего: ей сейчас внуков в школу-садик вытаскивать, потом с невесткой ругаться из-за обгорелой кастрюли, потом сына будить и борщом после вчерашнего откармливать, потом с мужем… А с мужем вот ничего, он Тамаре вчера пенсию принес и три гвоздички дохлых, на него вроде как и злиться не положено…
— Утро, — говорю… И улыбаюсь всеми морщинами. Тамарка кивает: ясно ей, что Степановна совсем с глузду съехала, раз по ночам с лопатой по району разгуливает, будет о чем невестке за завтраком рассказать. Сколько себя нынешнюю помню, столько и Тамару знаю. Даже жалко ее как-то, старую, здесь оставлять… Вот сейчас поулыбаюсь ей как следует, пусть у нее день заладится и в хороший вечер перетечет, мне ж не жалко.
— А что, Лика Степановна, племянник ваш к вам не ездит больше? — Тамарка выпускает последний моток дыма, хвост сигареты в банке топит.
У меня ключ в скважину попал, хорошо-то как…
— А то давайте поможем… Антоша на рынок сегодня поедет, пусть вам тоже привезет…
— Ездит, Томочка, ездит. Спасибо за заботу…
У Антоши уже двое детей и третий через год вылупится, а он соседям помогает так, будто до сих пор план по тимуровской работе выполняет: с ненавистью, но старательно, Тамару слушает.
— Как скажете, Лика Степановна…
Выучила-таки, смилостивилась. Не Ангелина я, не Акулина и не Гликерия… Ликой меня зовут. Нельзя первую букву путать, неправильно это.
Я Тамаре, конечно, соврала когда-то шутки ради. Дескать, папаша мой несуществующий, Степан, меня Электрификацией назвал, а потом я переделала. Томка поверила и всему дому раззвонила. А чего бы ей не поверить. Мне сейчас лет восемьдесят пять, а то и побольше. Для того поколения имечко в самый раз будет.
Я дверью себя заслоняю, бормочу чего-то, а Тамарка уже звонок давит и лопату мне сует. Совсем про нее забыла, надо же. Ну, пора, значит.
В стиральную машину я все закинула — и перчатки, которыми Софико в землю укладывала, и халат замызганный. Хорошая машинка, второй год ей всего, новая… Случись что не так, ее ж Ростик к себе упрет, он крохобор… Надо будет подсуетиться, не допустить.
Ну, машинку я завела, пошла в ванную руки мыть. Глянула на наполненную ванну: тоже забыла про нее. Я ведь спину греть собралась, уже под утро, когда форточка на кухне хлопнула. Теперь вот воду по второму разу набирать, соль, пену и масляные шарики изводить. Ну ничего, пусть набирается, а я пока Софико покормлю, вроде там еще банка «Вискаса» открытая в холоди…
Мобильник верещал обиженно, выплескивал в тишину Майю Кристалинскую. Опять мамочка звонит, чтоб ее…
— Леночка, не разбудила? Ах, ты не ложилась еще? Тогда слушай. Мы с Ростиком, конечно, к тебе сегодня собирались…
Мне что отвечай, что не отвечай — мама и не заметит. Не приедут — оно и к лучшему, не поругаемся лишний раз. Да и Ростислава видеть не хочу, насмотрелась я на него.
Ростику девяносто девятый год пошел, а мама его от себя отпустить все не может. Младшенький сыночек, любименький бубусик. Если бы вместо Ростика сестренка родилась, как хорошо все было бы. Три дочки, три наследницы, обучать легко, дела делить — одно удовольствие. Мама так и планировала, что три нас будет: Леночка, Манечка и Настенька. А вместо Настеньки родился крикливый рыжий мальчишка, все загубил.
— Леночка, ты слышишь меня вообще? Я говорю, что ботинки зимние смотреть поедем, у Ростика опять нога выросла…
Вот мама умудрилась, а? Конечно, Ростю никто бы к серьезным делам не допустил, ведьмачить бы не дал, но ведь он же не совсем пропащий, с нашей-то наследственностью. Хотя и среди Спутников хорошие мастера бывают. Сложное это ремесло — людей на всю жизнь счастливыми делать, я вот с трудом справляюсь. Для этого мягкость нужна, а в Ростике ее хоть лопатой греби.
Ростислава в ученики многие звали. И в тридцатом, когда он совсем совершеннолетним стал, и в сорок первом — когда мало Спутников осталось, и в сорок пятом, когда… А мама сказала «нет», ну, значит, и нет.
Так и ходит Ростик у мамули в учениках. Без нее ничего путного не может. Даже не пробуждался ни разу. Мама его сама молодит, ей это вроде не в тягость, хотя сил, конечно, от этого не прибавляется… Ну, маме виднее. Я-то знаю, где она отогревается потом: обновит Ростика и ждет, когда он молодую жену домой приведет. И вот воюет с невесткой, доводит ту до кипения: чтобы смерти свекрухе пожелала да понадеялась ту пережить и сплясать на поминках. Долго иной раз ждать приходится. Мамуле.
Я Ростислава про себя Синей Бородой дразню, хоть он и безбородый сейчас: чего-то мама перемудрила, сделала его двадцатилетним. (Это ж его Тамарка за племянника моего приняла, к вящей радости мамули.) Вот этим летом весело было, когда Ростик в университет поступать решил, на философский. У него это уже шестой институт будет: ни один не закончил, все женился… А мама бдела: чтобы, спаси нас всех, никто из Ростиковых подружек наше семя в себя не принял, а то ведь признавать придется, особенно если внучка…
— Так ты, Леночка, согласна, правда?
— Нет, — говорю я не раздумывая и воду в ванне перекрываю. Там пена над бортиком поднялась, упругая и пузырчатая, как на пивной кружке. Пора греться.
Сперва мамуля еще в трубке чирикает, потом я отключаюсь, так там снова Кристалинская на всю квартиру поет, к моей совести взывает.
А в ванне правильно, горячо. Пена — это, конечно, не травки всякие, но тоже хорошо. Травки у меня следующей осенью появятся: я ж к весне помолодею, обновлюсь. Вот и соберу их нормально, а ближе к августу всякие отвары сделаю. Не по мамулиной указке, а как мы с Манечкой покойной привыкли.
Про Манечку — точнее уж Маничку, как тогда принято было, — мне до сих пор вспоминать холодно. Даже сейчас пятнистая кожа мурашками идет, хоть вода и горячая. Маня так толком и не пожила. Всего один раз обновиться успела, да и то неудачно. В тридцать девятом году… Полтора года подурачились мы с ней, а потом Маня замуж вышла, в городе Киеве. Дальше рассказывать или и так все понятно? При первой же бомбежке, а может быть, и при второй. Ведьмы ведь только огня боятся, остальное им так… не сильно опасно. Потому и в войнах нас гибнет куда меньше, чем при пожарах, взрывах и прочих огнеопасных делах…
Мне вот повезло, хотя мы с Манькой вместе тогда молодели, я тоже первый раз. Документы на близняшек сделали: она Марианна, я Людмила. Имена как угодно менять можно, только первую букву не тронь. Маничка, дурища, все Аней представлялась. Вот и напортачила. А на мне теперь дел в два раза больше, не справляюсь толком. И когда Леночкой была, и когда Людочкой, и когда Ликой… Степановной, хих… В честь того покойного мужа, который на мне-Людочке женился. Манькина идея была, кстати. Еще на моей свадьбе, в сороковом. «Вот будем с тобой году так в семидесятом перекидываться, так я Владимировной буду, в честь Володечки, а ты тогда Степку увековечивай, если детей не будет…» Не будет, Маня… Рано мне еще.
Из воды я со скрипом и оханьем выбираюсь, цепляясь за специальный поручень, поставленный соседкиным Антошкой. Надо будет его весной поблагодарить, а то парня совсем семья заездила, пусть развеется, дурной… Ах ты, мать-перемать, халат в стирку отправила, накинуть нечего. Ну можно тогда и в ночную сорочку сразу.
Двор под окнами розовым рассветом перемазан, хотя солнце сейчас в синюю стрелку облака уйдет. Не октябрь, а апрель, честное слово. Уже первому снегу падать пора, а тут вот дождик собирается. Ну и хорошо, на самом-то деле. Сейчас чаю заварю и радугу тоже… А уже потом спать. Только не очень долго. Надо бы будильник на три часа поставить. Раз мамуля с Ростиком в гости не прибудут, то можно и самой к Старому поехать. Самое время поговорить. Про то, кто за хозяйством вместо меня присмотрит, про документы новые, про то, как квартиру переоформить, пока я обновляться буду… А то ж знаю я мамулю, она сюда Ростика с какой-нибудь финтифлюшкой заселит, купившись на его нытье. А у меня весной новая жизнь начнется, четвертая, мне самой все надо. Да и вообще, не для того я еще в прошлой жизни этот кооператив себе строила…
Чай хорошо заварился. И мед к нему хорошо пошел… а все равно невкусно. Неуютно. Забыла я что-то. Радугу!
Окна у меня уже все заклеены, кроме той форточки, через которую Софико ушла…
Значит, на балкон надо. Руками я уже не машу толком. Только так, пару семечек кину, как раз на кошкину могилку в клумбе.
Радуга хорошая получилась. Не сильно крепкая, как после грозы июльской, не слабенькая апрельская, а в самый раз. Один конец за соседней высоткой спрятался, другой по ту сторону дома, где-то за рынком упал, прямо у метро…
И самой от этого получшело. Спина перестала натянутой струной нудеть, руки не дрожат больше. А вот на балкон после ванны — это дурость. Простудиться можно. Тут хоть ведьма, хоть кто, насморку без разницы.
Спать пора.
Мед хорошо расслабляет, проверено. А уснуть сразу не получится. В последние годы, когда я сильно стареть начала, ко мне Софико приходила, сон на хвосте приносила. Я для того вторую подушку с кровати и не стала убирать. И сейчас не буду. Мне здесь еще девять дней ночевать, перетерплю. А вот весной одна точно не буду. А если и буду, то… может, крылатку завести? У меня последний этаж, тварюшке здесь удобно будет?
Подумаю еще. И про новое имя подумаю, пока время есть… Чтобы на «л», как и полагается… Лидой быть не хочется, немодно это. Лариса? Луиза? Лилия? Линда? Или, может, Лия, чтобы не сильно вздрагивать в первое время?
Имена перебирать — самое оно сквозь сон.
Соседи у меня тихие, никто спать не помешает — ни Тамарка с потомством, ни те молодые, которые за стенкой квартиру сняли. У них там тоже дите, но воспитанное. Звонкое обычно, а сейчас вот болеет. Загляну к ним вечером, прежде чем к Старому ехать…
Стены в доме те еще. Слышно, как там молодая ребенка утешает. Весной познакомлюсь заново, а сейчас пусть хоть так:
— Кирюшенька, ну-ка не реви! Иди покажи маме, какая за окном радуга.
На второй подушке еще вмятина осталась — вся в кошачьей шерсти.
Старый тоже учудил со своей квартирой — обменял центр на окраину. Оно понятно, Старому шестая сотня пошла, трудно ему с центром управляться, там одних учреждений сколько, не говоря уже про бульвары, по которым ходят влюбленные. Сложно за всеми уследить. Так что Старый еще в восьмидесятые, как на окраине онкологический центр заложили, начал себе замену выискивать из Сторожевых покрепче и похозяйственней. Теперь Матвей за центром присматривает, а Старый себе трудный окраинный район забрал с наконец-то отстроенной онкологией. Это мне он трудный, потому как опыта не сильно много, а Старому после наших политиков-паралитиков такая работа — один отдых. Только добираться туда тяжело. Особенно сейчас, когда тело совсем подсыхать стало и память за собой потянуло.
Ну да это ничего: хоть я номер троллейбуса и перепутала, петлю вокруг района описала, пассажирам сильно повезло. Я ж, склерозница, на редкий троллейбус умудрилась сесть, из тех, что раз в полчаса из-за поворота появляются. Так что никто никуда не опоздал, на остановке под дождиком не намерзся, у девочки беременной токсикоз прошел, а у самого шофера гастрит передышку сделал. И парочка влюбленная не поссорилась, та, что впереди меня сидела. Им бы, конечно, расстаться надо, если по-хорошему. Так пусть по-хорошему и расстаются, а не через пень-колоду, на глазах у пассажиров. Пусть деточка себя красивой и любимой еще четыре дня почувствует. Она на Маню мою покойную похожа, та тоже так носик морщила, чтобы не плакать.
Дом у Старого теперь — как моя блочная конурка, угловой и на отшибе. И квартира под самой крышей, как и полагается. Клумба внизу вся раскурочена (не иначе Гунька опять порылся, балбес), а асфальт под окнами крупными буквами расписан. И «Я тебя люблю, кусик», и «Выздоравливай!», и даже «Мама, с Днем Рождения!») кто-то написал. Повезло соседям Старого. А балкон у него на онкологию выходит, как он и хотел, чтобы приглядывать удобнее было.
Я до него не дозвонилась: мобильником Старый пользоваться не любит, а дома не всегда застанешь. Поехала так, знала, что не впустую.
Домофон набрать не успела, меня ребятки впустили. Хорошие такие, славные… Сидят на ступеньках, греются, у одного барышня на коленях примостилась — и правильно, нечего дамский инвентарь на цементе студить, — у другого гитара, как у юнкера Митечки, и курит он так же смущенно. А в лифте опять влюбленные надписи пошли, ни одного матерного слова. Это помощник следит, умница.
Дверь я толкнула, Гуньку от себя отогнала, чтобы под ногами не путался, не помогал раздеваться, а поздороваться не успела. Вместо Старого в прихожую Жека-Евдокия вышла, толком не проснувшаяся, хотя уже семь вечера на дворе.
— Ленка, привет! Проходи давай, я сейчас чайник… Гунька, брысь отсюда, не мешай… Пшел в кухню, ну? Совсем распустился, паразит… Лен, ты чего такая? Замерзла?
Гунька на Евдокию глянул обиженно, голову понурил и в кухню ушел. Был бы у него хвост — поджал бы. Я все жалела, что у меня Софико обычная кошка, необучаемая… а у Старого вон помощник лучше любой тварюшки. Давно пора ученицу брать, я ж говорила. Или это мне Жека-Евдокия говорила?
Жеке сейчас лет под тридцать должно быть, если я не путаю. Она на миллениум обновлялась, сама себе подарок на новый век делала. Старенькая была — путала многое. Все тот двухтысячный год линолеумом звала. А на две тысячи первый она уже на танцах где-то скакала… То есть в клубе, опять слово в моду вошло.
— Леночка, ты чего? Увядаешь, что ли? — Жека с меня жакет снимает, брови на краешек лба приподнимает в тревоге. На кухне чайник свистит старинный, Гунька его снять забыл, в квартире травками и мытым полом пахнет… А вот Старым не пахнет совсем.
— Дусенька, — говорю я, зная, что Жека свое первое имя терпеть ненавидит, — Дусенька, мне бы Старого найти, а то я совсем сдавать стала… Пусть его Гуня из больницы позовет.
— А у Старого, Леночка, то спячка, то горячка, — бодро рапортует Жека и тащит меня на кухню, чаи гонять. С айвовой пастилой, гранатовым вареньем и настоящим штруделем. Он уже остыл, правда, но Гуня нам погреет. Мне к микроволновке идти тяжело, а Евдокию ни одна молодость не исправит, небытовая она у нас. Сто лет назад не знала, как кнопочки в лифте нажимать, теперь вот со времен «линолеума» все пытается компьютер освоить. Про микроволновку мне и думать смешно.
Как же плохо-то, что Старый в спячке: мне хозяйство оставить не на кого. И с квартирой надо что-то решить. Я ж к весне полтинник сброшу, если не больше. Документы новые подберу, но это не сразу. А так мамуля на квартиру зуб точит, с нее станется риелторов нанять, а то и адвокатов: доказать, что я-нынешняя себе-будущей жилплощадь отписала, находясь не в здравом уме и не в твердой памяти. Любой эксперт и сейчас подтвердит, что ум мой нездрав, а память…
— Жека! Ты что, опять куришь? — Совсем Дуська с ума посходила. Смолит как паровоз, да еще и коньяк выставила, не бережет здоровье. Нам же омоложаться часто нельзя, да и годы обратно набираются легко: не последишь за собой месяца два-три, злоупотребишь всем тем, по поводу чего Минздрав предупреждает, вот десяток лишний и набежит. Жеке сейчас лет двадцать восемь должно быть от силы, она молодела жестко, почти как Ростик под мамулиным нажимом… А выглядит… Ух! Я себе еще штруделя отрезаю и вареньем его сверху мажу: пока мне-то можно за собой не следить. К весне я моложе Жеки буду, придется талию блюсти. Хотя, конечно, ни Леночка, ни Людочка, ни Лика-хихикс-Степановна совсем уж монашеский образ жизни не вели. Особенно когда я Людмилой из роно была.
— Дусечка, не знаешь, что весной в моду войдет? — Я перехватываю у Евдокии сигарету. Она мне сейчас такого наговорит, хоть святых выноси. На обратном же пути куплю себе журнальчик мод в метро почитать, если дорога спокойной будет.
Сигаретка — так себе, парфюмерная, тонкая, сгорает быстро, не надышишься ею толком. Одна отрада — в пальцах красиво смотрится. Даже в моих, не говоря уже про Жекины. Евдокии с руками повезло (правда, не в том смысле, в котором ведьме надо): кожа белюсенькая, нежная, пальчики тоненькие — такими только бисквит ломать да венчальные кольца женихам насаживать. Порода, что говорить, дворянская.
Ведьме ведь, сколько ни молодей, внешность толком не изменить: если была курносой и сероглазой, то хасидского профиля и глаз-черешен при обновлении не будет. Потому и фотографии прошложизненные хорошо показывать: «Как же ты, Ликочка, на свою бабушку Лену похожа!» — хих… Жека-Евдокия, правда, Жекой бы не была, если б природу не перехитрила. Как обновилась в этот раз, так и под нож сразу легла — подбородок подтачивать, ушки поджимать, тварюшек всяких рисовать на теле… Хотя нет, тварюшки — это не к хирургам, это к тату-мастерам. Все одно — начнет в следующий раз молодеть, так с нее эта глупость врачебная и слиняет.
— Как, шальвары опять в моду вошли?! Да что ты, Дусенька, мне такое говоришь?
Жека меня от недопитого чая оттащить пытается, в ту комнату, где она квартирует, пока Старый в спячке. Там у нее наряды свалены, в том числе и шальвары эти. Дескать, буду молодеть, она мне все весной отдаст, во что уже сейчас не помещается. А я и сейчас в них влезть могу. У меня ж, в отличие от Жеки, конституция другая, спасибо маменьке и неизвестному отцу, талия до сих пор держится, хоть живот и висит мешком. Так что пригодятся мне Жекины наряды, если они к тому времени из моды совсем не выйдут. Но пока не до них. Меня квартира заботит и то, на кого район передавать.
Думала, Старый со всем этим разберется, а он вот на заслуженный отдых ушел. Это нам, женщинам, хорошо — омолодилась себе за сорок дней и живи дальше спокойно лет двадцать-тридцать, пока организм не износится. А с мужчин чего взять? Даже лучшие Спутники и Смотровые на покой уходят. Старый — он сильный, колдовство в нем крепкое. Поэтому и отдыхать будет до Нового года. Как раз тогда Гуньке срок придет силу набирать, а то он чего-то вялый совсем, ссору под окнами, и то с первого раза загасить не может… Так к кому теперь обращаться, куда бежать, на кого мое хозяйство-то переводить?
Вот не зря Старый себе на замену Жеку-Евдокию поставил. Она, конечно, баламутка еще та, но выход придумала:
— Ленка, а давай ты замуж выйдешь? Квартира супругу отойдет, а потом он ее на тебя новую перепишет? Ну чего ты морщишься, я дело говорю…
Говорит она мне! За кого замуж-то, Дусенька? Где я себе свободного мужика найду? За Отладчика не хочу, спасибо… У нас тут из Смотровых только Матвей с Петькой, по остальным районам женщины сидят. А свободных Спутников в природе не существует, это аксиома. Им же без протеже нельзя. Если Спутник никого не патронирует — у него сила уходит, колдовство скисать начинает, как у маминого Ростика-недоростика. Так что Спутники все в браке состоят, у них природа такая.
Жека ухмыляется, ведет тонко выщипанной бровкой и подзывает Гуньку, чтобы свежий чай заварил. На тех горячих травках, которыми семью мирить хорошо.
— Лен, ну какой Спутник, я тебя умоляю? Это ж фикция чистой воды: распишетесь и разбежитесь, только вас нотариус и видел, Гуньку себе в мужья возьмешь, елки-палки!
Совсем Евдокия того… то есть Евгения, но мне от этого не слаще. Гунька меня нынешней на полвека моложе, в ЗАГСе конфуз будет.
— Не будет, — уверяет меня Жека и разливает медовый чай. — Гунька, неси свой паспорт!
Гунька со своей табуреточки, что между холодильником и окном втиснулась, поднялся. Посмотрел на нас перепуганно, но в комнаты ушел. Совсем ребенок ведь… Да еще и мирской, не колдовского рода. Потому и должен на мастера семь лет отработать, чтобы в ученики взяли. И как Старый на такое баловство пошел? Виданное дело — из мирского мальчишки ведуна делать, время тратить на такую безделушку. А с виду-то и не скажешь, если на Гуньку посмотреть. Ничего такой, на одного Манечкиного кавалера похож, еще из первой молодости. Тот тоже высокий был, рыжий, почти ржавый… Маня его так Ржавым и звала… в ответственный момент.
— Ты, Евдокия, как хочешь, а я за ученика замуж не пойду! Сама такого в мужья бери.
— И возьму, — хохочет Жека, ибо коньяк и вправду недурной… — Вот его Старый летом на ученичество поставит… хихикс… отогреет, от мирского отметет… я Гунечку себе и заберу, пока ты там пробуждаться будешь, дорогая моя Степановна. «У церкви стояла котлета… карета… там пышная свадьба была…» Гунька! Ты паспорт принес?
Принес. Стоит будущий ведун на входе в кухню, рот раскрыл, руки по бокам свесил, под очками толстостенными дрожат перепуганные глаза. Боится, что и вправду поженимся. С Жеки сейчас станется, наплетет ему три бочки арестантов про жениховские обряды, дурная…
Хотя я бы на ее месте наплела, над кем еще честной ведьме подшутить, если не над своими же? Помощник — он ведь и не человек, и не ведьма. Так, что-то вроде подручной тварюшки. Но я к своей кошке Софико получше отношусь, относилась… чем Жека к этому. Хотя… Ой, не зря Евдокия по квартире в этой тряпочке разгуливает, которая теперь вместо халата в моде… Не зря у нее сейчас бровки черные и узкие, а кудри тоже черные и крупные. Не просто так Старый помощнику такой присмотр выбрал — хочет Гуньку переучить, на правильный путь поставить. И, судя по Жекиному виду, это обучение у них каждую ночь полным ходом идет. Она вон какая довольная. А мальчика жалко, он бледный совсем, пот на лице вперемешку с веснушками выступил…
— И что мы имеем с гуся? — Жека-Евдокия от Гуньки (с поклоном, естественно, все как полагается) краснокожий паспорточек приняла, раскрыла на нужной странице. — Холостой у тебя жених, Ленка… Радуйся…
Паспорт на первой страничке открылся, я чуть прищурилась, Жеке через плечо заглянула: Сергунин Павел Сергеевич, 01.05.1985, ОВД р-на… На фотографии совсем ребенок, в двадцать лет сейчас снимок делают, если я ничего не путаю… И понятно, чего его Старый Гунькой назвал: кличку-то сам мастер подбирает, по своему разумению. У Старого с фантазией небогато, он для этого слишком серьезный. Вот фамилию и окоротил… Павлику. Или Пашечке? Как же мне мужа-то называть?
Жека тем временем на Гунькин снимок в паспорте поглядела строго, дунула-плюнула, растерла. Поцеловала, как надо, фотокарточку — губами в губы. Словно ветерок подул, и тюль на окне заколыхался — постарела фотография: кудри в плешивый ежик перешли, вместо веснушек по щекам морщины побежали, а глаза с губами остались детскими, их никакое колдовство не берет…
— Ленка, ну теперь ты давай, что ли? Я за тебя тут пахать не нанималась! — И Жека опять к сигарете тянется. Ведь проснется завтра, дурная, на год старше, с такими-то привычками. Не мое это дело. Мне свое стариковское ворчанье еще сорок дней выпускать можно, потом не пригодится. Пора отучаться от него.
Я на циферки гляжу прицельно. Восьмерка меня слушается, поджимает брюшко, разъезжается. И становится наш Павличек Сергунин аж 1935 года рождения, как нам и надо.
— Гуньку прям сейчас старить будем? — советуюсь я с Жекой.
— Зачем сейчас? Завтра с утреца, как в ЗАГС пойдете… сейчас он мне такой нужен, — хихикает Евдокия.
Гунька все еще мнется в дверях. Страшно ему. За семь лет жизни у Старого много чего перевидал, а вот в мужья его еще не отдавали. Чувствую, Жека наплетет ему сегодня.
— Иди пока, на табуретке отдохни… — успокаиваю его я.
— Правильно, Гунька, слушайся жену… — подначивает Жека, убирая тот паспорт в вырез на своем, пардон, халате. — Сейчас передохнешь — и за продуктами, завтра много народу придет, свадьба все-таки…
— Жека, у тебя совесть есть? Ты посмотри, на кого я похожа, какая свадьба…
— Ну, значит, не свадьба, значит, так просто… В новую жизнь тебя проводим, посидим нормально. Давно ведь не собирались. И вообще, мне скучно.
Скучно ей. У нее район Старого на пригляде, молодой помощник под боком и своих дел выше крыши. Но, может, и правда скучно? Жека ведь молодая сейчас, ей веселья хочется, а она работает без продыху.
— Да не хочу я… Ты посмотри, на кого я сейчас похожа!
— Ой, да ладно тебе. Все равно, раз Старого нет, собраться надо, хозяйство твое поделить, чтобы по-нормальному.
И то верно. А то я со всей этой мишурой про главное запамятовала.
— Лен, пока не забыла, дай я тебе возраст померяю. — Жека в кухонный шкафчик полезла. Изогнулась вся, был бы у нее хвост — так вильнула бы им. Гунечка сидит себе на табуретке, крупными ладонями колени прикрыл и в кафельный пол смотрит. Хороший пол, промытый, розовый. На таком работать — одна радость.
Тут Жека процокала каблучками обратно, коробку с измерителем открыла.
— Лен, ты чего застыла?
— Так это… неудобно…
— А кого стесняться, Гуньки, что ли? Он и не такое уже видел.
— Павлик, выйди отсюда, — перебиваю я Жекины смешочки.
— Он тебе уже и «Павлик»? Ну-ну… Ладно, поворачивайся давай…
Я дождалась, пока Гунька в коридоре скроется, только потом кофту сняла. Измеритель возраста, обычный ведьминский, если без наворотов, он на простой лифчик похож. Только застежка спереди, а на ней часики с одной стрелкой. Первой меткой «двадцать один» идет — возраст нашего совершеннолетия, на меньшее ведьма не помолодеет, последней — «девяносто девять». Да только вот до этой циферки стрелка не дотягивает никогда: ни одна из нас до такого возраста не доживает, даже самая упорная обновляться идет.
— Ну чего, Ленка?! Шестьдесят семь на восемьдесят пять, все тип-топ!
Шестьдесят семь — это на сколько я выгляжу. А восемьдесят пять — на сколько организм себя чувствует. Все правильно — я за последние годы в старуху превратилась, сильно сдала. Было с чего, откровенно говоря. Жека в подробностях не знает, а вот соседка Тамара…
— Дусенька, мне ж домой ехать надо… Вечер уже, люди с работы вернулись, ссорятся…
— Как поссорятся, так ты их завтра и помиришь… Ничего страшного, потерпят… — грустно говорит Жека. Это она сейчас себе возраст померила и в ступор впала. Расстроилась. Я, конечно, все циферки в подробностях не видела, но…
— Бросай курить, Жека…
— Брошу, Лен. Честное слово, брошу. Вот завтра у тебя на свадьбе оторвусь, и все, завяжу… Ну ладно, не морщись. Не на собрании. Надо будет сейчас народ обзвонить. Гунька! Лен, ты оделась уже? Гунька, где у Старого записная книжка лежит? Неси давай! Лен, а может, на ночь останешься? Еще чайку попьем? Я сейчас в больницу схожу, пройдусь под окнами… Обход сделаю и вернусь, а?
— А район?
— Ну, район… Давай Марфе позвоним, она у тебя там рядом. Пусть заглянет, ей недалеко.
— У Маринки ребенок, неудобно человека отрывать…
— Ничего, пусть проветрится, ей полезно. Лен, ну давай останешься, столько не виделись с тобой…
— Да не хочу я. И Марфу дергать неудобно…
Про Марфу-Маринку я хитрила, если уж честно говорить. Она, может, и правда с дочкой перед сном прогулялась бы с радостью. Ей развлечение, ребенку урок. Не в этом дело было, а в свадьбе. Хоть и шутовская, а все равно надо нормально выглядеть. Тем более, во мне сейчас всего шестьдесят семь лет, можно себе позволить одеться поприличнее.
— Ну ладно, ты мне тогда паспорт свой оставь, я утром в ЗАГС сбегаю, взятку суну. Приезжай к двум часам. Сходите с Гунькой, распишетесь, потом наши заглянут, посидим спокойно, все вопросы порешаем… Свадьбу, опять же, отметим… — И Жека-Евдокия опять к сигаретам потянулась, хихикая чему-то своему. Узнала уже, наверное, какой у нас завтра в ЗАГСе конфуз произойдет.
Свадьба хоть и шутовская, а все равно порядок нужен. Я еще с вечера, как от Жеки вернулась, пошла обручальные кольца выбирать. Их у меня с десяток найдется: ни в одной жизни я старой девой не была, хоть времена тогда шли не самые сладкие. Вот и осталось… Я сейчас все золото перебрала и два платиновых оглядела. Кое-что — с камнями, неношеное — отложила сразу: весной много денег понадобится. И на наряды, и ремонт в квартире нужен. Пол совсем поизносился, хотя я на нем и не работаю уже почти, так, дурью маюсь иногда. Ну и стеклопакеты я хотела. И сетки на них. Или без сеток, если все-таки крылатка у меня будет вместо обычной кошки? Посмотрим, Лика… Я себя еще пока по-старому называю, а сама улыбаюсь не хуже, чем у Жеки за столом. Она ж меня вчера заболтала совсем, умница. Заставила забыть про то, что мне скоро предстоит. Обновление — это страшная вещь на самом-то деле. Как умереть, родиться и родить. И все сама. Сама собой, если точнее.
А колечки я хорошие выбрала: для Гуньки смешное, тоненькое, которое мне, как Людмиле, один товарищ из райкома подарил. Полоска полоской, а в нее стрелка из белого золота вплетена. Нам камни носить нельзя, так тот вечный комсомолец трижды к ювелиру бегал, пока мне не понравилось. Смешная вещь, а главное — расставленная немного. У мальчика пальцы крупные, ему налезет. А себе я Манину память приготовила: стиль модерн, еще до Первой мировой сделано. Оно фигурное такое, сверху что-то присобачено — не то веточка, не то бабочка. На самом-то деле — кошка-крылатка, но это если через кольцо сбоку посмотреть. Мирской и не поймет.
Гардероб у меня сейчас неважнецкий, но приличные вещи отыскались. Даже не от Ликиной старости, а от Людмилиной — жалко было выбрасывать, уже и не вспомню, почему.
Челку мне вчера Жека подкоротила, по бокам тоже подровняла. Получился почти полубокс, но он мне всегда шел, форма лица-то не меняется. Только увядает и зацветает, как нам и положено. А с черной шляпой седые волосы всегда хорошо смотрелись.
Соседка Тамара, как всегда, на площадке дежурит, как неопытная Смотровая. К напомаженным губам бычок прирос, вместо халата костюм спортивный — скоро пойдет внучку из школы в бассейн отводить, а пока так, отдыхает вроде.
— День добрый, Лика Степановна. Собрались куда-то?
— На свадьбу.
— Племянник, что ли, женится? Идите осторожнее, там гололед сегодня.
Племянник, Томочка, племянник. Ох, чувствую, весело у нас сегодня собрание пройдет, если кто мамуле про свадьбу проболтается. Она ж первая примчится и кипешить начнет. Причем по-быстрому: а то мало ли, вдруг в ее отсутствие Ростик какую-нибудь глупость сделает.
А на улице и вправду подморозило. День ясный, солнечный, небо голубое и звонкое. По такой погоде любую свадьбу играть в самый раз, даже игрушечную.
Жека-Евдокия вопросом колец тоже озаботилась: высыпала на стол целую пригоршню. За новую молодость у нее там много чего набралось, Гунька на эту золотую россыпь глядит без интереса, но и без страха — не стала его Жека пугать. А вот состарила замечательно. Мастерски состарила, можно сказать: все морщинками и вмятинками увешала, про одно только правое ухо забыла. Пришлось переделать незаметно, пока она обратно в комнату свое богатство уносила. Моя свадьба — мне и кольца выбирать.
Я и не замечала никогда, что Гунечка такой высокий. Он же ссутулится, в пол смотрит, все как полагается. А сейчас, пока я ему ухо поправляла, пришлось встать на самые цыпочки. Трудно. Отвыкла. Заждались меня туфли на каблуке, на шпильке и на платформе. Это ж сколько по весне сапожнику подковок делать придется, а? Нам без них нельзя, а прибивают их теперь халтурно. Одно разорение на серебре и меди.
— Гунька, ко мне! Одевайся давай, — командует Жека не из своей комнаты, а из той, где Старый обычно спал. И это учла: не пойдет старик жениться в тертых джинсах и мягком свитере с капюшончиком. Раз уж свадьба у нас, то все по-приличному должно быть, чтобы глаз не цеплять, удивления не вызывать. Все незаметно, тихонько.
— Ну что, хорош? Принимай, Ленка, жениха!
Удружила мне Жека, ничего не скажешь. Расстаралась, подруга дорогая: Гунька вошел в кухню в форме полковника авиации, блестя звездочками и звякая правительственными наградами. Никак Дусенька того летчика забыть не могла, которого я у нее, обновленной, году так в сорок седьмом умыкнула. И где только это обмундирование выкопала? Не иначе кто-то из Спутников, прежде чем в спячку залечь, Старому сдал вместе с документами и наградным оружием.
Стоял Гунька, конечно, не по-военному, но и не по-стариковски: мы же с Жекой организм ему портить не стали, пожилой возраст только снаружи сделали. Так сказать, косметический ремонт наоборот. Форма вообще много кому идет, так что я на всякий случай на Гуньку еще дунула-плюнула, а то уж больно красиво он на моем фоне выглядел.
Жека, может, и хотела возразить, но не успела: в прихожей требовательно тренькнул звонок.
— Свидетели пришли! Уже открыва-аю! — И Евдокия, стуча подковками, в коридор унеслась.
Какие еще свидетели, что она выдумывает? Сейчас без них расписывают давно, это пережиток прошлого.
— Лен, ну чего ты рыпаешься? Нельзя без свидетелей. Пусть все будет как у простых людей. — И Жека ключами загремела, на Гуньку шикнув, чтобы тот из роли не выпадал. Лучше бы на меня пошипела: я ко всему была готова, но чтобы Семен… Да еще при своей нынешней, при которой он Спутником колдует. Вот спасибо, дорогая Евдокия. Омоложусь — точно отомщу.
До ЗАГСа мы добрались почти без приключений: прошлись пешочком три двора наискосок, вот он и рядом. Семкина нынешняя, правда, козью морду сделала: она-то думала, что свадьба по всем правилам будет, с лимузином, с рестораном. Вырядилась во все лучшее сразу и сапоги на шпильке натянула. А ноги-то так себе, не очень… Где ж ты, Сема, себе такую мымру-то нашел, а? Или, может, не искал толком? После меня, даже в годах, любая мымрой будет. Да, Семушка?
— Сереж, а это твоей мамы родственники или по отцу? — шипит Семкина девочка мне в спину. Думает, дурочка белогривая, что я не услышу. А вот шиш! У меня, может, внешние уши и устали, зато вот внутри… Жека уже сама не рада, что таких гостей позвала. А делать нечего: не обижать же мирскую…
Мы с Гунькой впереди шагаем, у него под плащом медальки брякают, у меня розы в целлофане хрустят (бело-палевые, Семен вручил… как тогда), подковки, хоть и стертые, а лед на лужах дробят. А нам в спину звенит Жека — серьгами, браслетами, бусиками и прочей дребеденью. А уже за ней Семен. И эта его… девочка, в общем. Простая совсем, как дореформенные три копейки. Но все равно чует. Не ведьминским нюхом, а обычным бабским. Так и висит на Семене: «Ой, Сережа, мне скользко!», «Ой, Сережик, мне зябко!», «Ой, пошли быстрее, а то я уже писать хочу».
— Жека, не лети ты так! — притормаживаю я. — Дай передохнуть, устала…
Евдокия, умница, все понимает. И хохочет:
— Что, теть Лик, не хочется в супружескую петлю лезть? Ну давай передохнем, перекурим. Последнюю сигарету даже перед расстрелом дают, так что на, держи…
Про расстрелы Жека редко шутит, только когда сильно нервничает. А мы сейчас смеяться должны, иначе я точно разревусь. Перчатки сегодня хоть и парные, а толку от них никакого: жарко ладоням, огонь в них горит. Да еще Гунька, дурак, меня под локоть держит, как новобрачному полагается. Я на него даже розами замахнуться не могу. И голову назад повернуть — тоже.
До ЗАГСа уже идти всего ничего, а я не могу. Тошно. Смотрю, и Жека тоже щебетать перестала. Про Семена я и не говорю, он со мной поздоровался-то еле-еле, куда уж там в глаза посмотреть. Даже девочка его, и та притихла — видно, до такой степени писать ей, бедолаге, хочется. Впрочем, зря я над ней измываюсь: она ж не виновата, что Спутнику с колдуньей вместе быть нельзя. Спутники — они же верные по природе своей. Сема, бедный, и без того с этой своей свадьбой до последнего тянул, до настоящей брачной ночи эту замухрышку не трогал: ни пальцем, ни чем иным. А поделать все равно ничего не мог.
— Ну что стоим, милые мои? Кого ждем? — Я к этой дурочке поворачиваюсь и улыбаюсь во все тридцать два зуба. А тягомотина не проходит. Ни у меня, ни у Жеки.
Значит, не в нашей истории дело.
Оно и верно — только в холл вошли, раздеться толком не успели, а вот она, чужая глупость. Пышная свадьба, шумная и многолюдная. Да вот нечестная. Невеста в белое вырядилась, а сама черная внутри. Закопченная от боли. Не за того замуж выходит. За богатого, красивого, здорового и нелюбимого. И как Жека такое проморгала? Или это Старый перед спячкой прошляпил? Беда…
Переглянулись мы все, ну, кроме девочки Семеновой, оценили обстановку. Семен свою красавицу в туалет отослал и заодно шепнул, что у нее вроде как что-то там с одеждой не в порядке — не то нитка из юбки торчит, не то колготки поехали. В общем, пара минут у нас есть.
— Гунька, держи жениха! — командует Жека и на крыльцо выскакивает, где невеста фотографу позирует. А мы с Семеном так и остаемся… вдвоем.
И сказать ничего нельзя, и не говорить тоже. Вот он, рядом совсем. И запах от него тот же, и глаза с губами его. И сам он… протяни руку, Лика, потрогай, сейчас можно уже, ничего не произойдет. Даже хорошо, что сейчас увиделись, а то ты бы себе всю следующую молодость испаршивила переживаниями.
Я на него смотрю, а он на меня не смотрит. Вроде в упор разглядывает, а не видит. Не в возрасте моем дело, совсем не в нем. Любовь у Семки, вот в чем беда. Ему ж по статусу положено верность хранить не насильственно, а от любви. Иначе не Спутником бы он был, а так, петушком на палочке. Природа у него такая, Лика. Никто не виноват, да. Только вот запах у Семы все тот же. Мужской-мужской.
— Иди, Семушка, Гуньке помоги, а то он не справляется. — И сама поворачиваюсь. Руки от старости трясутся, букет из них вываливается. И по казенному мраморному полу лепестки летят — совсем не заметила, как их общипала.
А на крыльце тем временем женский визг в восемь голосов. И мужской гудеж, может, даже и погромче. Мужчины, они ведь тоже крыс боятся, что бы при этом вслух ни говорили.
Особенно если крыса — черная, в белых пятнах, чуть ли не с таксу размером — невесть откуда выскочила. Пропетляла между дамских ножек и невесте под кринолин шмыгнула. Той самой закопченной от горя девочке. Она стоит, руки развела, не шевелится — как ватная баба на самоваре. Половина народа еще не знает, что делать, а вторая половина уже этот конфуз на видеокамеры пишет. А жениха не видно — ему Семен с Гунькой глаза отводят, пока перекинутая Жека петляет между невестиных кружев. Кто орет: «Стой, не шевелись», — кто портфель-дипломат из машины тащит, чтобы им крысу пришибить. Сама невеста стоит, икает и боится выдохнуть. А тут еще их в зал регистрации зовут, по всему холлу объявление звучит.
Совсем недолго жениха держать осталось. Десять секунд, девять… Вот невеста уже «мамочка!» вопит и черные слезы белой перчаткой размазывает. Жених все никак не может понять, чего от него Семен хочет. Семкина девочка давно из туалета выбежала и теперь у входной двери стоит, моргает от любопытства. В загсовом дворе клаксоны гудят — еще одна свадьба приехала. Шесть, пять… Не удержать моим мужчинам жениха, придется мне самой ему под ноги падать и сознание терять. По всем правилам, как меня когда-то в гимназии учили. Вот уже и теща с несостоявшейся свекровью лаются, перекрикиваясь через невесту. А женихов свидетель шампанское из машины тащит, хочет крысу хлопушкой напугать. Ну-ну, нашу Жеку-Евдокию из пулемета в свое время расстреливали, испугается она пробки, как же! Три, два… Невесточка еле держится уже, пора…
— Семен! — кричу я, насмерть позабыв, что его сейчас Сережкой зовут. — Павлик!
Мои оба от жениха отлипают, наконец освобождают ему обзор. Тот руками размахивает, как кукольный петрушка, и несется свою любовь спасать. Хватает ее на руки, никаких криков не слушая, и держит, пока невеста ему слезами в щеку капает. Там даже теща со свекровью замолчали: никто не может понять, куда крыса подевалась. Большая ведь была, черная такая, огромная…
Жека давно в кустах отряхивается, сигарету курит и бусики поправляет, да на нее никто не смотрит сейчас. Девочка-невеста так на руках у своего любимого и рыдает. Теперь она за него замуж по любви выйдет, не просто так. Не сегодня, конечно, а через год, зато по-честному.
— Ну что, Степановна, молодцы мы с тобой? — спрашивает Жека-Евдокия, оказавшись наконец в теплом холле. — Ну там и холодильник сегодня. У меня все лапы замерзли…
— Молодцы.
Это не я говорю, это Семен ей отвечает. Он, оказывается, у меня за спиной стоит — нависает подбородком мне в макушку. Тоже, что ли, запах помнит?
А с нашим бракосочетанием совсем смешно получилось. Жека в невестинской комнате больше моего прокрутилась, все себя прихорашивала после переброски в крысу. Я за это время успела той зареванной невесте улыбнуться и пару ссор разгладить. Ну и одного оч-чень счастливого молодожена протрезвила чуток — он на радостях наш туалет с мужским перепутал. Не хотелось в холл выходить и Семена видеть. Точнее — Семена вместе с его девочкой.
Ну вот Жека-Евдокия кудри как следует разлохматила, губами у самого зеркала почмокала и в какую-то боковую комнату поцокала:
— День добрый, это Евгения вас беспокоит, я к вам утром заходила насчет дедушки.
— Сереж, так это твой дедушка, что ли? — шепчет Семенова жена. — А чего его у нас на свадьбе не было?
Семен ответил, но я не расслышала — Жека меня за один рукав потянула, Гуньку за второй.
В казенной комнатенке было слишком много народу: столов тут два, а сотрудниц — пять. Любопытно им на влюбленных старичков посмотреть. Ну пусть любуются, мне не жалко: я к Гуньке прижимаюсь как могу, запах чужого сукна нюхаю. Сам Гунька робеет, все еще под ноги мне смотрит и руку мою держит — так неловко, будто это переходящее красное знамя трудовой комсомольской вахты.
— Музыку при регистрации какую заказывать будем? — умиляется распорядительница. — У нас есть «Рио-Рита», «Утомленное солнце», могу предложить «Турецкий марш», если угодно.
— Джо Дассен имеется? — интересуюсь я. И Гуньку обнимаю: — Помнишь, Пашечка?
Он, естественно, кивает с умным видом.
— Теть Лик, а может, «Битлов»? — не унимается Жека. Ее после перекидывания всегда на смешочки пробивает, а уж в такой-то ситуации… — Или эту, «Мамба италиана»?
— Нет, Женечка, — шамкаю я. — Пусть «Et si tu n'existais pas» сыграют.
На Семена не смотрю. Он сам про эту песню все знает. Это как раз моя третья молодость пошла, Ликина.
— Как скажете, — удивляется распорядительница. — С вас пятьсот рублей дополнительно.
У Гуньки денег с собой нет, потому что не полагается ему, а я тоже не взяла. Пока Жека в сумочке ковырялась, Семен пятисоточку на стол выложил и квитанцию себе потом в карман убрал. В верхний левый.
— Фотографии желаете сделать? — не унимается регистраторша.
Тут Жека как раз деньги в сумке нашла, замахала ими, как контролер удостоверением:
— Обязательно желаем. Групповой снимок, вместе со свидетелями.
Гадюка ты, Дусенька. Вот как есть, не крыса, а гадюка натуральная.
Но тут бухгалтерша, которая квиточки выписывает, от Жеки денежку приняла, кудряшки свои седенькие поправила и сказала мечтательно:
— Знаете, Евгения, а вы так на мою любимую актрису похожи. Была такая Елизавета Лындина, сразу после войны сниматься начала.
Жека улыбнулась горделиво — вот, помнят меня еще, на улицах узнают. Ну или в ЗАГСе, неважно.
— А вы, Лика… э-э-э… Степановна, помните? — умиляется бухгалтерша.
Еще б не помнить-то… Жекиными физиомордиями тогда все афишные щиты у любой киношки облеплены были. А летчик все равно мне достался.
— Помнишь, теть Лик?
— Конечно, Женечка… Конечно, помню. Она меня старше была на двадцать лет, — улыбаюсь я.
— Ну что, уважаемые Павел Сергеевич и Лика Степановна, прошу вас в зал. Дорогие гости, просьба сесть на стулья вдоль левой стены, молодых… новобрачных подходим поздравлять только по моей команде.
И зазвучал для нас с Гунькой Мендельсон. Он его в первый раз слушал, а я в седьмой. Надо будет в следующий раз «Боже, царя храни» поставить. Душевная музыка. И чтобы в мини-платье обязательно.
Заминочка произошла, когда дама-распорядительница к Гуньке обратилась:
— Согласны ли вы, Павел Сергеевич, вступить в брак?
Гунька, может, и не согласный, да он ответить не может.
Не полагается помощникам при чужих разговаривать. Только при мастере или том, кто его замещает. А мы с Жекой, тоже две умные, про это забыли совсем.
— Гунь, ты кивай давай, что ли? — шиплю я.
Гунька головой вертит, ищет Жеку глазами. А она на мобильник нас снимает, ей вроде как некогда. Семен в пол смотрит, а не на жену, как хорошему Спутнику в такую трогательную минуту полагается. Распорядительница нервничает, музыканты уже смычки на изготовку взяли, чтобы «Если б не было тебя» заиграть. Такая торжественная минута, а мы так обделались…
— Жека! — верещу я. — Женечка! Видишь, Паше моему плохо, давай валидол…