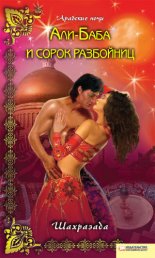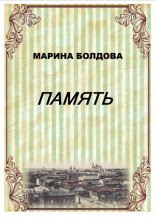Путь в небо. За чертой инстинкта Шаров Валерий

В ясное и морозное утро, когда весь посёлок спал беззаботным сном, один из его жителей – Владимир Афанасьевич Трапезников подошёл к своему сараю и, немного повозившись с двумя замками, открыл двери. Затем осторожно оглянулся по сторонам и исчез в его полумраке. Через несколько минут из сарая показался… самолёт. Тяжело пыхтя и время от времени улыбаясь чему-то своему, внутреннему, Трапезников оттащил своё детище подальше от посёлка, за пруд, и после короткой технической подготовки начал заводить мотор…
Владимир Афанасьевич не был профессиональным авиатором, тем более конструктором летающих машин. Был он колхозником из затерянного в глухих вятских лесах посёлка Залазна. Самым обыкновенным колхозником. Но с одной маленькой оговоркой: он очень хотел летать. И не просто хотел – он жить без этого не мог. И потому сам, без чьей-либо помощи, посредством лишь примитивных инструментов – топора и гаечного ключа, пилы да молотка – соорудил себе самолёт. По собственному же представлению о том, что такое есть летательный аппарат.
…Мотор ожил, разбудив оглушительным стрекотом окрестную тишину. Радостный пилот занял место в примитивной кабине своего аппарата. Машина задрожала, забилась, будто в горячем ознобе, и, виляя и подпрыгивая на неровностях заснеженного поля, рванулась вперёд.
Конечно, Владимира Афанасьевича мучил страх. Однако желание оторваться от земли было куда сильнее. Оно перебарывало щемящее опасение упасть на землю. Видимо, именно поэтому неуклюжее, грубо сколоченное сооружение, вопреки всем законам и понятиям аэродинамики, вдруг резко рванулось вверх. Произошло это, очевидно, по совсем иным законам. По тем, которые на земле пока ещё не открыты. Законам духовным.
Полёт продолжался всего несколько секунд. Физические основы земного бытия всё-таки взяли верх. Воспаривший было аппарат внезапно резко сиганул вниз и уткнулся в поверхность пруда. Авиатора спасло некоторое количество снега поверх льда и не прямой угол падения. Но самолёт кончился. Несмотря на падение, наградившее испытателя синяками и ушибами, он пришёл в состояние неописуемого восторга. Как мальчик, прыгал вокруг разрушенной машины, что-то выкрикивал и бросал ушанку в негостеприимно обошедшееся с ним небо. Ещё бы, ведь то был первый удачный полёт в его жизни. Пусть короткий, пусть с падением, но всё же они были, были – эти несколько секунд скольжения по такой недоступной ранее воздушной струе! Земное притяжение удалось преодолеть на двенадцатый год сооружения самолётов. И в тот же день Трапезников приступил к новому строительству. Учтя недостатки погибшей конструкции и уроки первого полёта.
– Кончай энти дела, Афанасич, – внушали ему мужики вокруг, – добром энти дела не кончатся…
Если кто-то думает, что они имели в виду возможную гибель отчаянного, по их мнению, человека, то он глубоко заблуждается. Забитые, живущие в таёжной глухомани малообразованные мужики были в чём-то под стать критикуемому ими Афанасичу, хотя сами в небо не стремились и самолётов не строили. Опасались они не на шутку санкций сверху за этакую вольность – летать. Да как такое может позволить начальство, чтобы мужик сам строил себе самолёт да разлётывал на нём, подобно вольной птице?! Никак не позволит! В их мозговой и генетической памяти глубокий след оставили события тридцатых годов, крепко задевшие местное население. Недалеко от Залазны раскинулись страшные Кайские леса – туда в период коммунистических репрессий были сосланы многие тысячи вятских кулаков и староверов. То есть людей, которые осмелились жить по своим законам и правилам. Многие из них в этих лесах и сгинули бесследно. Видевшее это старое поколение хорошо усвоило, к чему приводит непослушание.
Но разве могут какие-то неприятности остановить мужика, вкусившего счастья свободного полёта над землёй?! У Афанасича в ангаре рос новый самолёт. И хотя жрал он кучу денег и всё свободное время, жена вятского Икара Людмила Викторовна реагировала на это очень разумно. Она почти не видела мужа дома, но относилась к его странному увлечению с уважением и пониманием. Как могла его поддерживала, пособляла сообразно своим возможностям. Но главное – просто понимала его.
– Последние годы уж такие тяжёлые были, – рассуждала она. – Мужики вокруг чуть ли не поголовно спиваться начали. Стали гибнуть по пьяни, словно мухи на липучке. Уж лучше пусть мой самолёты строит и на небесное дело деньги тратит. Лятать тоже опасно, конечно. Но всё лучше, чем от водки проклятущей гибнуть…
Однако же не все поголовно спивались. В небольшом райцентре Омутнинске, что в двух десятках вёрст от Залазны, несколько мужиков тоже строили самолёты! В условиях глубочайшего подполья, как сопротивление во времена фашистского нашествия, – власть-то районная совсем рядом – и потому, порой совсем не зная друг о друге. Все поголовно – абсолютно неграмотные в авиастроении. Но каждый вслепую искал путь в небо. Свой путь в небо. Не имея ни специальной литературы, ни нужных для этого дела инструментов, ни материалов. Только неистребимое желание летать и святая вера в то, что так оно и будет.
Сталевар Владимир Сергеевич Саулов свою квартиру на четвёртом этаже преобразовал в настоящий авиазаводик. Готовый, собранный в жилище самолёт он сначала разбирал на отдельные части и через балкон спускал вниз на верёвке. А потом собирал на месте испытаний. Шофёр Александр Викторович Шиляев ради главного дела своей жизни из городской благоустроенной квартиры вообще перебрался в старый дом, купленный в глухой деревне и превращённый в ангар. И таких беззаветных энтузиастов в одном только Омутнинском можно было насчитать десятка полтора. Думали, строили. Будили тишину своими несовершенными движками, резали небо самодельными винтами. Падали, но снова взлетали. Случались, конечно, и трагедии.
Как-то над Залазной (к тому времени и Трапезников, и омутнинские воздухоплаватели уже познакомились друг с другом) испытывали новую модель самолёта. Пилотировал Николай Вассанов. Он удачно взлетел. Набрал высоту, сделал несколько больших кругов. Всё шло прекрасно. Внизу ликовали без меры. Израненный, но счастливый Саулов, отбросив в сторону ставшие уже родными костыли, прыгал от радости на одной ноге, как обычно размахивая над головой рукой с поднятым большим пальцем, – жест высшей оценки происходящего и выражающий самые светлые эмоции. А когда пилот пошёл на посадку, самолёт вдруг резко завалился набок, вошёл в короткое пикирование и камнем рухнул на землю. В этой ситуации ему нужен был один мощный рывок двигателя, резкое увеличение винтовой тяги для выхода из неожиданного пикирования. Но хиленький мотоциклетный мотор на такое не был способен. И только что парящая в небе, послушная воле человека двукрылая машина рухнула безжизненной массой вниз. Бесшабашный и всегда весёлый Колюха Вассанов, несколькими минутами ранее уверенно садящийся в самолёт, лежал теперь перед своими друзьями-соратниками в нелепой позе, переломанный и окровавленный. Мучительно умирал, а они толпой рыдали над ним, не в силах хоть чем-то помочь, что-то изменить в жёстокой логике бытия и стремлении нарушить испокон веков заложенный ход жизни двуногого нелетающего существа.
– Эх, – сокрушался потом Трапезников, – ему бы движок хороший. И вышел бы, вышел бы, ей-богу… Ну почему в отечестве нашем не выпускают моторов для самодельных мини-самолётов?! Продай мне хороший мотор, материалы для конструкции да дай почитать что-нибудь – да я самый лучший, самый сильный, самый безопасный в мире самолёт построю!
Сам он бился раз шесть. Пока не смертельно.
– Да нет, ничего страшного, – с явным пренебрежением к собственной персоне вспоминал он эти случаи. – Ну, отлежишься маленько, кости срастутся. Машину соберёшь заново, и – вперёд!
Самодеятельные омутнинские авиастроители доверились одному из журналистов, Николаю Варсегову из «Комсомольской правды», от которого я узнал эту историю, и он был допущен на их секретную авиабазу. Увидел там журналист деревянные полуразвалившиеся постройки, принадлежавшие некогда какой-то организации, а сейчас – опять же подпольно – занятые ими и превращённые в маленький самолётный заводик. В немыслимо холодном, неосвещённом помещении стояло несколько весьма непохожих один на другой самолётов.
– Обратите внимание, – гордо говорил один из умельцев, ласково проводя рукой по фюзеляжу почти готовой машины, – мотор свой, а всё остальное – краденое. Да-а! Куда деться – по-честному ничего не достать. Приезжаешь, например, на фанерную фабрику, идёшь к большому начальнику, мол, дядя, выпиши метра три фанеры, любые деньги по счёту заплатим! А он в ответ: «Что ты, что ты! У меня каждый квадратный сантиметр на учёте (у самого же вся дача этой фанерой обшита). Ни-и, ребята, и думать не могите». Ну, идёшь тогда в гастроном за бутылкой, потом – к барыгам на пилораму… и вывози хоть машиной фанеру эту. Так-то.
– Я тут тоже недавно кусочек нержавейки в своей шараге стырил, – подхватил другой. – Ой, что тут началось! Штраф, общественное порицание. Срочный выпуск «молнии», дескать, несун на производстве. Охраннику – чуть ли не орден на впалую грудь… А где, говорю, взять-то, если мне для дела надо? Иди, говорят, на свалку – там этакого добра тонны пропадают.
– Когда Колюха-то разбился, ну, думали, всё! Непременно заарестуют, – вспомнил Саулов. – Такое завертелось! Начали таскать всех, а у меня, как назло, нога сломана была. Весь в гипсе – я перед этим тоже здорово разбился. Долго потом скрывались, прятались – кто где мог…
И после некоторой паузы, закончил он со вздохом:
– А ведь лятать-то надо…
Боже мой, в конце второго тысячелетия от Рождества Христова, когда мир раскрыл уже тайны атома, как у себя дома освоился в небе, вышел в ближний космос, высадился на Луну… Тут, в глуши России малограмотные мужики с нуля, без какой-либо технической и теоретической помощи упорно торят свой путь в небо! Золотые мои мужики, ненаглядные! Как я счастлив, что вы есть, соотечественники мои! И не для славы, не для денег, презирая боль и смерть, осуждения и суровые санкции, не расстаётесь с сердечной мечтой земного существа – заветной мечтой о полёте. И летаете! Отдавая порой за это счастье саму жизнь. Ибо пока жив в человеке такой огонь, пока есть на Земле такие люди, человечество не погибнет и будет двигаться вперёд, к совершенству. Низкий вам поклон за это.
Но откуда, откуда в ползающем по самой поверхности планеты существе, человеке, этакая тяга ввысь? Не от просторов ли российских, сопоставимых по необъятности с самим небом? Не от того ли, что русские села да деревни расположены, как правило, не в низинах – у родника, речки, – а на самом высоком холме местности? Или, наоборот, сами поселения на Руси взлетают повыше от устремления к небесной синеве людей, которые их строят?
Кто его знает!
Может, завесу этой тайны приоткроет рассказ самого летающего мужика Трапезникова.
– Родное моё село Нагорное стояло на высоком берегу реки Вятки. Дом у отца был большой, рубленый, и окна выходили на реку. Да-а. И было мне тогда лет шесть, залез я как-то на подоконник, глянул вниз, вдаль… Господи! Красота-то какая! Внизу вода под солнцем играет, а на том берегу сено косят, и так это далеко-далеко всё видно, аж дух захватывает… Слышу: ищут меня по всей избе, кличут, а из-за шторы-то им меня не видно. А я не могу ни оторваться, ни отозваться… Вот мне вчера полвека стукнуло, а до сих пор красота эта перед глазами стоит. Знать, и деды красоту понимали, оттого и места для жительства вон какие выбирали. Но с бугра смотреть – одно дело, а как в небо подымешься да поплывёшь над всем этим… вот это картина! Это уж не расскажешь, не объяснишь…
Однако есть у этой тайны другое объяснение, идущее от социальных корней того общества, где выросли эти мужики, где жили их деды и прадеды. Не столь романтическое, но зато очень понятное.
Смею предположить, что причины неиссякаемой тяги в небо искать надо не только во взбежавших на вершины холмов российских поселениях. Но в большей степени – в веками насаждаемом на Руси подавлении человека государством, низведении личности в лучшем случае до винтика в огромной производящей блага для правителей машине, но чаще – до положения раба. Будь то княжеское правление или монголо-татарское иго, царское крепостничество или тоталитарный советский режим. Вот в российском человеке и родилась, скорее всего, неосознанная – как форма компенсации за многовековое порабощение – потребность выразить себя в чём-то совершенно особенном. А что может быть лучше, чем свободные полёты? И потянулись люди, как птицы, в небо.
После той ужасной смерти Колюхи Вассанова до Трапезникова в его глухом углу Залазна добрались не скоро. Но добрались всё же. Пришла-таки повестка явиться в областную прокуратуру. Владимир Афанасьевич сразу понял для чего. И подготовился соответственно. Спрятал надёжно свою последнюю машину и прихватил с собой несколько фотографий, на которых были засвидетельствованы обломки предыдущих разбитых летательных аппаратов. Там, в прокуратуре, суровый начальник, хранитель советского закона, долго растолковывал ему, какой есть опасный преступник летающий мужик и сколь сурово должно быть к нему наказание. Намекал даже на Кайские леса и говорил, что машину придётся уничтожить. Трапезников в очередной раз вытер со лба холодный пот и показал свой аргумент – принесённые фотографии:
– Вот, всё, что осталось…
Следователь рассматривал исковерканные части самолёта с улыбкой. И, даже как-то смягчившись от увиденного, произнёс:
– Твоё счастье, что вовремя разбился. А теперь бери бумагу и пиши: «Я, Трапезников В. А., такой-то, такой-то. Обязуюсь на всех построенных мною самолётах не летать». Число и подпись.
Владимир Афанасьевич сделал всё, как было велено, взял свою смятую кепчонку и пошёл к двери.
– Стой! – закричал опомнившийся следователь. – Назад! Знаю я вас. Ведь ты какую-нибудь каракатицу с винтом построишь, дескать, это не самолёт, и полетишь снова! Значит перепиши бумагу так: обязуюсь на всех построенных мною летательных аппаратах не летать.
Скрепя сердце, Трапезников написал и это. Пока добирался домой, всю дорогу проклинал себя за совершённое. Зачем подписал? Что теперь делать? Всё, отлетал! Жена, увидев его, поняла без слов. А Владимир Афанасьевич, включив магнитофон, в отчаянии повалился на диван. Из динамика на полную громкость хлынул голос ещё одного бунтаря – поэта и барда Владимира Высоцкого – такие понятные Трапезникову в эти минуты слова, что лучше и не сказать:Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне, и неспроста.
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа.
О чём думал Трапезников, бессильно откинувшись на диване, под звуки горячо любимого голоса и такие близкие ему строки? Неизвестно. Только вдруг вскочил он и бросился туда, где стояла спрятанная и замаскированная его летательная машина. И через некоторое время затихшее небо над Залазной разорвалось весёлым стрекотом самодельного мотора. Маленький самолёт торжественно проплыл над посёлком. Над лугом, откуда косари, задрав вверх головы, проводили его прищуренными на солнце удивлёнными взглядами. Пролетел над руинами взорванной некогда церкви и, уйдя к лесу, долго-долго кружился над тем местом, где совсем недавно, в такой же ослепительно солнечный день разбился Колюха Вассанов.
Прерванный полёт
Возможно, я и прав в коренных, основополагающих причинах стремления российского человека в небо, но каждый из летунов, конечно же, даст иное, собственное толкование этакого увлечения, несвойственного большинству людей. Вот «летающий мужик» Трапезников объяснил всё далёкими детскими воспоминаниями о внезапно открывшихся перед ним наших просторах и потрясающей красоте. Кто-то скажет, что всегда любил скорость, но на земле для этого есть непреодолимые ограничения. Кто-то всего лишь погнался за сверхострыми ощущениями.
Очередной летающий мой герой, нижегородец Александр Самыличев даёт своему шагу в небо такое объяснение:
– До малой авиации у меня была жизнь, насквозь пронизанная и наполненная спортивной гимнастикой. С бесконечными тренировками, соревнованиями и сборами, поездками в различные города России и тогдашнего Союза. Не раз был я чемпионом и призёром всесоюзных и республиканских соревнований, чемпионом города и области. Но замучили травмы, да и время подошло – вынужден был оставить большой спорт. В жизни образовался вакуум, а природа, как известно, пустоты не терпит. И вот как-то в нашем пединституте, где я работал, проводилась встреча с ведущими дельтапланеристами и конструкторами этих новых летательных аппаратов. Я пошёл на неё, заинтересовался и… стал членом одной из городских секций дельтапланеризма.
Правда, надо ещё сказать, что Саша с детства мечтал быть лётчиком и потом, выполняя головокружительные соскоки с гимнастических снарядов или прыгая на батуте, не раз отмечал про себя бесподобные мгновения полёта. Видно, эта давнишняя детская мечта и определила его выбор в переломный момент жизни. Так что в небо идут совсем не случайные люди. Всё-таки оно – удел избранных. Получают они от него очень много, но зато и расплата за счастье полётов бывает соответствующей.
Если обычному новичку для подъёма на дельтаплане в небо необходимо не менее месяца интенсивных тренировок, чтобы почувствовать аппарат, своё тело в нём и координацию этого союза в сложных воздушных условиях, то Саша начал летать с первого же занятия и совершил сразу десять полётов, точно выполняя технические задания тренера. Ведь он был мастером спорта по гимнастике и отлично владел своим телом. Так состоялось его второе спортивное рождение. Потом он облетал все дельтадромы города и области, совершил полёты в красивейших местах России: над отрогами Саян, близ центра Азии на берегу Енисея, в Туве. Побывал в небе в краю белых ночей, морошки и порожистых рек с кристально чистой и холодной водой – в Заполярье, на Кольском полуострове, над Хибинами. Там же впервые удалось полетать в необычных условиях: на высоте около тысячи метров. И тогда же на финальных соревнованиях первенства России он вошёл в состав сборной команды Российской Федерации. В общем, не просто летал, а получал от очередного своего увлечения ни с чем не сравнимое удовольствие и успешно продвигался по трудной дороге спортивного совершенства.
Но его новая дельтапланерная жизнь была насквозь пронизана нештатными, экстремальными ситуациями, из которых бывший гимнаст, имеющий немалый опыт самостраховки, всякий раз удачно выкручивался без существенных повреждений. Так, в одном из испытательных полётов (аппараты-то, как и летающие лесные мужики, сами строили и сами испытывали) умудрился трижды сорваться в глубокое пикирование и два раза выйти из него у самой земли, совершив акробатические «курбеты», чтобы принять удар о землю ногами, а не руками или головой. Эти удары, к счастью, были без серьёзных последствий для здоровья, и Саша снова и снова вырывался в небо.
Целый каскад экстремальных ситуаций подарил ему стометровый склон реки Оки в Нижнем Новгороде, где он летал над живописным парком под названием «Швейцария». То крутил сальто вперёд вместе с дельтапланом, врезаясь в середину склона верхней поверхностью крыла и «мачтой» аппарата, которая обламывалась и протыкала парус с намерением проткнуть и пилота, но удар, к счастью, оказывался неточным. То, подобно созревшему плоду, висел на деревьях после выполнения сложного манёвра над крохотным пространством между деревьями, на которую предстояло выполнить посадку. Берег Оки был свидетелем одного по-настоящему страшного приключения, когда дельтапланерист был на волоске от гибели – он вертикально пикировал с 50 метров и каким-то чудом избежал удара о стремительно надвигающуюся на него пашню. Эта ситуация была настолько безнадёжной и настолько реальным казался тогда конец, что он потом дважды пережил её во сне. Но снова и снова поднимался в небо.
Незабываемыми ощущениями запомнились Саше нижегородские склоны Волги, когда он летал над знаменитыми местами Верхне-Волжской набережной, связанными с именами великих земляков – лётчиков Петра Нестерова и Валерия Чкалова.
– Особенно врезались в память, – рассказывает он – те жутко-сладостные ощущения, получаемые во время «тройных спиралей» (фигура высшего пилотажа), которые приходилось делать в символическом месте – над памятником Валерию Чкалову, стоящему во весь рост высоко над Волгой. Когда дельтаплан во время вращения по спирали поворачивается всей плоскостью крыла перпендикулярно ветру и ты начинаешь чувствовать, что он вот-вот перевернётся на спину, а сам в это время находишься как бы в стойке на руках с опорой на ручку управления… И в этот действительно головокружительный момент вдруг успеваешь про себя отметить, что Валерий Павлович как-то не по-пямятниковски пристально – то ли с изумлением, то ли с восхищением – смотрит на тебя… Однажды, увлёкшись вращением в спирали, я немного преждевременно сместил тело в сторону, чтобы выполнить очередной виток, но меня подхватил сильный ветер, и этот полёт я завершил прямо над многолюдной площадью Минина, метрах в тридцати от памятника. Причём на какое-то время буквально остановился в воздухе в нескольких метрах от земли – в этой точке восходящий воздушный поток, видимо, смешивался с горизонтальным и получалась этакая аэродинамическая труба, в которой встречный поток воздуха и не пропускал меня вперёд.
– Боже мой, какие же мы отчаянные, что на такой несовершенной, хрупкой конструкции поднимаемся в небо?! – вдруг пронзила его незнакомая доселе мысль.
И как в воду глядел! Свой последний полёт в жизни Саша выполнял в июне 1986 года над одной из вершин хорошо знакомого нижегородского парка «Швейцария», что на крутом склоне реки Оки. Он отрабатывал с каскадёрами полёт со склона и с одного из мостов на палубу парохода – надо было научить их совершать посадку на очень ограниченное пространство. На беду, в руках его в этот раз оказался чужой дельтаплан. А ещё был сильный порывистый ветер, во время которого инструкция запрещает выполнять полёты. Но он полетел.
Вот этот самый ветер да малознакомый аппарат привели к тому, что при выполнении очень крутого разворота конструкция чуть-чуть позже послушалась команды пилота. Этого «чуть-чуть» как раз хватило, чтобы он оказался не над запланированной для посадки площадкой, а над деревьями парка. В это мгновение порывистый ветер сделал очередную паузу. И летательному аппарату ничего не оставалось, как резко начать падать вниз. Столкнувшись с деревом, дельтаплан вертикально врезался носом в землю и полностью разрушился.
По выработанной годами гимнастической привычке Саша мгновенно сгруппировался – в итоге не пострадали ни ноги, ни руки, ни позвоночник. Увы, голову девать было некуда. Шлем, надетый на неё, выдержал сильнейший удар от падения с высоты тридцати метров. Но мыслей о том, сохранилась ли голова, у Саши уже не было. Подбежавшим ребятам пришлось разрезать лямки подвесной системы, чтобы освободить бесчувственное тело из-под обломков летательной машины, ещё несколько минут назад свободно несущей человека под облаками.
Нормальное сознание не возвращалось к нему месяц. Постепенно память и сознание начинали нащупывать утраченные естественные связи, и до него стал доходить смысл обступившего его больничного антуража. Но никак не получалось понять, почему он находится именно здесь и что же с ним такое стряслось. Впервые это удалось, когда Саша увидел рядом своего тренера в белом халате. До этого он видел его только на тренировках и совсем в ином облачении. Нет, Саша не понял всё сразу, а понял только, что с ним произошло что-то очень серьёзное, подобное, быть может, рождению на свет. Или появлению с того света. Случилось это через неделю после несчастья.
А до этого, в полностью бессознательном состоянии, была скорая помощь, больница, операционный стол. Трепанация черепа и диагноз нейрохирургов после операции, как приговор: «Сильный ушиб головного мозга. Травма, несовместимая с жизнью». Они и трепанацию-то делали практически без всякой надежды спасти пациента, у которого уже была пена на губах. В момент катастрофы Саше очень помог опыт натренированного тела. Когда произошёл сильный удар, то внутрь черепа должен был бы хлынуть поток крови и лимфы, который похоронил бы мозг. Но сам мозг, сосуды и нервная система, управляющая ими и привыкшие ко всяким перегрузкам, сработали чудесным образом. В итоге кровеносные сосуды сжались и не допустили смертельного кровоизлияния.
Жизнь была сохранена. Однако этакое надругательство над телом не могло пройти бесследно. У Саши развилась левосторонняя частичная парализация, практически утратилась речь и сильно пострадала память. Из человека, обладающего довольно высоким уровнем развития двигательных и мыслительных способностей, он превратился в полного инвалида, который не мог ни стоять, ни ходить, ни разговаривать. При всём напряжении сознания не мог вспомнить, что было с ним прежде, защитил ли он диссертацию, хотя это произошло всего за два года до трагедии!
В сорок с небольшим надо было почти с нуля строить себя, учиться всему тому, чему приходится учиться ребёнку. Включилась в действие отработанная за долгие годы в спорте и предыдущую жизнь постоянная, ставшая автоматической борьба за совершенство, за себя. Помогла жена Валя – физиолог по образованию и специалист по лечебной физкультуре, – которая не бросила почти мёртвого мужа (как вполне может быть в подобных обстоятельствах), а, наоборот, приняла самое активное участие в его возвращении к жизни.
– Я знал, понимал, что надо восстанавливаться, собирать себя заново, – вспоминает Александр то время. – Хотя бы ради того, чтобы снова летать! Это потом, по мере моего вхождения заново в жизнь и трудного восстановления эти отчаянные мысли о небе ушли… Да, появилось ясное понимание, что надо как-то по-другому жить, какие-то новые ценности обретать. Хотя бы ради дочери жить…
И для Саши фактически открылось другое небо, которое пусть и не висело над головой, маня живой синью и радостью полёта в нём, но требовало куда большей работы и терпения. Небо, от которого, как от настоящего неба, что привело его к катастрофе, нельзя было отвернуться в любой момент, переключившись на какое-нибудь другое дело. Надо было либо покорить его, либо умереть. И он бросился в это небо с азартом и желанием, не меньшим, чем раньше.
Восстановительная работа началась буквально с того момента, когда на тридцатый день Саша пришёл в сознание. Поначалу основное внимание уделялось возвращению чувствительности левой руки и ноги. Особенно пострадала рука – она вообще была как мёртвая и не ощущалась. Разрабатывал её правой рукой. Затем наступил черёд обучения сидению, ходьбе. Очень успешно он применял метод пассивных движений с помощью врача, используя плечевой эспандер с блоками. Подключал массаж и самомассаж.
– Всё-таки спортсмен, – объяснял мне Саша свои последующие успехи, – сильно отличается от других людей. Он немножко чокнутый в своём деле. Обычный человек не понимает, как это можно изо дня в день заниматься однообразной, нудной, порой очень тяжёлой, изматывающей и при этом вроде бы ненужной работой. С почти невидимой перспективой и подолгу не приходящим результатом. Но только тогда что-то сможешь изменить, чего-то достичь.
Когда первый раз в жизни – в новой жизни – он сел на кровати (случилось это через три недели после падения), то было полное ощущение, что отдал этому простенькому действию все силы. Это было для него на пределе возможного. Но всё-таки он оторвался от постели. И это была первая, небольшая, но победа! Быть может, даже более ценная, чем первый его подъём в небо. Ещё более невероятное ощущение подарил кувырок вперёд через три месяца после трагедии – это для него-то, мастера спорта по спортивной гимнастике!
Через четыре месяца Саше предстояла медицинская комиссия, которая должна была решить вопрос о степени инвалидности. Для него это было очень тяжело – сам факт получения инвалидности, – и он усиленно готовился, чтобы предстать перед врачами как можно более здоровым человеком и инвалидность не получать. К этому времени делал даже стойку на руках! Но врачи ВТЭК были неумолимы: дескать, после такой травмы мы никак не можем не дать вторую группу без права работы. Пришлось смириться и собирать себя дальше. Вскоре Александр начал подключать дозированную ходьбу и специальный тренажёр «Спортивные качели», позволяющий выполнять упражнения на все основные мышечные группы и суставы человеческого тела. Затем пришёл черёд бега, езды на велосипеде, хождения на лыжах и элементарных акробатических упражнений на гимнастических снарядах. Объём физической нагрузки достигал 5–6 часов в день! На всех этапах восстановления большое внимание Саша уделял логопедической работе. Поначалу он вообще не мог говорить – ему-то казалось, что говорит и всё отчетливо произносит, но получалась сплошная каша. Последовательно вёл корректировку гласных и согласных звуков, слогов, произношение скороговорок, которые подкреплял парадоксальной гимнастикой Стрельниковой.
И уже через год ВТЭК вынуждена была снять вторую группу инвалидности, и он снова приступил к преподавательской работе в Нижегородском педагогическом университете на факультете физкультуры. Здесь Александр Самыличев, мастер спорта и бывший инвалид второй группы, работает доцентом по сей день. Ведёт занятия по теории физической культуры и валеологии (науке о здоровье) на дефектологическом отделении факультета. Вместе со своими коллегами руководит научным студенческим кружком «Физическая культура и милосердие», участники которого включились в индивидуальную работу с детьми, страдающими различными формами церебрального паралича. Александр Самыличев внёс немалый вклад в становление и развитие новой специализации «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», исполнял обязанности президента нижегородского отделения общественного фонда благотворительной организации «Нижегородская специальная олимпиада», в которой участвуют дети-инвалиды с нарушениями центральной нервной системы. С 2002 года он стал научным консультантом Нижегородского областного реабилитационного центра инвалидов. Подготовил к открытию специальный сайт в Интернете «Новая жизнь для всех нуждающихся – опыт возвращения из небытия после катастрофы», где все желающие могли получить необходимую информацию и помощь. А ещё вместе с женой Саша воспитал замечательную дочь Надежду, которая в 2002 году, выиграв первое место в областной и две номинации в общероссийской олимпиадах, досрочно стала студенткой филфака Нижегородского государственного университета. Позднее блестяще окончила его и поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию.В авиации не употребляется слово «последний»: последний полёт, последний прыжок с парашютом – слишком уж категорично и безысходно оно звучит. Его заменяют спокойным и обещающим словом «заключительный». Так вот, строго говоря, полёт Александра Самыличиева, во время которого он рухнул на землю и в одну секунду превратился в инвалида, иначе как последним и не назовёшь – Саша уже точно никогда не поднимется в небо на дельтаплане, что прекрасно сознаёт и сам. Но разве повернётся у кого-то язык сказать, что его полёт закончился вместе с поломкой крыльев дельтаплана?!
Глава 5. Доброта
…Ты будешь подготовлен к тому, чтобы летать ввысь, и поймёшь, что такое доброта…
Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Небо, полёт над землёй нередко подвергает дерзнувших подняться в него людей тяжёлым физическим и моральным испытаниям. Однако и на земле иные люди оказываются подчас в таких сложных нравственных обстоятельствах, перед такими проблемами морального выбора, такие из-за этого бушуют в их душах чувства и страсти, что невольно подумаешь: «А в небе-то, пожалуй, поспокойнее будет…» И выход из этих ситуаций требует порой невероятного духовного напряжения.
Выбор
В то ясное августовское утро 1994 года инвалид Евгений Иванович Анфимов встал пораньше, несмотря на воскресенье. Умывшись и поставив на газ чайник, он открыл окно и с радостью увидел уже поджидавших его на кирпичном заборе напротив окна и на зелёных ветвях клёна сизых голубей. При звуке распахиваемого окна и появлении знакомой фигуры на границе света утра и полумрака комнаты они засуетились, захлопали крыльями и бросились к его окну. Дружно облепили подоконник и, не переставая издавать гукающие и булькающие звуки, стали садиться на руки человека.
– Вот ведь тварь божья, – улыбаясь, подумал старик, сыпля на подоконник зерно и незло отбиваясь от наседавших голубей, – хоть и встал на час раньше обычного, но они уже тут. Будто знают, что я собрался к Регинчику и потому поднялся даже раньше будничного дня. Словно провожают меня в дорогу и торопятся передать ей привет. Что бы я без вас делал?
С этими тёплыми мыслями он бросил последнюю горсть зерна из пакета – на что птицы ответили очередным треском крыльев, топотом по подоконнику и повышенным бульканьем-гуканьем – и, волоча за собой неполноценную ногу, пошёл пить чай. Чайник уже весело пыхтел на плите.
Евгению Ивановичу предстояла долгая дорога за сорок с лишним километров от Нижнего Новгорода, на небольшое деревенское кладбище, где вот уже тринадцать лет покоилась его жена Регина Яковлевна, внезапно ушедшая в совсем ещё нестаром возрасте и оставившая Евгения Ивановича практически один на один с голубями да несколькими котами, изредка посещающими его одинокое жилище. Посещали они его потому, что Евгений Иванович выкраивал на это богоугодное дело деньги из своей скромной пенсии. Сын Сергей давно обзавёлся семьёй, жил своим домом и лишь иногда заходил к отцу после работы, которая находилась рядом. Так что голуби да коты были и впрямь его единственными и самыми верными попутчиками на оставшемся отрезке жизни.
Но два раза в год, в дни её рождения и смерти, он непременно отправлялся к жене. Сначала заезжал к её родственникам, а затем уже – на кладбище. Проводил там чуть ли не весь день – в несуетной заботе о могилке, в душевных воспоминаниях о милом человеке и счастливых годах жизни с ней. Дорога туда была не просто дорогой, а целой экспедицией – трудным и желанным походом, к которому готовятся загодя, собирая всё необходимое и заранее прорабатывая мельчайшие детали предстоящего мероприятия. С особым старанием Евгений Иванович готовил к походу своего четырёхколёсного коня – слабосильную мотоколяску, выданную два года назад инвалиду заботливым государством, – ибо от неё зависело в этой поездке всё. За две недели до выезда начал он проверять насосы, тормозные колодки, подвинчивать гайки. Накануне подлил масла в двигатель, помыл коляску и съездил на заправку. Залил полный бак бензина да на всякий случай ещё и десятилитровую канистру наполнил. Подкачал колёса. Тщательно проверил весь могущий пригодиться в дороге машинный инструмент. Всё это вместе с инвентарём для ухода за могилкой заботливо положил на заднее сиденье.
– Пора, – подумал Евгений Иванович, когда чай и несколько бутербродов были съедены, а по радио пропикало восемь часов. – Пора, милый Регинчик, на встречу с тобой, чтобы не заставлять тебя долго меня ждать.
На этой нежной ноте он встал из-за стола, потревожив нахальных голубей, закрыл окно и, захватив сумку с нехитрым провиантом, заковылял по деревянной лестнице вниз. Улица встретила его ласковым запахом лета, пробивающимися сквозь ветви деревьев весёлыми лучиками солнца и лёгким ветерком. На дворе было пусто и тихо. Лишь трамвай прогрохотал по соседней улице, пока он шёл по двору к своему гаражу. Уже подходя к нему, Евгений Иванович понял – нет, скорее почувствовал: что-то не так. И тут же заметил он это «не так» – висячего замка на петлях не было, а дверь была чуть приоткрыта.
– Неужели вчера позабыл закрыть? Как бы не унесли чего, – мелькнуло у него в голове, и с нарастающим волнением, перехватывающим дыхание, бросился он на дверь и резко рванул на себя.
Гараж был пуст. Это было ясно, несмотря даже на резкий переход из светлого утра в сильно затенённое укрытие, когда глазам необходимо какое-то время для привыкания к значительно меньшей освещённости. Было ясно уже потому, что передок коляски всегда находился всего в полуметре от дверей и не заметить его невозможно было в любом случае.
Евгений Иванович поначалу не понял случившейся с ним трагедии и, глупо осмотрев весь пустой гараж, потом осмотрел и двор. Коляски не было нигде. Точно так же не было и ни единой живой души во дворе – только беззаботные воробьи, как всегда, сыпали из ветвей своё однообразное чириканье. Тогда Евгений Иванович опустил на землю сумку и принялся разглядывать двери – петли были покорёжены, а в метре от одной из дверей он обнаружил и свёрнутый замок. Видимо, действовали ломиком или монтажкой. Тут он заметил и следы своей мотоколяски – следы от колёс, выходящие из гаража. Проковыляв за ними через весь двор, он оказался на выезде на улицу. Здесь, на сером асфальте, следы безнадёжно обрывались.
– Боже мой, – в отчаянии подумал Евгений Иванович, оглядывая безлюдную в этот час улицу, – кому же понадобилась моя коляска? Что я буду без неё делать?..
Надо сказать, что мотоколяска и впрямь была незаменимой частью жизни инвалида Анфимова с тех самых пор, как умерла жена, а затем ушёл жить в квартиру жены сын. Из-за врождённого порока ноги Евгений Иванович практически не мог передвигаться по городу и использовал коляску даже для походов за хлебом в ближайшую булочную. Потому и содержал в образцовом состоянии и заботился о механическом друге как о близком родственнике.
– Ой-ой-ой-ой! – в потоке чёрных и обрывистых мыслей о происшедшем вспомнил он вдруг о сегодняшних планах. – А как же я теперь доберусь до Регинчика?! Она же меня будет ждать!
Это последнее обстоятельство, похоже, подвело окончательную черту под осознанием всей случившейся беды, и Евгению Ивановичу стало худо. Заныло сердце, перед глазами вдруг всё поплыло, и он почувствовал, что теряет опору под ногами. Как врач, понимая, что надвигается обморок, и дабы в бессознании не хлопнуться о землю, он медленно присел около своего опустевшего гаража и прислонился спиной к его металлической стенке. Затем, контролируя помутившееся, но ещё не отключённое сознание и отчётливо слыша рваные удары сердца, поднёс кончики пальцев к вискам и начал их медленно массировать.
Сознание удалось удержать, а вскоре стало успокаиваться и сердце. Минут через пять после внезапного этого полуобморока Евгений Иванович понял, что может встать. Поднимаясь, он почувствовал, что весь покрыт испариной, но его уже не качало. Он прикрыл двери гаража мелко дрожащей рукой, поднял свою сумку и двинулся домой.
Нужно было что-то делать, но он не знал что, не знал, с чего даже начинать. Что вообще делают в подобных случаях? Милиция? Наверное, но, как говорил ему кто-то из знакомых, в нынешнее время беспредела они не выезжают на происшествие, где меньше двух трупов. Идти к соседям было вроде бы и незачем, да и не время ещё поднимать людей в раннее воскресное утро. По этой же причине он не стал сразу звонить сыну Серёже, а прежде всего выпил успокоительного. Руки ещё сильно дрожали, и Евгений Иванович ощущал большую слабость. Присев от этой слабости на кровать, он попытался успокоиться. Но, ещё раз вспомнив о сорванной поездке на кладбище и охватив всё случившееся единым взором, вдруг ощутил такую чёрную безысходность, такое беспощадное отчаяние, что у него снова перехватило дыхание и он почувствовал тёплые пунктиры слёз по щекам. Вслед за этим слёзы, не посещавшие его тринадцать лет – со дня смерти жены, – потекли сплошными линиями, и Евгений Иванович дал волю чувствам.
Всю свою омрачённую природным недостатком жизнь он отдал людям, выбрав ещё в школе нелёгкую врачебную стезю. То ли стало это следствием чтения модных в то время книг писателей-врачей, то ли и без них Евгений Иванович понял, что именно врачом он должен стать, и отдал он этому гуманному делу более тридцати лет. Сначала шесть лет грыз нелёгкую медицинскую науку в институте, потом четверть века – счастливую четверть века! – прослужил настоящим сельским врачом (как Чехов или Булгаков) в Калужской и Горьковской областях, когда приходилось вскакивать среди ночи, чтобы мчаться в глухую деревню к тяжёлому больному или делать срочные операции в малоподходящих для этого дела условиях. И, наконец, здесь, в Нижнем Новгороде, по-старому Горьком, куда переехал с семьёй в семидесятом году, он девять предпенсионных лет проработал на далёкой от медицины кафедре гражданской обороны политехнического института, но у себя во дворе постоянно возвращался к врачебному делу, оказывая первую помощь то несчастному сердечнику, то сломавшему руку сорванцу.
– …И кто-то из этих самых сорванцов, возможно, и украл нынче мою коляску, – с горечью подумал Евгений Иванович, – или навёл на эту мерзость своих дружков с соседнего двора.
Но он тут же спохватился, в корне пресекая нехорошие мысли, тем более что были они пока всего лишь предположениями попавшего в отчаянную ситуацию человека. Между тем начали действовать таблетки, и он решил ненадолго прилечь. В разбегающихся и бестолковых мыслях о случившейся с ним беде прошло ещё какое-то время. Когда он поднялся и взглянул на часы, было начало десятого. «Теперь можно звонить Серёже», – облегчённо подумал Евгений Иванович и пошёл к телефону.
– Да-а-а? – раздался в трубке, как всегда, нарочито суровый и в то же время явно заспанный голос сына.
– Серёженька, извини, я тебя, наверное, разбудил, но у меня тут такое случилось, такое случилось… Только ты не волнуйся… Я же сегодня собрался к маме ехать – ну, ты знаешь… Понимаешь, выхожу к гаражу утром, а коляски-то моей и нету. Пропала!
– Как пропала? – окончательно стряхнув сон, но, видимо ещё ничего толком не понимая, воскликнул сын. – Откуда пропала?
– Из гаража пропала. Я же её с вечера приготовил к поездке, всё проверил, загрузил в неё инструмент, запаску, канистрочку с бензином, а сегодня утром выхожу – а её и нет. Дверь только прикрыта, замок взломан и рядом валяется. От коляски следы одни остались, от колёс её, – обрываются на улице. Значит, угнали со двора. Я чуть в обморок не хлопнулся, еле до дома добрался.
– Ты вот что, отец, – оборвал его на полуслове Сергей, почувствовав необычайно взволнованный и дрожащий голос Евгения Ивановича, – действительно позвони пока в милицию и всё им расскажи, а я сейчас еду к тебе. И не убивайся сильно – может, ещё сегодня найдётся коляска.
Учитывая физическую беспомощность пострадавшего, милиция всё же приехала к нему и приняла заявление о пропаже прямо дома. Они переговорили с соседями, всё осмотрели, зачем-то даже замерили что-то в гараже. Подробно расспрашивали о подростках, которые живут в этом и соседних дворах, могущих, по их мнению, украсть коляску. Спросили даже напрямую Евгения Ивановича, не подозревает ли он кого-то из соседей или из тех же самых мальчишек, что вертятся во дворе.
Евгений Иванович категорически отказался кого-либо подозревать, хотя и впрямь у него были кое-какие соображения на этот счёт, – не подозрения, конечно, а так, некие логические заключения, появившиеся, когда он сопоставил некоторые факты из прошлого и нынешнюю свою утрату. Но соображения соображениями, а подставлять кого бы то ни было, пусть даже у него имелись на то какие-то серьёзные основания, он считал себя не вправе.
– Пусть милиция сама во всём разбирается, – решил он, – а я такого греха на душу брать не буду.
Пришедшие двое милиционеров составили протокол, в котором Евгений Иванович расписался, забрали ключи, документы от коляски и удалились, бросив на прощание мало обнадеживающее «будем разбираться».
Но коляска не нашлась. Не нашлась ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. Ни через месяц. В милиции, куда Евгений Иванович время от времени позванивал, втайне ещё надеясь на их удачу, ведущий это дело следователь отвечал односложное «ищем».
Тем временем начала как-то организовываться – куда денешься! – разбитая было внезапной материальной потерей жизнь. Серёжка стал появляться чуть ли не каждый день, по надобности заходя в магазин и покупая отцу необходимые продукты, иногда помогали соседи, да и сам Евгений Иванович предпринимал короткие вылазки за провиантом, насколько позволяла ему неработающая нога. Но всё равно каждое воспоминание о случившейся краже вводило его в тяжёлое моральное и физическое состояние, из которого вывести могли только любимые сизари. С ещё большим рвением Евгений Иванович тратил на них свои крохотные деньги, и птицы, похоже, платили ему тем же – стали садиться даже на плечи (чего раньше никогда не было), нежно воркуя, как ему казалось, что-то ласковое на ухо.
Через два месяца, разуверившись в возможности милиции найти пропажу, Евгений Иванович обратился в отдел социального обеспечения областной администрации, который в своё время выдал ему бесплатно, как инвалиду, эту самую, украденную ныне коляску. Обратился с просьбой хоть как-то помочь в этой ситуации. Быть может, раньше срока выделить ему новую, положенную таким, как он, инвалидам каждые пять лет, а он в свою очередь готов написать расписку, что никогда более не будет претендовать на подобные подарки государства, – ведь годков-то ему уже под семьдесят. Заведующая транспортным сектором собеса Валентина Николаевна Ошеткова выслушала сбивчивый рассказ Евгения Ивановича терпеливо и внимательно, после чего сказала:
– Да, мы могли бы как-то решить эту проблему. С новой будет сложновато, но возможен вариант выдачи вам подержанной коляски, оставшейся после смерти её владельца. Однако для этого надо подтверждение из милиции о пропаже, а также справка о том, что они не могут найти украденную…
Окрылённый такой перспективой, Евгений Иванович в тот же день рассказал о ней зашедшему после работы сыну, на что тот скептическим заметил:
– И ты думаешь, милиция даст тебе такую справку – что не могут найти украденное?! Распишется в собственной беспомощности? Да ни за что на свете!
Это Евгения Ивановича не остановило, и уже на следующий день он поковылял в милицию.
– Мы не имеем права давать такие справки, пока не пройдёт отпущенный по закону на поиски год, – отрезали там.
– Но я без коляски жить не могу, а в собесе её не дадут без такой справки от вас, – начал было Евгений Иванович.
– Мы ищем, ищем, ведутся следственные мероприятия…
– Вот видишь, Серёжа, они ищут… – попытался Евгений Иванович в очередном разговоре с сыном на больную эту тему как-то защитить правоохранительные органы, которые так быстро среагировали на его обращение после угона коляски и которые, по его мнению, сами были в силках закона.
– Правда, не совсем понятно, что же мне в этом случае делать. Ждать почти год? А если я умру за это время?..
Евгений Иванович, кажется, уже всё понимал, но всё же позвонил ещё раз в собес. Попытался объяснить, что без коляски он действительно как без ног и что почти год ждать той справки – это непосильно долго для него.
– А что я могу сделать? – сухо возразила Валентина Николаевна, – такова инструкция. Ничем не могу помочь.
И это было сказано уже после того, как информация о краже мотоколяски у инвалида просочилась в местную прессу, – одна из ведущих областных газет напечатала даже небольшую заметку, в которой сообщалось, что это первый случай в истории Нижегородской области, чтобы украли инвалидную коляску. Дескать, обычно крадут иномарки, «Волги», «Жигули», а вот инвалидную коляску – такого ещё не было.
Евгений Иванович был поражён тем, что его маленькая беда выплеснулась на страницы большой газеты, и втайне надеялся, что это может как-то помочь. Увы, как показал разговор с чиновницей, надеялся он напрасно. Круг замкнулся, и помощи ждать было неоткуда. И снова потянулись безрадостные дни существования. Надо было как-то смириться с потерей, научиться жить без коляски, но главное – не ожесточиться сердцем и не очерстветь душой. Спасали опять, как и после смерти жены, голуби.
Как-то раз, придя навестить отца в один из дождливых октябрьских дней, Сергей вдруг поинтересовался, нет ли каких вестей из милиции.
– Нет. Ты же знаешь, что я уже месяц в милицию не звонил. А почему ты вдруг об этом спрашиваешь? – вопросом на вопрос ответил Евгений Иванович.
– Тут произошло событие, которое может серьёзно повлиять на всю ситуацию с твоей коляской. Я имею в виду в положительную сторону, – загадочно начал сын, – причём с такой стороны, о которой ты даже не предполагаешь…
– О чём ты говоришь, Серёжа, разве могут тут быть ещё какие-то стороны, кроме тех, которые сделали всё, что могли, – мрачно отозвался отец.
– Представь себе, могут. Помнишь Аркадия Борисовича, ну, того странного поэта, он раньше часто у нас бывал?
– Конечно, помню. Что с этого?
– А вот что. У него есть друг, который тесно общается с той частью общества, которая – как бы это сказать – не всегда находится в ладу с законом. С мафией, одним словом…
– Господь с тобой, Серёженька, – вскинулся Евгений Иванович, – это-то тут при чём?
– А вот послушай. Этот его приятель недавно был в гостях у одного из местных крёстных отцов, ну главарей нашей нижегородской мафии, который вершит у них третейский суд… Разбирается во всяких конфликтах, возникших среди этой публики, и принимает окончательное и безоговорочное решение о том, кто виноват и какое ему предстоит наказание. И если уж он вынесет своё решение, то оно неукоснительно исполняется.
Евгений Иванович был настолько законопослушен, что, как только услышал, о чём – вернее, о ком – завёл речь его сын, сразу же бросился к телефону и проверил, хорошо ли лежит трубка. Затем зачем-то подскочил к окну и, отстранив занавеску, взглянул на улицу. Тут же попытался что-то сказать Сергею, но тот невозмутимо остановил его порыв.
– Чего ты, папа, боишься? – Ведь вся наша страна давно так живёт – это уже почти что в законе всё. И справедливости там, кстати, куда больше, чем в официальном мире.
Отец его на это только махнул руками, как бы отстраняясь от чего-то очень неприятного ему, но ничего не ответил, а только обречённо опустился в старенькое кресло.
– И как-то так получилось, – продолжил Сергей свой рассказ, – что он, этот друг Аркадия Борисовича, рассказал тому мафиози всю твою историю.
При этих словах Евгений Иванович только испуганно тряхнул головой и, ещё глубже уйдя в кресло, продолжал смотреть на сына округлившимися глазами через толстые стёкла своих очков.
– Ну, о том, как у тебя украли коляску, и обо всём, связанном с этим. И знаешь, что ответил мафиози?..
В этот момент Сергей взглянул на отца и отметил крайнюю степень его взволнованности и испуга, что помимо круглых глаз и судорожного прижимания обеих рук к груди с одновременным придыханием проявлялось ещё и в максимальном втягивании его головы в плечи. Сын заметил всё это и произнёс, как отпечатал:
– Он сказал: «Такие люди не должны жить!»
Ещё раз торжествующе посмотрел на застывшего отца и пояснил:
– Он имел в виду тех, кто украл у тебя коляску.
Тут Евгений Иванович наконец перевёл дух и опустил на подлокотники руки – будто освободился от тяжёлой ноши.
– И правильно, между прочим, сказал, – закончил спокойно сын.
– Ну, Серёжа, это уж слишком категорично, – отозвался отец из глубины кресла. – Если бы всё правосудие вершилось таким образом… Пусть и совершили они очень нехороший проступок, но всё-таки жизнь человека несопоставима с такими, не ахти уж какими материальными ценностями, как инвалидная коляска.
– Да? Небольшими ценностями?! – вскипел Сергей. – А если она неотделима от твоего существования? Если ты без неё жить не можешь?
– Ну, это, допустим, не совсем так… Нет-нет, Серёжа, я никак не могу согласиться с такой постановкой вопроса, – продолжал Евгений Иванович, собираясь, видимо, ещё пофилософствовать на эту небезынтересную для него тему, но Сергей его остановил.
– Погоди, это ещё не всё, что сказал тот мафиози. Ещё он сказал: «Пусть этот инвалид хотя бы примерно очертит мне круг лиц, могущих иметь отношение к краже, – и они вернут ему коляску. Пусть он только намекнёт. А если её у них уже нет, то на следующий день у его дома будет стоять не коляска, а новая машина…»
И ужас, и восхищение, и недоумение, и ещё бог знает какие эмоции отразились в эту секунду в глазах Евгения Ивановича, во всей его плотно вжатой в узкое кресло маленькой фигурке, на которую обрушился такой шквал совершенно неожиданных, поистине могущих свести с ума вестей.
– И он просил передать всё это тебе, – продолжил Сергей, будто не замечая реакции отца, – и как можно скорее дать ему знать о твоём решении.
Евгений Иванович сидел ни жив ни мертв, в той же вжатой в кресло позе и молчал.
– Папа, это не шутка и не розыгрыш, – попытался Сергей достучаться до молчащего и замершего в своём кресле отца. – Пойми, ты можешь быстро получить назад свою коляску и больше никогда не ходить унижаться в эту милицию, к чиновникам в собесе. Тебе только надо сказать «да». Я нисколько не сомневаюсь, что эти люди говорят вполне серьёзно. И они делают то, что говорят. Аркадий Борисович тоже это подтвердил.
Отец молчал. В сильном волнении встал он с кресла и проковылял к окну. Мелкий дождь монотонно барабанил по подоконнику, будто напоминая о грядущих за ним тоскливых зимних вечерах и неизменном их спутнике – холоде. Но Евгений Иванович не замечал его. Он полностью погрузился в свои мысли.
– Верно, – думал он, глядя в окно и совершено не замечая колотящегося там дождя, – несчастная страна наша и впрямь дошла до такого состояния, когда истинная справедливость исходит не от чиновников и не от правовых органов, а от тех, кого в обществе называют страшным словом «бандиты». Я не знаю, кто он и что он совершил, этот мафиози, – наверняка ничего хорошего, – но в его страшных словах куда больше человеческого, чем во всей бессмысленной деятельности целой армии чиновников и милиционеров. Конечно, слова эти не имеют права на осуществление по многим причинам, но эмоционально, по сути, его реакция куда более человечная, чем, наоборот, внешне весьма заботливая о людях, но по существу далёкая от интересов людей бездарная деятельность целой толпы представителей государства. Ведь, действительно, до какой же степени разложения, бесчеловечности надо дойти, чтобы посягнуть на инвалидную коляску. Ведь это всё равно что отнять у инвалида ноги…
Тут он снова вспомнил то ясное летнее утро, когда случилась с ним эта беда. Всё, что он в тот момент испытал, – подобное потрясение, шок и безысходность – владело им до этого лишь раз, когда умерла его жена. Вспомнил всё, что он тогда думал о тех людях, которые решились на такое изуверство.
Евгений Иванович давно уже не понимал, что происходит в стране, где демократия вроде бы взяла наконец верх над долго издевавшейся над страной так называемой «коммунистической идеологией», – и вроде бы многое должно было измениться в стране. Пришедшие к власти демократы всё правильно говорили, и даже какие-то свободы появились, но главное-то, главное – жизнь большинства простых людей стала куда хуже, чем при коммунистах. Сначала всех их лишили годами и десятилетиями собираемых накоплений в тумбочках, а потом и в Сбербанке. Затем стали появляться так называемые «новые русские», которые в царящей во всей стране разрухе вдруг оказались более чем состоятельными людьми и которые по всем манерам более напоминали не известных из мировой литературы бизнесменов-предпринимателей, а самых настоящих бандитов. И в довершение всего вокруг опять воцарилось беззаконие и наплевательское отношение к человеку, свойственное всем рабским идеологиям вообще и коммунистической в частности.
Не понимая всего этого, но ясно видя, что вокруг происходит, Евгений Иванович давно уже перестал принимать всё это слишком близко к сердцу. Ему было довольно того, что пенсию (хотя и небольшую, но достаточную, чтобы ещё и голубей кормить) приносят регулярно, а сын Серёжа имеет работу и кое-что зарабатывает. И следил Евгений Иванович за всей этой вакханалией демократии как сторонний наблюдатель, лишь иногда, в кругу очень близких родных или друзей позволяя себе высказаться на этот счёт. Но вот это происходящее коснулось и его. Да как коснулось! Не только лишился он в одночасье главной физической опоры в жизни, но и сразу ощутил на собственной шкуре полное безразличие к себе родного, как он считал, государства. И теперь для восстановления справедливости в таком больном для него личном вопросе ему предлагалось сыграть по сложившимся вокруг негласным, но, судя по всему, весьма суровым правилам. Вернее, даже и участия его практически не требовалось, а надо было лишь дать согласие, и всё произойдёт как бы само собой. Казалось бы, чего проще, когда такая удача подворачивается и все тяготы и мытарства снимаются как по мановению волшебной палочки. Но совершенно неожиданно Евгений Иванович был не готов согласиться на такой простой и выгодный для него способ разрешения проблемы. Он оказался в ситуации очень важного и очень жёсткого выбора. В нём как будто боролись два человека.
– Это единственный твой шанс, – увещевал один. – Единственная, неизвестно кем посланная надежда. Соглашайся, соглашайся немедленно…
– Вот именно, – перебивал его второй, – вот именно – «неизвестно кем посланная». Точнее, как раз известно кем – дьяволом! Ибо только он может в такую минуту подкинуть тебе такое решение.
– Да нет ничего проще, – снова вступал первый. – Всё предельно ясно. Милиция никого не найдёт. Государству на тебя глубоко наплевать. Ты беспомощен и беззащитен. Так что предложивший тебе такой вариант человек – кто бы он ни был – поступает благородно и справедливо во всех отношениях!
– Хорошенькое благородство! – вскипал второй. – Ты же не знаешь методов, которыми действует эта «благородная» публика. Возможно, коляску твою угнала шпана. Да, этот мафиози в конце концов найдёт исполнителей варварского акта. И что тогда? Бандиты остаются бандитами во всех обстоятельствах, и они выбьют у этих ребятишек признание всеми доступными им способами.
– Глупости, глупости, – продолжал гнуть своё первый голос. – Подумаешь, припрут к стенке, припугнут хорошенько, ну, пару подзатыльников отвесят – те и признаются во всём. Зато ты-то, ты-то получишь свою коляску, без которой действительно у тебя не жизнь, а сплошная мука.
– Подумай хорошенько, к чему тебя склоняют, – не отставал второй. – Тебя, человека гуманнейшей профессии, который всю жизнь делал всё, чтобы облегчить людям страдания, хотят заставить согласиться на такие действия, которые могут обернуться непредсказуемыми физическими страданиями для других. Пусть и впрямь совершивших неблаговидный поступок – пусть даже преступление! Но не перед бандитами же они должны отвечать за него, а перед законом.
– Да что этот закон! – попытался ввернуть своё его оппонент. – Ты же сам знаешь…
– А то, – не унимался второй, – что кто-то должен жить по высшей справедливости даже в то время, когда вокруг царит полнейшая несправедливость и всё перевёрнуто с ног на голову. Кто-то же должен в человеческом обществе, временно ступившем на неправедный путь, нести этот высший крест разума и добродетели. Пусть даже с серьёзными собственными издержками. Но ради всех остальных – кто-то должен!
«Должен…» – как эхо, повторил Евгений Иванович вслух, и голоса эти сразу смолкли.
Он повернулся к сыну и с испугом поглядел на него – не стал ли и тот свидетелем странного диалога. Голоса эти он слышал столь отчётливо, что казалось, говорили в комнате. Но нет. Сергей отсутствующе рассматривал какой-то принесённый им журнал.
– Я должен тебе сказать, Серёжа, – начал Евгений Иванович, – что не согласен на это предложение. Я всё обдумал и пришёл к выводу, что не могу воспользоваться такими услугами, таким способом решения моей проблемы.
Он ожидал, что Сергей начнёт сразу упрекать его, укорять в чём-то, но тот молчал.
– Понимаешь, всё-таки я как-то приспособился сейчас к жизни без колясочки, – продолжил он трудное объяснение. – И потом ведь не исключено, что сама милиция найдёт её. Сейчас зима на носу – я бы всё равно ею не пользовался, а там и срок у милиции для поисков выйдет, они мне справку нужную дадут – глядишь, получу другую коляску в собесе.
Сын не стал переубеждать отца – знал, что если он что-то решил, то его не своротишь никакими силами. А Евгений Иванович, сделав такой выбор, никогда об этом не жалел. Не жалел, когда ему как-то вечером позвонили из областного УВД и предположили «прямо сейчас» явиться к ним. Это произошло после появления у него журналиста из центральной газеты и выхода в свет громкой статьи, где прямо говорилось о бесчеловечности государства и человечности некоего «представителя местной теневой экономики», изъявившего желание восстановить попранную справедливость.
– Почему прямо сейчас? – испугался Евгений Иванович. – Что стряслось?
– Приехал полковник из Москвы, – ответили ему. – Это по поводу статьи в газете о вас. Хочет вас видеть.
– Но сейчас же уже вечер! – с испугом, но в то же время и с некоторым облегчением возразил Анфимов. – Я не могу. Завтра – извольте.
Назавтра высокий милицейский чин из Москвы, оказавшийся почему-то в штатском, положил на стол диктофон, рядом с ним ту самую заметку из центральной газеты и попросил Евгения Ивановича всё рассказать. Тот повторил свою историю, а когда дошёл до эпизода с местным мафиози, то его собеседник попросил уточнить, о каком таком «теневике» идёт речь. Тут бедный Евгений Иванович так перепугался, что начал сочинять нечто несусветное. Придумал на ходу, что это он в трамвае ехал и рассказывал знакомому всё происшедшее с ним, а рядом оказался какой-то человек в спортивном костюме и с золотым зубом, который сильно заинтересовался этой историей и, назвавшись представителем местной теневой экономики, предложил свои бесплатные услуги в решении возникших проблем. И он, дескать, знать не знает того человека – видел всего один раз в жизни, да, может, он и не мафиози вовсе, а так, присочинил об этом для более сильного впечатления в трамвае.Было непонятно, поверил ли высокий милицейский чин этой сказке, но он настоятельно посоветовал Евгению Ивановичу никогда не прибегать к подобным услугам, а когда тот робко возразил, мол, кто же тогда ему может помочь, записал все его данные и важно сказал:
– Мы поначалу подозревали, что вы сами продали коляску и всё это дело раздули для того, чтобы бесплатно получить вторую, но теперь видим, что вы не такой. Мы посодействуем вам в получении через собес внеочередной коляски.
С чем и удалился, не оставив ни своего имени, ни фамилии, ни телефона. Помощи обещанной, естественно, не вышло.
Не жалел Евгений Иванович об этом своём нравственном выборе и потом, когда получил все нужные справки из милиции и начались его долгие мытарства по собесу, где постоянно обещали помочь, но всё время почему-то не помогали, а только подавали напрасные надежды. Да не просто не помогали, а в течение нескольких лет бездушно издевались над несчастным инвалидом, заставляя его по несколько раз в неделю звонить, а иногда даже ехать для получения якобы отобранной для него «почти новой» коляски, оставшейся от умершего другого инвалида. Только та на поверку оказывалась грудой металлолома, но чиновники потом его же самого и обвиняли в капризности и нежелании получить подарок государства. А однажды выяснилось, что завод в Серпухове, выпускающий эти самые мотоколяски для инвалидов, вообще закрылся из-за недостатка средств. И только после активного вмешательства в это дело депутата местной думы и редакции той самой центральной газеты, которая рассказала всей стране историю Евгения Ивановича Анфимова, собес наконец подобрал ему нечто, оставшееся от умершего владельца-инвалида и оказавшееся после серьёзного ремонта даже способным ездить. Правда, к этому времени он уже настолько плохо видел, что не мог садиться за руль даже такого автомобиля. Но это уже совсем другая история – история хождения по мукам простого инвалида в период безоговорочной победы демократии в России. История, как понятно, почти не имеющая отношения к необычному нравственному выбору, перед которым поставила Евгения Ивановича жизнь в 65 лет и который он сделал по законам совести и доброты.
Поцелуй бога
Умирал прекрасный человек – выдающийся учёный и близкий мой друг Израиль Брехман. Было самое благодатное, тёплое время года в городе Владивостоке, на краю земли российской, но уход из этого мира никак не зависит от погоды. Нет, он не мучился в реанимации или на больничной койке в тисках смертельного недуга. И не страдал от боли на домашнем диване, отчаянно поглощая кучи лекарств, призванных облегчить последние недели и дни покидающего этот мир человека. Всё было иначе. Совсем иначе!
Он так же, как и всегда, вставал без будильника рано утром – ну, может быть, теперь не в семь, как обычно, а в восемь часов – и, позавтракав, садился за письменный стол. До полудня он проводил время в самом счастливом для него занятии – работе. В работе над результатами экспериментов, очередной статьёй, книгой или составлением ближайших планов. Затем уходил на час гулять, обедал и ехал на работу, в свой отдел. Так что никто, посмотревший на него со стороны, никак не сказал бы, что человек этот вот-вот уйдёт из жизни. Да и сам Израиль Ицкович, спроси его кто напрямую о смерти, пожалуй, выказал бы удивление, а возможно даже, и возмущение такой странной темой. Но это внешне, а внутри…
Кому дано знать, что делается внутри человека, особенно такого, каким был Брехман?! Он крайне не любил распространяться на темы о собственном самочувствии, недомогании и тому подобном. И тем не менее он ясно осознавал, что с ним происходит что-то очень серьёзное. Такое, чего раньше никогда не было. И это «что-то» являлось не временным ухудшением здоровья и даже не грозным предынфарктным состоянием, с которым он детально познакомился накануне настигшего его 15 лет назад настоящего обширного инфаркта. Тут было что-то совсем иное, чего он не испытывал на протяжении всей своей интереснейшей и плодотворной жизни. Что-то такое, что стояло значительно выше, чем простое ухудшение самочувствия, накатывающая сердечная или иная боль. По масштабу это было сродни всей жизни, которая была за ним. Или… смерти, которая рано или поздно приходит на смену всякой жизни.
Да, человек, увы, смертен. И эта неотвратимая жизненная аксиома, загадка, неизбежность обязательного физического умирания – единственная, пожалуй, проблема, которую человечеству, наверное, не суждено разрешить никогда, – в один страшный момент вдруг встаёт перед каждым живым существом. Брехман был медиком, настоящим исследователем и учёным – у него на всё происходящее вокруг и с ним был свой взгляд. Начиная от случившейся в стране по инициативе Горбачёва перестройки и кончая предположением о наличии у него раковой опухоли, которое, к счастью, не подтвердилось. Поэтому, когда он вдруг начал чувствовать непривычную повышенную слабость, усталость и утомляемость, то задумался о своих 73 годах.
Бегство его еврейской семьи от погромов из маленького Бердичева и школьные годы в Самаре пролетели в памяти почти незаметно, потому что здесь ещё не было ничего, сделанного им, кроме разве что окончания школы с отличием. Принял решение поступать в Ленинградскую военно-медицинскую академию и успешно выдержал конкурс отличников, в котором было семь человек на место, – это он с полным правом зачёл в свой личный жизненный актив. Потом, ещё в студенческие годы, научная деятельность на кафедре фармакологии под руководством его любимого учителя Николая Васильевича Лазарева. То была настоящая исследовательская работа над искусственным препаратом, повышающим выносливость людей на фронте, который затем, во время войны, применялся на Черноморском флоте. После окончания академии – распределение на флот, на сей раз Тихоокеанский. Это уже был серьёзный, судьбоносный момент жизни, который вспоминался с улыбкой.
– А ты, орёл, на ТОФ поедешь, – злорадно сказал начальник курса молодому офицеру Брехману, увлечение которого наукой в ущерб строевым и военным занятиям сильно бросалось в глаза и отмечалось как серьёзный недостаток.
ТОФ – это Тихоокеанский флот, базирующийся во Владивостоке. Служить на краю земли после учёбы в Ленинграде было вроде ссылки. Но только не для Брехмана – ведь он поступал в академию с мечтами о морях и океанах. В его душе жила романтика.
– Саша, разберитесь там с женьшенем, – напутствовал его профессор Лазарев…
И Брехман разобрался. Да как разобрался! В итоге впервые в мире чудодейственный корень жизни был включён в государственную фармакопею СССР, стал официальным лекарством научной медицины, а Совмин СССР принял специальное постановление о создании в Приморье совхоза «Женьшень» для обеспечения фармакологической промышленности соответствующим сырьём.
Причём «разбирательство» это проходило параллельно с плановыми исследованиями на флоте в области токсикологии, радиологии, испытаниями уже изученного стимулятора прозамина на кораблях и подводных лодках ТОФ, по материалам которых он защитил кандидатскую диссертацию. А увлечённый энтузиазмом молодого учёного и первыми результатами исследований экзотического корня жизни председатель Президиума Дальневосточного филиала АН СССР профессор Сладкевич открыл специальную лабораторию, послужившую базой для фармакологического изучения женьшеня, которой на общественных началах руководил Брехман.
В этом месте своего путешествия по океану памяти старый учёный взял с полки монографию «Женьшень», написанную им в те годы, и бережно стал перелистывать. Первая и потому самая дорогая книжка из тринадцати, написанных им за всю жизнь. Она знаменовала особый период в его научной судьбе – защиту докторской диссертации, демобилизацию в 1956 году из флота и чёткое определение смысла последующих незабываемых годов жизни. В научном смысле то был очень важный шаг вперёд – не зря ведь книгу перевели на японский и китайский языки, – кто-кто, а уж китайцы знают толк в корне жизни!
А жизнь свою уже тогда он окончательно решил посвятить науке, связав её с Дальним Востоком и уповая на то, что именно этот край, с его таёжными и морскими богатствами, есть настоящий лекарственный арсенал страны, а главное богатство человека – его здоровье. Уже тогда, почти сорок лет назад, когда в стране дела не было до истинного здоровья человека, за год до страшного термоядерного взрыва на Новой Земле, потрясшего (в прямом и переносном смысле этого слова) планету и показавшего всему миру, что конец света совсем не библейская выдумка, – за тридцать лет до Чернобыля, он всерьёз задумался о новой науке. Науке, призванной не лечить заболевшего человека, а сохранять его здоровье.
– Саша (именно таким, распространённым в России, а не сложным еврейским именем звала она его всегда в неформальной обстановке), идём обедать, – прервал поток приятных воспоминаний голос жены, – что с тобой стряслось? Я уже третий раз тебя зову, всё остыло…
– Да, да, Рита, – будто возвращаясь на землю из другого мира, отозвался учёный, – я уже иду. Извини, закопался в бумагах.
С этими словами он отложил в сторону книгу и направился на кухню. Но мысли, эти странные мысли о прошлом, о прожитых годах, отложить было невозможно. Непостижимым для него образом они вкрадывались в сознание и почти полностью занимали его. Вот и теперь, после вторгшегося в этот его внутренний мир голоса жены они не покинули его, а лишь преобразовались в воспоминания, связанные с ней – Маргаритой, которую полюбил ещё в школе, где они вместе учились, ни на кого никогда не менял и счастливо жил с ней вот уже более половины века.
Почему-то вдруг всплыли в памяти события тех дальних лет, когда они ещё не были женаты. Он только ухаживал за Ритой, но одновременно за ней ухаживал и другой мальчик из куда более обеспеченной и видной семьи – папа его был главным врачом клиники, а затем министром здравоохранения всей страны! А кто был отец Брехмана? Всего лишь старый еврей, портной по профессии, ставший партийным выдвиженцем и в этом качестве долгие годы возглавлявший медицинские учреждения Саратова. Но Израиль Ицкович был необычайно настойчив в достижении каждой поставленной перед собой цели, в том числе и в сердечной области.
– Рита, а помнишь, как лет пятьдесят назад, ещё до нашей женитьбы, ты собралась ехать в Москву? Там ты должна была увидеться с Юрой, который тоже ухаживал тогда за тобой, и я пришёл тебя провожать на вокзал в Ленинграде, – неожиданно, после нескольких ложек грибного супа вдруг оторвался он от своих мыслей и обратился к Маргарите Андреевне.
– Конечно же помню. Тогда ещё было очень холодно, и ты всё беспокоился, не замёрзну ли я. Волновался, что я еду без шапочки и вообще легко, не по погоде одета. Ты ещё предложил тогда сбегать к своей бабушке, взять для меня тёплую шаль…
– А что это ты вдруг об этом вспомнил? – настороженно, но в то же время с улыбкой спросила она.
– Да так… Вспомнилось почему-то, – задумчиво ответил он.
– …И ты принёс эту старенькую шаль. Я была ужасно тронута такой заботой – ведь ты провожал меня к своему сопернику – и взяла её с собой.
– Да-а-а, – тепло и ласково произнес Брехман, с любовью и незнакомой ей светлой грустью глядя на жену, – так давно это было, а кажется, будто вчера.
Они помолчали некоторое время, и Брехман опять стал погружаться в свои мысли.
– А ты знаешь, Саша, продолжение этой истории с шалью в Москве? – попыталась она вернуть мужа к приятной для неё и начатой им же теме. – Я тебе об этом никогда не рассказывала.
– Интересно, – оживился он, – что же за история?
– Нет, не история, конечно, – ответила она, – а так, небольшой эпизод… Приезжаю я в этой шали твоей бабки в Москву, встречает меня Юра – весь такой столичный, модный, разодетый – и, увидев её на мне, восклицает: «Это что? Что на тебе надето?! Я с тобой такой никуда не пойду!»