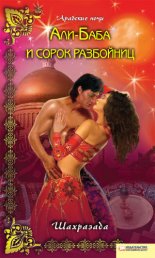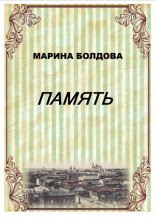Путь в небо. За чертой инстинкта Шаров Валерий

– Ну… а ты? – по-настоящему уже заинтересовался Брехман.
– Я ответила, что это его дело – ходить со мной или не ходить, – но я шаль не сниму…
Брехман как-то по-особенному посмотрел на неё и тепло улыбнулся: «Вот видишь, какая ты у меня умница».
– Ты знаешь, я ведь вас всё время сравнивала, тебя и Юру, – и этот эпизод, наверное, оказался решающим при выборе в твою пользу. А после того как вышла за тебя замуж, и Юра, и его папа всё никак не могли понять, почему же я предпочла тебя, а не его. Странные люди…
И снова муж одарил её в ответ приятной тёплой улыбкой.
– Спасибо, Рита, обед был замечательный, – сказал Брехман через несколько минут, вставая из-за стола. – Я пойду прилягу, а то как-то устало себя чувствую.
С этими словами он неспешно направился в свой кабинет, а Маргарита Андреевна принялась убирать со стола на кухне. Тяжесть, усталость и какое-то незнакомое внутреннее беспокойство не покидали его, наоборот, усилились, отчего он решил прилечь. Аккуратно поставив книгу о женьшене на своё место в шкафу, Брехман опустился на диван и, закрыв глаза, попытался переключиться на приятные воспоминания. На какое-то время это ему удалось, и он как бы заново переселился в чудесный мир исследований и открытий, который сам себе когда-то создал на ставшем ему родным Дальнем Востоке, с упоением развивал, углублял, жил в нём, хотя и с массой проблем и забот. Но всё же счастливо жил – с тем счастьем, которое только и может быть даровано творческому человеку и о котором втайне мечтают многие. Да только не многие его, такого счастья, удостаиваются.
За женьшенем последовало другое растение дальневосточной тайги – элеутерококк, – оказавшееся по некоторым параметрам даже более эффективным, чем знаменитый корень жизни. После исследований в лаборатории Брехмана, получения удивительных экспериментальных результатов и их обнародования началось победное шествие препаратов из этого таёжного растения по России и по миру. Элеутерококковая настойка, позволяющая человеку быстрее привыкать к новым, тяжёлым внешним условиям жизни и труда, повышающая общий уровень сопротивляемости организма, стала постоянным лекарством в аптеках. Нашла своё место в спорте и даже при подготовке космонавтов. Посыпались приглашения из-за границы, и Брехман выступал с лекциями об элеутерококке в университетах Англии и Франции, Германии и Швейцарии, Норвегии и Дании, Индии и Японии. Тут ему вспомнилось одно из них – давнее выступление в соседней с Приморьем Японии, где в Токио на пресс-конференцию после его лекции пришло столько народу, что все не уместились в отведённом для этого зале. И тогда сообразительные японцы оперативно организовали в соседнем помещении просмотр пресс-конференции по телевизионному каналу.
Сочетание крайне необходимых человеческому организму биологически активных веществ, содержащихся в том числе и в элеутерококке, с вредным для здоровья алкоголем особенно волновало Брехмана в его научной и исследовательской деятельности. Он всегда мечтал создать и подарить людям такой спиртной напиток, который сохранял бы привлекательные для человека алкогольные качества, но не имел бы присущих всем разновидностям крепкого алкоголя основных свойств: возможного отравления организма и вызывания привыкания к нему. Тем более в своей стране, где повальное пьянство и алкоголизм стали настоящим национальным бедствием. И здесь как нельзя более к месту оказался элеутерококк. Очень быстро нужный напиток с этим чудесным таёжным растением был создан. Назвали его «Золотой рог», но, увы, до народа он доходил мало – основными потребителями нового, «здорового» алкогольного напитка в родном Владивостоке стали партийные и государственные чиновники. Постоянно «Золотой рог» продавался только в закрытом буфете приморского крайкома партии. Но Брехмана эти присущие окружающему его обществу мерзости, возведённые в государственный ранг, волновали не сильно – ведь он был исследователем, а не борцом за политические идеи. Окрылённый первым успехом в важнейшей для здоровья российской нации области, Брехман пошёл дальше. Вскоре были найдены ещё более эффективные растительные добавки в алкоголь, и на новые разработки были получены патенты в 11 странах Европы, Америки и Азии.
После многочисленных и успешных лабораторных испытаний одного из новых напитков ему удалось пробить и в 1984 году начать его широкомасштабное исследование на людях в одном из районов Магаданской области. Оно было рассчитано на два года, стало уже приносить первые удивительные результаты и обещало радикальные перемены в этой традиционно больной сфере российского бытия. Но, как это водится в России, произошло нелепое и ужасное политическое событие – печально известное горбачёвское «антиалкогольное» постановление 1985 года, которое закрыло всё начатое масштабное исследование и обратило страну в хаос самогоноварения, безудержного потребления всего и вся, хоть как-то заменяющего дурманящий эффект почти запрещённого алкоголя.
При воспоминании о тех катастрофических для его антиалкогольных исследований временах учёный остро ощутил гнетущую боль в области правой лопатки и в сердце – будто нездоровое состояние его страны в те далёкие годы удивительным образом перешло в его теперешнее физическое недомогание – и, оторвавшись от прошлого, вернулся в настоящее. Открыл глаза и присел на диване. Помимо тяжести под лопаткой и сердечной боли он отметил увеличившуюся тяжесть в дыхании и лёгкое головокружение.
– Господи, неужели это то самое, о котором я всегда старался не думать, но которое приходит к тебе независимо от того, думаешь ты об этом или нет? – спокойно спросил он неизвестно кого.
Но ответа не получил.
– Надо съездить в госпиталь, провериться, – решил он через некоторое время, уже не возвращаясь в воспоминания, а только анализируя тревожные симптомы.
С этими мыслями он набрал номер своего давнего ученика и друга, который работал в военном госпитале и с которым он проводил некоторые совместные исследования на Тихоокеанском флоте.
– Что-то случилось, Израиль Ицкович? – настороженно спросил всегда отзывчивый, особенно к Брехману, Григорий Заяц.
– Да ничего особенного, просто мне немного нездоровится, – в том же неволнительном тоне ответил Брехман, – хочу на всякий случай провериться.
– Конечно, приходите, я буду до шести вечера – так что в любое удобное для вас время.
– Ты куда, Саша? – удивилась жена, знавшая, что по пятницам он в институт не ездит и вообще после обеда собирался отдыхать.
Не в характере Брехмана было перекладывать свои проблемы на окружающих его людей. Даже если это были проблемы со здоровьем. И даже если это был самый близкий его человек. Более того, он был так воспитан и так сложил себя, что считал: именно близкого человека и не стоит расстраивать подобными неприятностями. Даже когда у него несколько лет назад было подозрение на рак, он держал всё в себе и ни слова не сказал Маргарите. Продолжал, как и всегда, напряжённо работать. К счастью, тогда всё обошлось. Вот и теперь, когда жена спросила его о причине неожиданного ухода из дома, Брехман не стал распространяться о своих мыслях и самочувствии.
– Позвонил Сергей, мой заместитель в отделе, – что-то у них там не ладится в эксперименте, не могут разобраться – я съезжу ненадолго. Думаю, обернусь за полтора часа, – только это и сказал.
Выйдя на улицу, он не почувствовал облегчения от свежего воздуха, как это обычно бывало при простом повышении у него давления. Все симптомы только обострились, и гнетущее чувство неотвратимости наваливающегося на него чего-то очень тяжёлого и незнакомого охватило с новой силой. Заканчивалась пятница, народу в трамвае было много, и все шесть остановок до госпиталя Брехману пришлось простоять – несмотря на плохое самочувствие, он не мог позволить себе попросить кого-то уступить ему место, а добровольно никто этого делать не хотел. Да он через пять минут и забыл о том, что стоит. Глядя на серую толпу на улице и людей в трамвае, для которых столько времени он работал, но жизнь их всё равно не стала лучше, он вдруг вспомнил момент, когда за рубежом отказались использовать результаты его экспериментов.
Его группа исследовала тогда всевозможные безалкогольные напитки. Они взялись за весьма популярную на Западе пепси-колу и установили, что её употребление вместе со спиртным способствует повышению привыкания к алкоголю. Более того, даже если прекращаешь пить пепси, то привыкание сохраняется долгое время. Учёный считал эту проблему не только медицинской, но и государственной, и даже общечеловеческой. Поэтому он ознакомил американскую фирму с результатами своих экспериментов и предложил приобрести лицензию на полученное его лабораторией новое вещество, позволяющее снизить вредное действие популярного напитка. Брехмана и его помощника пригласили тогда в Соединённые Штаты, устроили шикарный приём, но лицензию не приобрели – дали осторожно понять, что любое изменение (пусть даже улучшение) существующего на рынке продукта может заронить в сознание потребителя мысль о том, будто ранее этот продукт был недостаточно хорош. А это уже серьёзный скандал, и никакая фирма на такое не пойдёт. Тем более когда речь идёт о напитке, продаваемом во всём мире!
«Мир несовершенен, – подумал Брехман с горечью, – и все усилия одного человека сделать его лучше вряд ли окажутся эффективными, если сам мир к этому не готов. Однако это не значит, что тот, кто может что-то делать, должен бездействовать. И совесть моя чиста – я сделал всё, что мог…»
Но тут же вспомнился другой, куда более приятный пример его общения с Америкой, когда результаты его работ были оценены по достоинству и принесли людям пользу. Некий бизнесмен-интеллектуал из Штатов, заработавший колоссальные деньги на продаже так называемой «Кембриджской диеты», задумал выбросить на рынок нечто новое для здоровья, сделанное на основе каких-нибудь экзотических добавок. Этакий «эликсир жизни» на основе самых передовых современных разработок. Отыскав все работы Брехмана по биологически активным веществам дальневосточной тайги и по достоинству оценив их, он пригласил его в 1991 году для знакомства и консультаций в Сан-Франциско. То была сказочная история: впервые в жизни учёный общался с непрофессионалом, который прекрасно знал все его работы, разделял научные взгляды и задавал вполне профессиональные вопросы. А через год с небольшим состоялась уже презентация созданного американцем на основе дальневосточных лекарственных растений того самого задуманного им «эликсира жизни». Принимавшие препарат люди, среди которых было немало пожилых, страдающих депрессией, отсутствием воли к жизни и другими недугами, отмечали его чудесный эффект и подходили к Брехману со слезами благодарности.
«Нет, всё-таки в мире есть место справедливости и совершенству», – несколько изменил он свое предыдущее суждение, хотя сюда всё же добавлялась горечь недостаточного внимания к результатам его многолетних работ для здоровья людей в его собственной стране.
– И всё же, и всё же… В этих условиях удалось сделать почти невозможное. Удалось, нащупав основу существования человека без болезней, – по-настоящему здорового человека – определить основные принципы этого существования. Удалось внушить их нашему медицинскому сообществу и создать науку, которую в своих мечтах я видел уже очень давно… – так думал он, идя уже знакомым госпитальным парком, зеленеющим и благоухающим летней листвой и отчасти скрадывающим тяжёлую июльскую жару, что неожиданно для этого времени года опустилась на Владивосток.
В этот момент тяжесть навалилась с новой силой. Но он был учёным – исследователем, который всю свою жизнь занимался анализом наблюдаемого им: будь то сложный эксперимент над животными, действие нового препарата на собственный организм или происходящие в стране события. Поэтому, продолжая ощущать те же крайне неприятные симптомы, он и себя сделал объектом наблюдений, попытался взглянуть на себя, на всё, что с ним происходило, со стороны.
И с этой стороны он увидел усталое пожилое тело, хотя и идущее с высоко поднятой головой и гордой осанкой, но идущее медленно, тяжело. Более того, изнутри оно было подточено необратимыми возрастными и болезненными изменениями – уделом любого человеческого тела к этим годам, – периодически сигнализирующими о таком печальном факте сознанию. Причём два раза сигналы эти (подозрение на рак и случившийся пятнадцать лет назад инфаркт) были более чем серьёзными. Но провидение миловало его тогда.
– Да и как мог я тогда уйти, – отчётливо вырвалось в этот момент из потока сознания, – когда столько из задуманного ещё не было сделано?! А вот теперь уже третье предупреждение судьбы. Оно особое, сильно отличается от тех. И возможно, оно последнее.
Во власти этих странных мыслей подошёл Брехман к знакомому корпусу военного госпиталя. Главный физиолог Тихоокеанского флота Григорий Андрианович Заяц – давний его друг и соратник по научной работе – курил в этот момент на ступеньках. Подойдя к нему, Брехман протянул руку:
– Здравствуйте, Гриша…
Встречу эту Заяц запомнил навсегда – подобных у него в жизни не было.
– Добрый день, Израиль Ицкович, – ответил он. – В чём дело?
– Да что-то сердце вроде бы болит, – бесстрастно произнёс Брехман и, не останавливаясь, шагнул внутрь корпуса.
– Он прошёл мимо меня, – вспоминал потом Григорий, – как мимо шкафа… Как будто меня там не было. Хотя и поздоровался, и руку протянул, и даже обследоваться попросил, но всё это происходило как-то по инерции, и ощущение было такое, что всё для него уже ничто! Будто бы человек уезжает куда-то очень далеко и пришёл попрощаться… Естественно, мы тут же сделали ему УЗИ, ЭКГ, эхокардиограмму, и ничего катастрофического или даже очень тревожного эти обследования не показали – так, общие сердечно-сосудистые проблемы, свойственные практически любому человеку, когда ему за 70… С тем его и отпустили. Конечно, можно предположить, что после его смерти у меня многое «накрутилось» в голове с тем эпизодом, возможно даже, я действительно что-то сейчас чуть более эмоционально окрашиваю, но я отчётливо помню то необычное ощущение, которое оставила встреча с ним. Находясь рядом со мной, Брехман будто отсутствовал. Его не было уже!..
Дома царила небольшая суета – на завтра, на субботу были приглашены в гости несколько близких друзей, в том числе главный режиссёр одного из театров Владивостока Леонид Анисимов с женой. Маргарита Андреевна занималась готовкой на кухне, и некому было особенно приглядываться к Брехману. Пройдя в свой кабинет, несмотря на непроходящие ощущения сильной усталости и сонливости, он сел за письменный стол и автоматически подумал, за что бы можно было сейчас взяться поработать. И с удивлением понял, что все главные дела последнего времени в целом были сделаны: от многострадальной книги о его любимом учителе Лазареве, которую он писал почти двадцать лет, уже изданной и даже несколько недель назад подаренной вдове, до небольшой статьи «Всенародное движение за здоровый мир» для очередного валеологического конгресса. Более того, ещё раз окинув свою жизнь, он с каким-то смешанным сочетанием радости и грусти понял, что и главное дело последних лет – создание валеологии (новой науки о здоровье) – он фактически завершил. На первом национальном конгрессе по профилактической медицине, прошедшем в этом году в Ленинграде, его доклад на эту тему вызвал такой огромный интерес, что после выступления, уже в гостинице, к нему выстроилась очередь из участников конгресса, желающих выразить свою признательность и поговорить о новой науке. Он с улыбкой вспомнил, как после многочасовых этих разговоров о выстраданной им новой науке они стояли тогда вдвоём с женой в белой ленинградской ночи, вспоминали прошедшую в этом городе свою далёкую молодость и у него, опьянённого успехом и радостью, вдруг вырвалось само собой: «Подумай только, Рита, как я счастлив сейчас! Счастьем, которое только и может быть дано учёному: моя валеология живёт уже отдельно от меня, живёт своей самостоятельной жизнью…»
Тогда у него, по-мальчишески взъерошенного, купающегося в счастье, и в мыслях не было, что это может быть конец жизни, – какой конец, когда всё так здорово наконец пошло?! А сейчас вдруг такие тревожные симптомы и такие странные мысли. В них же – этих смешанных мыслях о своей жизни и теперешнем очень угнетающем физическом состоянии – незаметно прошёл вечер с ужином и традиционным сидением перед телевизором. Он ничего не говорил об этом жене – зачем расстраивать близкого человека разговорами о своих недугах и мыслях – и всё более ощущал давящую усталость и сильную сонливость. Пожелав ей около половины двенадцатого спокойной ночи и ласково попросив не увлекаться на ночь незавершённой ещё готовкой на завтрашний приём, он ушёл в свою комнату. Но не сразу потушил свет и лёг спать, а по заведённой традиции взял недочитанную книгу и попытался её почитать. В лежачем положении неприятные сердечные ощущения вроде бы поутихли, и он погрузился в чтение.
Через некоторое время он вдруг ощутил сильное сердцебиение и будто острое прикосновение холодным предметом где-то слева под ложечкой. Сразу за этим неприятно потянуло под правой лопаткой. Он осторожно встал, чтобы выпить лекарство, – и чуть не упал от головокружения. Появилась холодная испарина. Но всё же добрался до столика, где лежали медикаменты. Задыхаясь, пошарив в пакете, нашёл нужное.
– Саша, что такое? – услышал из соседней комнаты обеспокоенный голос ещё не уснувшей жены. – Что стряслось?
Вслед за этим Маргарита Андреевна появилась около его постели.
– Да как-то не по себе, Рита, – уклончиво ответил Брехман, не желая беспокоить её среди ночи.
– Что значит «не по себе»? – заволновалась она и, так и не получив от мужа вразумительного ответа, достала тонометр.
Давление оказалось нормальным – ну, может, чуть повышенным. Брехман выпил лекарство. Ничего не слыша от мужа, но ясно видя по нему, что происходит что-то нехорошее, она произнесла: «Саша, я сейчас «скорую» вызову, потерпи немного».
– Не волнуйся, сейчас всё пройдет, – был его спокойный, как всегда, ответ. – Мне уже лучше.
Он попытался улыбнуться, но это у него плохо получилось.
Маргарита Андреевна обеспокоилась ещё больше и всё же решилась вызывать врача. И дальше начались в их доме странные вещи. Телефон, который всегда исправно работал, в этот момент вдруг оказался молчащим, будто кто-то неведомый нарочно не хотел, чтобы кто-либо на этом свете вмешивался в судьбу Брехмана. Ничего не помогало, и ей пришлось бежать звонить к соседям. Когда через пять минут вернулась к мужу, он уже здорово отяжелел и не реагировал на обращения жены. Она всё поняла и тут же начала делать ему искусственное дыхание – рот в рот. Но это не помогло. В ужасе от происходящего, металась она возле бездыханного тела, не зная, что ещё сделать. Тут приехала «скорая». Врачи незамедлительно стали колоть различные лекарства, но в сознание Брехман уже не приходил. Не веря в происшедшее, Маргарита Андреевна не отходила от обездвиженного мужа. Плакала, всё вглядывалась в потерявшее жизнь дорогое лицо, трогала его застывшее, но ещё не окоченевшее тело.– Саша, ты меня слышишь? Может быть, ты меня слышишь… – в отчаянии повторяла снова и снова, всё надеялась на чудо, когда, констатировав смерть, уже уехала «скорая» и застывшая за окном летняя ночь поглотила последние её надежды…
После ухода жены неприятная тяжесть под лопаткой и холод в области ключицы будто объединились и превратились в пронзительную боль во всей грудине и в голове. Брехман едва ощущал свои похолодевшие и ставшие вдруг сильно влажными руки и ноги. Всё тяжелее было дышать. Он старался не закрывать глаза, но теперь уже и это было неимоверно тяжело, и, когда тупая боль в груди пошла в очередную атаку, он сомкнул веки. Вроде бы невыносимее уже быть не могло, но тут боль словно спиральным обручем сдавила всё внутри, да так, что невозможно было сделать вдох, – казалось, от любого, даже самого осторожного движения, всё внутри разорвется от этой боли, стиснувшей человека мёртвой хваткой.
– Это конец, – почему-то очень спокойно решил Брехман. – Да, это конец. Но зачем же так больно?
И в следующее мгновение случилось чудо. Одновременно с очередным сжатием стального обруча внутри, от которого все его мысли о пришедшем конце и о боли рассыпались, будто хрустальный фужер при ударе о паркет, страшная, леденящая тело боль вдруг исчезла, словно её вовсе не было, а появилась во всём теле удивительная лёгкость и свобода.
– Лекарство подействовало, – облегчённо подумал Брехман и открыл глаза.
Поначалу его поразило, что, не ощущая поднятия век, он вдруг оказался будто с открытыми глазами. Но это было не единственное, что могло поразить, – он не только не ощущал собственного дыхания, но и не ощущал своего тела, которое ещё несколько секунд назад испытывало такие невыносимые муки. Более того, начав видеть столь необычным образом, первое, что он узрел – себя самого, неподвижно, с закрытыми глазами лежащего на диване. Невозможно было понять, как происходит это видение – откуда, чем и с какой точки он зрит себя самого со стороны, – но так было.
Самым же поразительным оказалось то, что Брехман вдруг каким-то непостижимым образом увидел и свою жену, кричащую что-то в телефонную трубку у соседей. И весь заснувший у спокойного моря летний город Владивосток – достаточно было ему только подумать о ночи вокруг. И он перестал думать о лекарствах, о своих тяжёлых мыслях о конце, об удивительных вещах, происходящих с ним. Захваченный пьянящим ощущением лёгкости и свободы, неожиданно ставшими доступными ему поразительными возможностями сознания, он с восторгом окунулся в неизвестный ему раньше мир, где люди и предметы, мысли и надежды, прошлое и настоящее существуют одновременно и не требуют за это никакой платы.
В мгновение ока оказался он вдруг в своей лаборатории в родном Институте океанографии, где проработал много-много лет. И одновременно – в далёкой довоенной Самаре, куда их семья бежала из Бердичева, опасаясь еврейских погромов. И в Ленинграде, где учился в военно-медицинской академии, – тут же он увидел живим и здоровым своего любимого учителя Лазарева. А затем мгновенно перенёсся в Америку, где производили и продавали лекарства с его препаратами, и тут же побывал во всех странах, которые посещал на конференциях и симпозиумах. Было поразительно и захватывающе, что все эти путешествия и видения происходили одновременно, как бы перетекая одно в другое, существуя слитно, но в то же время каждое воспринималось как отдельное явление в едином калейдоскопе пространства, времени и цвета.
– Определённо, это конец, – ещё раз вернулись мысли к посетившей его совсем недавно теме. – Но какой-то не такой, который описывают испытавшие смерть люди. Нет ведь ни длинного коридора, ни яркого света в конце его, а только лишь этот мгновенный полёт над миром, на манер персонажей с картин Шагала.
И снова чудесный калейдоскоп завертел его, и за доли секунды увидел он сына в соседней комнате, внучку в далёкой Японии, а затем в неуловимое мгновение оказался в Израиле, в котором никогда не бывал, но всю жизнь мечтал пройти путём Христа. Следующая картинка была уже из Петербурга, где в божественной белой ночи увидел он стоящих на ступеньках набережной Невы счастливых мужчину и женщину из далёкого мая 1945 года, опьянённых счастьем Великой Победы народа, полных ощущения грядущей жизни и надежд. И одновременно увидел столь же счастливых их же – из мая нынешнего 1994 года, вышедших к Неве после триумфального первого конгресса по новой науке, созданной им. И по-юношески взъерошенный, с горящими глазами старый человек произнёс: «…как я счастлив! Моя валеология живёт отдельно от меня, самостоятельной жизнью».
Эта картинка была последней в окошке чудесного калейдоскопа, и задержка на ней была больше остальных. Но вот все лица, места, события и чувства завертелись с возрастающей скоростью – такой, что невозможно было разглядеть ничего подробно, и Брехман почувствовал прикосновение к себе чего-то неизмеримо доброго, тёплого и светлого, как будто его нежно и с любовью поцеловала давно ушедшая мать. Вслед за этим сам он куда-то стремительно полетел: то ли вниз, то ли к небу – было не понять. Но это его уже не волновало.
– Как я счастлив… я счастлив… счастлив, – звучали слова, от которых становилось радостно и спокойно.
И, полный этого всепоглощающего счастья и радости, он улыбнулся всей своей долгой и наполненной жизни, всему большому миру, который покидал и который сделал его таким счастливым…
А в это время плачущая и не желающая верить в случившееся его жена Маргарита Андреевна всё сидела возле дорогого безжизненного тела, прикасалась к нему и повторяла, как заклинание:
– Саша, Саша, ты меня слышишь? Может быть, ты меня слышишь…
И произошло невероятное: часа в три ночи, когда врачи уже констатировали смерть, но случилась она так недавно, что тело не успело ещё окоченеть, на эти слова жены на застывшем и бледном лице Брехмана появилась добрая, такая знакомая и дорогая ей улыбка.
Таким – недвижным, но с тёплой, живой улыбкой на лице – и остался в её памяти самый дорогой человек. А когда через три дня состоялись похороны, на которые пошли продукты, купленные ею для субботнего приёма гостей, она рассказала все подробности той жуткой ночи близкому другу семьи, театральному режиссеру Леониду Анисимову. Он долго стоял в молчании, скорбя по ушедшему другу и сочувствуя рыдающей вдове. А затем произнёс:
– Не надо плакать, Маргарита Андреевна. То была не смерть, а поцелуй Бога. Он удостоился его всей своей жизнью, которую прожил ради познания и людей, и всем нам, оставшимся, надо ещё очень много сделать, чтобы заслужить подобное.
От этих хороших слов Маргарите Андреевне стало немного легче, и, вспомнив ещё раз невероятную улыбку, появившуюся на лице умершего уже мужа, она подумала, что и впрямь похоже это было на прикосновение к нему чего-то очень доброго и всепонимающего. Возможно, действительно, самого Всевышнего. И сердце её успокоилось.
Глава 6. Творчество
– Знаешь, что является самым большим грехом? – вдруг неожиданно спросил Платон по пути к трамвайной остановке.
– Интересно, что же? – равнодушно отреагировал я, захваченный врасплох таким вопросом.
– Не воровство, нет… И не измена. И даже не убийство. Самый большой грех – не реализовать то, что заложено в тебе от природы или от Бога, это кому как нравится…
Из разговора с другом
Обратный катарсис
Снежинок не было видно, но казалось, будто воздух наполнен мириадами тончайших иголочек, – они больно кололи руки, щёки, нос и вспыхивали разноцветными искрами в потоках жёлтого вечернего света. Мороз и вечер гнали в дома поздних прохожих, но у ярко освещённого входа старинного здания в самом центре Москвы было людно. Пританцовывая от холода, толпившиеся здесь дружно окружали каждого подходящего к парадным дверям и настойчиво спрашивали лишний билетик. Впрочем, подобные вопросы можно было услышать уже у ближайшей станции метро. Небольшой, но чрезвычайно уютный зрительный зал Дворца культуры Московского университета не смог вместить всех желающих послушать певицу, хотя и живущую в столице, но довольно редко появляющуюся здесь с концертами, и долго ещё после начала её выступления неудачники, так и не обретшие вожделенных билетов, безуспешно осаждали билетёров и непреклонного администратора.
В безумной круговерти эстрадного потока, захлестнувшего в последние годы радио, телевидение и концертные площадки, где не только лица, но и манеры и голоса многих исполнителей настолько похожи, что сливаются в одну сценическую маску, кажется, невозможно даже на короткое время остановить внимание на ком-то одном. Уж не говоря о том, чтобы сколько-нибудь долго проследить творческий путь этого артиста. И тем не менее есть в этом потоке удивительные исключения – подобные крохотному алмазу, странным образом попавшему в обрамление дешёвого кольца и неизменно привлекающему взгляд своим особым светом, изысканной огранкой. К ним относится народная артистка России Елена Камбурова, с одного из концертов которой я начал свой рассказ. Она вроде бы без шума вошла на советскую эстраду во второй половине шестидесятых, но сразу обрела свою аудиторию, и её концерты стали собирать полные залы от Москвы до Владивостока. Голос и исполнительская манера певицы, если человек хоть раз её слышал, узнаётся сразу же, будь то просто выступление по радио, песня за кадром в художественном фильме или детском киножурнале «Ералаш». Как однажды отметил мой приятель, пишущий об искусстве и, кстати, не являющийся поклонником Елены Антоновны, «её можно любить и не любить, признавать или нет, но одно о ней можно сказать совершенно точно – другой такой певицы на нашей эстраде нет!»
Когда я первый раз побывал на её концерте – произошло это в начале 80-х годов, – меня поразил список авторов песен и баллад, исполняемых Камбуровой: Марина Цветаева и Владимир Маяковский, Пабло Неруда и Фёдор Тютчев, Новелла Матвеева и Булат Окуджава, Владимир Дашкевич и Юрий Левитанский. Тогда такой репертуар на эстраде был не только интересен, но и вызывающе смел. Но Камбурова не могла изменить себе. Песни, которые она поёт, не из тех, под которые можно стирать и готовить обед, ругаться с женой и отчитывать ребёнка или просто спать, – они неизменно заставляют думать и волноваться, создавая редкое внутреннее состояние, когда работает мозг и дышит душа. И хотя репертуар и авторы постоянно меняются, эффект остаётся неизменным.
Рояль и гитара на сцене, разумное использование звуковых и световых эффектов – таков нехитрый и практически неизменный антураж выступления Камбуровой. Но главное – голос и душа певицы, благодаря которым и возможно то, что называется прекрасным звучанием песни, ради чего зрители приходят в зал. Какую бы песню она ни пела – известную и неоднократно слышанную в другом исполнении или совсем новую, – чувствуется колоссальная внутренняя работа, особый подход к каждой. Этот редкий союз – душа и голос – даёт возможность услышать в её песне звучание стозвонного колокола и почувствовать тоску цыганских напевов, увидеть мерцание свечи в окне и ощутить горьковатый запах черёмухи. Он позволяет счастливому слушателю и зрителю путешествовать во времени и пространстве, испытывать чувства неизвестных нам людей, заглядывать в неизведанные глубины собственной души.
Простите меня за некоторое отступление в мир искусства и несколько тёплых слов в адрес любимой певицы. Однако зачем я сделал это? Неизменный успех Камбуровой на протяжении десятилетий и её неповторимость говорят о ярком таланте, а что может быть интереснее, чем понять истоки этого дара? Одни утверждают, что он от Бога, другие – от природы, третьи – что он приобретается в процессе изнурительного ежедневного труда.
Всё это так, но в жизни певицы была ситуация, тяжелейшая для неё стрессовая ситуация, которая не только заставила страдать, но и подобно яркому лучу на короткое время рельефно высветила её духовный стержень. Но самое главное, что бывает очень редко, показала ей самой эту скрытую от многих собственную суть – экзистенцию, говоря языком философов.
Маленькая девочка Лена росла в небольшом провинциальном украинском городе Хмельницком в образованной, интеллигентной семье (папа – инженер, мама – врач). С самого детства очень любила слушать песни в исполнении популярных в те годы советских певиц Гелены Великановой и Майи Кристалинской. Ах, боже мой, сколько девочек мечтает в школе стать актрисами! Но кто из них потом становится ими? А уж выдающихся можно по пальцам пересчитать.
Уже в школе будущие актёрские интересы Лены Камбуровой определились совершенно чётко. И в десятом классе состоялось её первое публичное выступление, которое запомнилось ей на всю жизнь и, смею утверждать, в значительной мере определило будущее. Она готовилась к концерту, где в сравнительно небольшой сценке должна была произнести короткий монолог.
– Я не отношусь к числу людей, для которых не существует психологического барьера выхода к зрителю, – вспоминает сама Елена Камбурова давнее событие своей жизни. – Не каждому дано преодолеть его сразу. Готовясь к тому, первому моему выступлению, я, конечно, безумно волновалась. Всё, что я должна была сделать на сцене, было продумано и отрепетировано до мелочей. Меня можно было разбудить в любое время ночи, и я без запинки отбарабанила бы выученное. Но когда вышла на сцену, оказалась один на один с затихшим и глядящим на меня сотней глаз залом, одна на ярко освещённой сцене, на меня вдруг напало нечто совершенно мне незнакомое и непонятное до той поры. Я впала в настоящий шок, при котором я вроде бы всё видела, всё понимала – в том числе и то, для чего я на сцену вышла, – но абсолютно ничего не могла с собой поделать. Он буквально парализовал меня, я так и не смогла произнести ни слова из подготовленного и тщательно отрепетированного монолога и в слезах покинула сцену, такую желанную для меня, но сыгравшую со мной столь страшную шутку. Трудно сказать, что подумали тогда зрители, но я отчётливо вдруг поняла удивительную и неизвестную мне доселе вещь: выход на сцену – это величайшая ответственность! Ведь ты занимаешь у людей время, ты обязан им сказать нечто такое, чего они не знают, и сделать это ты обязан как можно яснее. Именно для этого и выходишь туда. Конечно же, излишняя ответственность может сослужить и двоякую службу – часто она серьёзно мешает, – но по прошествии стольких лет после того памятного моего выступления я всё равно глубоко убеждена, что ответственность перед зрителем должна существовать у любого артиста. Подобно фундаменту, без которого самый красивый дом может быстро рухнуть…
Как один вздох, как короткое мгновение пролетают полтора-два часа концерта Елены Камбуровой. И когда затихает заключительный аккорд, растворяется в тишине зала последняя нота, долго не можешь выйти из удивительного мира её песен, где всё так живо и волнительно, и лишь громкие аплодисменты восхищённой публики возвращают тебя к действительности.
Так шокирующее событие в далёкие школьные годы, принесшее девушке, мечтающей стать артисткой, большие переживания и страдания, чудесным образом подействовало на формирование её отношения к будущей профессии. И установило планку, ниже которой Лена не позволяла себе опускаться никогда. Есть у психоаналитиков такое понятие – «катарсис». Это когда человек, переживший в прошлом какое-то тяжёлое, стрессирующее событие и получивший из-за него нервное расстройство (причём зачастую он не осознаёт их связь), вводится врачом с помощью гипноза (или каким-то другим способом) в то, прошлое состояние, заново его переживает, очищается таким образом и освобождается от нервного расстройства. Так вот у Камбуровой произошло нечто, что можно назвать «обратным катарсисом», – она сначала, в юношеском возрасте бурно пережила то, что, как правило, испытывает каждый артист перед выходом на сцену, а потом это её первое переживание стало прекрасным и организующим ориентиром в последующей профессиональной работе на сцене. Понятно, здесь никакой психоаналитик не требуется, поскольку этот катарсис идёт на пользу и артисту, и зрителю. И никакого вреда психическому здоровью человека он не несёт.
Ситуация, между прочим, нередкая, а для людей творческих профессий являющаяся довольно частой. Им время от времени просто необходимо испытывать какие-то сильные стрессы, дающие всплески ярких эмоций (из бытовой, личной или профессиональной сферы), чтобы сохранять в себе ощущение остроты жизни и возможность творить. Мне довелось познакомиться с необыкновенным учёным, автором большого открытия, который не только не мог существовать и работать без подобных ситуаций, но и, на мой взгляд, сам себе создавал, когда их не хватало.Вызов
Всё, связанное с человеком, о котором я хочу сейчас рассказать, – научная деятельность, общение с коллегами и другими людьми, личные отношения, сама его жизнь – оставляет непреходящее ощущение парадокса и звенит, а порой и рвётся, как запредельно натянутая струна при малейшем прикосновении. Известно, что люди, занятые творчеством, – художники, писатели, музыканты, учёные – существуют порой как бы в особом, отличном от окружающего мире. Живут по другим законам, а порой будто бы в других пространственных и временных измерениях. Но я и представить себе не мог, что это может принимать такие запредельные размеры.
Отлично помню, как летом 1986 года мой шеф Олег Мороз, заведующий отделом науки «Литературной газеты», где я в то время работал, пригласил меня к себе и в свойственной ему внешне равнодушной манере (как бы между прочим) бросил:
– Тут есть один учёный – зовут Меклер… Э-э-э… Лазарь Борисович Меклер. Он сделал, как утверждают некоторые, какое-то открытие в области молекулярной биологии… Съезди поговори с ним, разберись, что к чему. Ты же по образованию биолог – может, получится статья. Запиши телефон…
Мой первый визит в квартиру-лабораторию Меклера в июле того года врезался в память, как осколок разорвавшейся гранаты врезается в живую плоть и если не убивает наповал, то оставляет неизгладимый след на всю жизнь. Жильём это восемнадцатиметровое помещение можно было назвать только потому, что пятерым его обитателям (кроме Лазаря Борисовича и его подруги-соратницы, соавтора Розалии Идлис, здесь проживали трое их несовершеннолетних детей) приходилось в нём и есть, и спать, и играть.
Но главным здесь всё же была работа. О ней сразу заявляли громоздящиеся под потолок самодельные шкафы-полки: с журналами, книгами, оттисками статей из научных журналов, опубликованными и ждущими своего часа рукописями; объёмными моделями различных белков человека и животных, растений и простейших, микроорганизмов и вирусов. Бумажные и пластмассовые, из проволоки и картона, самодельные и изготовленные из моделей атомов зарубежного производства, собранные руками двух хозяев этой необычной лаборатории – «лаборатории теоретического естествознания», как назвали они её сами. Уверен, подобной не найти нигде в мире. К тому времени Лазарь Меклер более пятнадцати лет работал в ней, не пользуясь никакой организационной и финансовой поддержкой официальных научных учреждений.
Однако ещё более поражала не столь странная обстановка для научной работы, а то, над чем работает этот человек и его соратница, достигнутые ими результаты. Не могу забыть, как на протяжении почти семичасового изложения идей и положений концепции, разработанной Меклером, в моём сознании попеременно вспыхивали только две полярные мысли:
– Я слушаю речь безумца.
– Нет, это идеи великого мыслителя, подобного Леонардо, Циолковскому или Эйнштейну, который появляется один в столетие.
На острие этих противоречивых впечатлений, признаюсь, я пребываю порой и поныне, когда думаю о Меклере и вспоминаю свои встречи с ним, хотя учёного этого уже нет в живых. Ну как следует понимать человека, который совершенно свободно чувствует себя не только при обсуждении вопросов молекулярной биологии, где он является первоклассным профессионалом, но и в таких областях, как, например, космология или современная политическая и военная обстановка в мире?!
Непривычный к такому напору интереснейшей и специализированной информации, какую обрушил на меня Лазарь Борисович в первую же встречу, я уже к четвёртому часу нашей беседы начал испытывать сильнейшую усталость и головную боль от потребовавшегося предельного умственного напряжения, чтобы хоть как-то понимать излагаемое моим собеседником. А когда под вечер покидал лабораторию, то голова у меня просто раскалывалась от колоссального объёма впитанного за прошедшие часы необычного материла. Я думал, что далее у меня закономерно возникнет чувство отвращения ко всему, связанному с Меклером, – такое бывает, когда в тебя подолгу пытаются вбить бредовые идеи, – но случилось совершенно противоположное. Ближе к ночи я вдруг ощутил, что голова моя заработала так, как не работала никогда раньше. Изложенное Меклером будоражило, заставляло снова и снова возвращаться к нему, я почти физически ощутил, как моё мышление начало работать совсем по-иному, по-настоящему. Наступило какое-то просветление в сознании, и мне снова захотелось увидеть этого человека и слушать, слушать его дальше. Наши встречи и разговоры продолжились.
Физико-химик по образованию (он с отличием окончил химический факультет МГУ, одновременно начал учиться и на биологическом, но этому помешала война), он с первых дней своей научно-исследовательской деятельности задумался над такими «простенькими» вопросами, как «Чем живой мир отличается от неживого?» и «Каково предназначение во Вселенной жизни вообще и разумной жизни в частности?». И поиск ответов на них сделал делом своей жизни, бросив, таким образом, первый серьёзный вызов окружающей нас природе, важнейшим тайнам мироздания.
В середине 80-х годов человечество впервые всерьёз столкнулось со СПИДом, справедливо названным «чумой XX века», и Меклер взбудоражил всех заявлением о возможности создания лекарства против этого страшного заболевания на основе разработанной им оригинальной теории и технологии получения принципиально новых синтетических вакцин. Но даже это на фоне фундаментальных вопросов бытия, которыми занимался Меклер, выглядело каким-то мелковатым делом. Однако и его было вполне достаточно, чтобы воскликнуть: «Блеф! Такое может утверждать разве что сумасшедший», – до такой степени это казалось тогда невероятным.
Ирония судьбы: первая его опубликованная в «Докладах АН СССР» статья, посвящённая выяснению природы тяжелейшего психического заболевания, шизофрении, и давшая начало всей будущей теории, вышла… из Института психиатрии АМН СССР. А вскоре он, автор статьи «Механизм биологической памяти» в престижнейшем английском научном журнале «Нейчур», где развивалась и обобщалась та же проблема, получил лестное предложение из США написать на эту тему книгу в серии «Пионеры психиатрии».
Но что же такое сделал Меклер?
Подробный рассказ о его открытии, позволяющем заглянуть в самые сокровенные тайны живого, не является здесь главной моей целью – это тема для отдельной захватывающей книги, – потому ограничусь самым малым, без чего не обойтись. Начав свои работы в середине 50-х годов XX века и продолжая их с 80-го года в соавторстве с математиком-программистом Розалией Идлис, он, по-видимому, сделал крупнейшее открытие в естествознании. В поисках законов, по которым из малых органических молекул, самопроизвольно возникавших на молодой Земле при переходе её из химической стадии в биологическую, появились живые клетки, а затем и многоклеточные организмы (в итоге – Человек разумный), они открыли общий закон, управляющий этим уникальным процессом, – его общий код. Согласно ему природа из малых молекул (нуклеотидов, аминокислот, сахаров, жиров и других) строит ДНК, РНК, белки, другие биологические полимеры и их комплексы друг с другом. И согласно этому же коду названные компоненты любых живых клеток и организмов функционируют, взаимодействуют друг с другом и прочими веществами. Авторы назвали его «общий стереохимический – генетический – код».
Созданная Меклером (в соавторстве с Идлис) на основе открытого кода теория есть, по его мнению, не что иное, как проявление совокупности законов, по которым природа строит живые организмы и согласно которым они существуют. С известными законами физико-химической биологии и всей биологии эти законы соотносятся примерно так же, как общая теория относительности, разработанная А. Эйнштейном, соотносится с законом Всемирного тяготения И. Ньютона.
Утверждения эти столь серьёзны и претендуют на такое место в науке, что впору воскликнуть: «Экая самоуверенность! А где достоверные подтверждения, что так оно и есть?»
Ну, во-первых, для безоговорочного принятия принципиально новых научных теорий требуется время, иногда весьма значительное. Тут следует вспомнить, что и Эйнштейн, выдвинув положения своей знаменитой теории, не мог априори утверждать, что всё в ней верно. Он и Нобелевскую премию, между прочим, получил формально за менее известные и значимые открытия законов фотоэффекта и «теоретические исследования в области физики», – и это только потому, что далеко не все учёные приняли тогда теорию относительности. Во-вторых, единственным критерием справедливости любой теории на стадии её выдвижения и обсуждения может быть лишь научная добросовестность и авторитет автора. Что касается добросовестности, то даже противники идей Л. Меклера не ставят её под сомнение. О научном же его авторитете говорили публикации учёного. Более полутора сотен теоретических научных статей в нашей стране и за рубежом, в том числе и восемь публикаций в самом, пожалуй, престижном для учёных журнале «Нейчур», в котором помещаются только открытия и гипотезы фундаментального характера и результаты сугубо оригинальных, ключевых экспериментальных исследований.
Имелось ещё одно поразительное и весьма существенное доказательство научной состоятельности Меклера. Это положительные отзывы, написанные известными отечественными учёными, побывавшими в его надомной лаборатории и детально ознакомившимися с ведущимися здесь работами. Я позволю себе привести лишь один, выбранный практически наугад, подписанный директором института Молекулярной генетики, доктором физико-математических наук, профессором МГУ М. Мокульским:
«Со времени возникновения нынешних представлений о молекулярной природе жизни существует вопрос о том, как линейные макромолекулы «сворачиваются» в свою специфическую пространственную форму и как из них собираются надмолекулярные комплексы. Очевидно, что разрешение этого вопроса означало бы огромный прогресс в науке о жизни, её происхождении, дало бы огромные возможности управления процессами биологической самосборки. Л. Меклер и Р. Идлис в течение многих лет исследуют эту важнейшую проблему… Как член одной из прошлых Комиссий (созданной Академией наук СССР в 1985 году), я знакомился с этими работами, неоднократно говорил о них с авторами и могу считать, что имею некоторое представление о них, об истории вопроса и о нынешнем положении дел. Считаю, что в этих работах содержатся чрезвычайно интересные идеи и получены важные результаты. По масштабу рассмотренных задач и перспективам эти работы сильно выделяются на общем фоне сегодняшних работ по молекулярной биофизике… Л. Меклер и Р. Идлис проделали огромную работу и смело сформулировали несколько общих принципов, управляющих, по их мнению, на молекулярном уровне процессами биологической организации. Уже одно это делает их исследования ценными даже в том случае, если те или иные конкретные утверждения окажутся неверными».
Эти отзывы, числом перевалившие за сто, после ознакомления с идеями и работами Меклера читаются как увлекательное научное и фантастическое произведение одновременно. Фантастическое – поскольку многие положения теории непринуждённо опровергают существующие догмы молекулярной биологии, генетики и смело устремляются в далёкое будущее; научные – потому что многие их теоретические предсказания уже подтверждены результатами экспериментов у нас и в мире. Под отзывами стоят подписи известных в своих областях науки учёных: генетиков и биохимиков, иммунологов и вирусологов, биофизиков и молекулярных биологов, химиков, физиков и других. Как в чудесном калейдоскопе мелькают имена, должности, звания: старшие и главные научные сотрудники, заведующие лабораториями и директора институтов, кандидаты и доктора наук, профессора, члены-корреспонденты и академики большой и медицинской академий, отечественные и зарубежные учёные. Феерическая картина!
Поражённый ею, я спросил тогда у Меклера полушутя-полусёрьезно:
– А не обладаете ли вы талантом гипнотизёра? Зазываете к себе учёных – и тут им сеанс внушения!
– Единственный наш гипноз вот в чём! – совершенно серьёзно воскликнул мой необычный собеседник и начал извлекать из шкафов и красочной коробки из-под тульского самовара нечто свёрнутое из разноцветных бумажных и проволочных лент и витиевато закрученное. – Это модели трёхмерных молекул белков инсулина, рубредоксина и двух белков-регуляторов считывания ДНК, только лишь четыре из многих десятков, построенных мною и Розалией Григорьевной вручную, согласно открытому нами коду.
В конце XIX века Ф. Энгельс дал такое блестящее определение: «Жизнь – есть способ существования белковых тел…» Здесь же, в этой маленькой однокомнатной квартире, двое учёных в совершенно неподходящих для серьёзных научных исследований условиях и плохо подходящих вообще для жизни сделали смыслом своего существования раскрытие тайны этих самых белковых тел. Тайны взаимодействия друг с другом тех главных кирпичиков жизни, к разгадке которой молодая наука – молекулярная биология, возникшая с открытием Уотсоном и Криком законов построения двойной спирали ДНК, и по сей день не может подобрать ключ. А они его подобрали! Используя открытый ими код, можно, например, всего за несколько дней получить модель объёмной структуры практически любого белка. Кстати, на такую же работу в лучших лабораториях мира и с применением самого совершенного метода рентгеноструктурного анализа тратятся месяцы интенсивной работы!
– Эти модели динамических макромолекул биологических соединений, строящиеся согласно нашему коду и разработанной на его основе теории, – увлечённо объяснял мне Лазарь Борисович, – не только показывают всю трёхмерную структуру белка. Они позволяют нам на атомно-молекулярном уровне понять, как в организме работают настоящие молекулы белков: ферменты, гормоны, антитела (белки, одна из важнейших функций которых – защита организма от инфекционных агентов), другие соединения, и увидеть, как движутся рабочие узлы и детали этих биологических микромашин. Ещё – как и почему в процессе их жизни изменяется их форма, откуда и каким образом подводится энергия, необходимая для работы, и как она трансформируется из одной формы в другую. А также – как и почему в ответ на требования, предъявляемые живым организмам средой их обитания, включаются, выключаются, размножаются или, наоборот, вырезаются за ненадобностью гены, кодирующие эти белки…
Вот это и есть тот самый гипноз, вернее шок, которому сотрудники лаборатории теоретического естествознания подвергали своих посетителей-оппонентов. А далее следовала увлекательнейшая многочасовая научная лекция, которую Лазарь Борисович читал пришедшим. Читал с удивительным для 66-летнего человека юношеским задором и эмоциональностью, но со строгой аргументацией и последовательностью. Единственная плата, которая взималась со слушателей, – написать своё мнение об услышанном и увиденном, независимо от того, положительное оно или отрицательное. Так набралось несколько толстых папок с отзывами. Любопытно, что замечания оппонентов незамедлительно шли в дело – они служили для корректировки работы исследователей, которые считали своим долгом внимательно разобраться в любых замечаниях, если они достаточно аргументированны, и учесть их в дальнейшем.
Всё это я рассказываю только для того, чтобы стало понятно: в России во второй половине XX века Лазарем Меклером (в последние годы в соавторстве с Розалией Идлис) было сделано крупнейшее открытие в области естествознания – открытие, намного опередившее современную науку, позволяющее по-новому взглянуть на процессы жизни и ведущее к совершенно фантастическим практическим результатам. Получи он тогда возможность широкомасштабных работ на государственном уровне, возможно, мы уже имели бы эффективные вакцины против гриппа, рака, СПИДа и многих других вирусных заболеваний.
Сейчас этого учёного, переехавшего в середине 90-х годов в Израиль, уже нет на этом свете. Трудно точно сказать, когда наступит момент готовности человеческого и научного общества к пониманию и признанию его идей. Но независимо от этого чрезвычайно интересно и познавательно проследить, как в полностью тоталитарной коммунистической стране – Советском Союзе, где главной функцией государственной системы было подавление личности, стало возможным такое открытие, в фундаменте которого лежит именно максимальное творческое проявление особенностей гениальной личности.
Итак, как я уже и говорил, вся научная деятельность Лазаря Меклера – как, впрочем, и вся его остальная жизнь – состоит из глубочайших парадоксов и необъяснимого с общепринятых позиций. Он был лишь старшим лаборантом, а труды его печатались в знаменитом английском «Нейчуре» (до страниц журнала тут доходит один из ста присланных материалов, а написанные в СССР вообще появлялись считаные разы в год). Известные советские учёные ещё в середине 50-х годов оценивали его диссертационную работу как крупное научное событие, как труд, намного превосходящий уровень докторской диссертации, а он подходил к своему 70-летию только со степенью кандидата наук. На публикации Меклера поступили из-за рубежа тысячи запросов, а он, продолжая интенсивно работать, не печатался к 1987 году более пяти лет. В чём тут дело?
– Он сумасшедший, – говорили одни.
– Гений, – заявляли их оппоненты.
И те и другие, полностью подтверждая моё первое представление о Меклере, приводили веские аргументы в свою пользу, но никто не обвинял учёного в некомпетентности или шарлатанстве, хотя наряду с самыми восторженными отзывами встречались довольно осторожные и даже активно неприязненные оценки. Что ж, сомнения и противоположные взгляды – нормальное дело в научном мире, но при чём же здесь практически полное выключение неординарного учёного из научной жизни целой страны?
Весь трагизм ситуации в характере Меклера, – объясняли мне знающие все тонкости этой необычной истории учёные, – максималистском, колючем, нетерпимом. В его полном неумении быть дипломатом хотя бы иногда. Он мог принести в солидный научный журнал статью объёмом в 50 страниц и, когда её с радостью принимали, наотрез отказаться, поскольку для печати требовалось не более 10 страниц, а он не желал поступиться и строкой. Работая в Онкологическом центре АМН СССР, мог без раздумий на представительном учёном совете во всеуслышание заявить, что завлаб Н. «даром штаны протирает и за 10 лет ничего путного в науке не сделал». Мог задержать летом намеченный отпуск своим подчинённым только потому, что заканчивался важный многолетний эксперимент, и сотрудники (включая и его самого) работали у него до ночи. Не всем, естественно, это нравилось.
Неудобные люди. Неуживчивые, создающие напряжённость в коллективах и большие неудобства для начальников и чиновников, – как борются порой с ними, как упорно стараются переделать или, если не получается, выжить! Прекрасно зная, что личности неординарные, занятые лишь своим делом, полностью ему отдающиеся и считающие его самым важным ни свете, не умеют и не желают ни притворяться, ни лицемерить, ни лавировать. И поэтому в конце концов, несмотря на их отчаянное сопротивление, от них всё же избавляются. Ибо в закулисной борьбе, в подлых служебных интригах такие действительно более всех уязвимы. А избавившись наконец от такого неугодного, вздыхают с облегчением, успокаивая себя и окружающих тем, что, мол, общее дело от этого только выиграло, а незаменимых не бывает.
Бывает! Такова диалектика таланта: с ним и вправду нелегко работать бок о бок, но без него теряется то главное в науке, чего не может восполнить и целый батальон посредственностей, послушников, – творчество, свободный полёт фантазии одарённого человека. Лазарь Борисович Меклер был именно таким человеком.
В начале 1975 года ему всё же пришлось окончательно уйти из Онкологического центра АМН СССР, где он в то время работал. Уйти в результате умело организованной кампании по жалобам недовольных подчинённых – тех самых, которым он в интересах важного эксперимента задерживал отпуск. Он попытался сопротивляться, его поддержали и некоторые учёные – возник скандал, в результате которого Меклер был восстановлен на работе приказом аж самого президента медицинской академии наук. Однако неуживчивый учёный настолько допёк руководство центра, что от него решили избавиться любым способом. Президенту подчинились, уволенного восстановили в должности, но поставили условие: или он полностью отказывается от продолжения работ в прежнем направлении – в области биологии опухолей и биологии вообще – и будет заниматься только прикладной органической химией, или уходит из Онкологического центра по собственному желанию (и, намекали, – из науки вообще). И это притом, что помимо решения президента АМН было принципиальное согласие Госкомитета по науке и технике Совмина СССР не только финансировать продолжение его исследований в прежнем направлении, но и поддержать в прикладном плане: расширить их для завершения начатой работы по получению злокачественных клеток – продуцентов биологически активных, лечебных препаратов, в том числе и антител. Не финансировали, не поддержали, не расширили. Эти самые антитела в скором времени были получены за рубежом и названы гибридомами, за них получили Нобелевскую премию. А Меклеру и впрямь пришлось выбирать.
Что сделал бы на его месте обычный человек? Впрочем, вопрос-то некорректный, поскольку обычный, нормальный с общепринятых позиций человек, до такого вряд ли довёл бы: он либо покорно согласился бы на предложение руководства, сохранив место, либо перешёл бы в какое-то другое, аналогичное учреждение. Но бросить начатое в самом конце пути, да и вообще бросить начатое, да ещё и под чьим-то давлением – это было для Меклера страшнее физической смерти. Скандальная же его слава и информация о предельно неуживчивом характере, прокатившаяся по всем профильным научным учреждениям, не давала особых перспектив на получение соответствующих условий для работы в московских институтах. И Меклером было найдено третье – как всегда в науке, нетривиальное новое решение. Организация собственной теоретической лаборатории у себя дома.
Надо сказать, что схватки до клинча с официальной наукой не ограничивались крайним обострением отношений с отдельными руководителями институтов и завлабами. К этому времени Лазарь Борисович имел не менее шокирующий опыт столкновения со всем тем, что можно назвать ёмким словом «официальная партийная советская наука», – сложной и изощрённо устроенной системой субординации, распределения благ, степеней, заслуг и признаний в существующей в стране научной сфере.
Он увлечённо и чрезвычайно плодотворно работал над интересующими его проблемами биологической науки в Институте вирусологии АМН СССР. Появлялись многочисленные публикации в стране и за рубежом. Иностранцев, приезжающих в институт, неизменно вели в лабораторию, возглавляемую Меклером. Но при всём этом внешнем успехе он оставался лишь старшим лаборантом или неостепенённым младшим научным и формально не мог возглавлять серьёзный научный коллектив, которым фактически руководил. И вот кому-то из руководства надоело постоянно выкручиваться из этой организационной проблемы, и Меклера решили наконец подпустить к желанной и заветной для многих кормушке научных степеней – не надо забывать, что получение в то время кандидатской степени в нашей стране означало автоматическое, чуть ли не вдвое, повышение зарплаты сотрудника, ну и престиж, конечно.
– Почему бы вам, Лазарь Борисович, не защитить кандидатскую диссертацию, – сказали как-то в доверительной беседе, – пора уже. Да вам и работу отдельную писать не надо, можете защищаться по списку научных публикаций – вон сколько их у вас набралось.
Меклер никогда не ставил получение степени во главу угла своей научной деятельности – ни сопутствующий ей материальный достаток, ни соображения престижа. Его более волновало и интересовало то, над чем он в данный момент работал, – полученные в эксперименте результаты и вытекающие из них выводы. Однако и он всё более ощущал организационные неудобства от отсутствия у него степени. Ну а коли уж сами предложили, то почему бы не сделать это не такое уж трудное дело? Но Меклер не был бы Меклером, если бы не подошёл к этому по-особому, творчески. Окинув взглядом и впрямь внушительный список собственных научных публикаций, он задумался:
– А с какой стати я должен этак халтурно получать высокое звание кандидата наук? Как это я могу подавать на степень просто список работ – что же скажут по этому поводу коллеги-учёные?! Не дело это.
И он решил сделать на основании всех своих работ действительно научное исследование: с постановкой задачи, экспериментальной частью, полученными выводами и сформулированной концепцией – благо всё необходимое уже было в его публикациях и потребовалось лишь немного поработать головой, обобщив сделанное и дав свободу творчеству. В результате такой недолгой работы получилась столь оригинальная диссертация, что когда её прочитали квалифицированные рецензенты – а среди них были весьма уважаемые и известные представители различных направлений молекулярной биологии, – то чуть ли не в один голос заявили: «Эту работу нельзя заявлять как кандидатскую! Каждая из её глав – это отдельная… докторская. Поэтому мы подписываемся под ней как под докторской диссертацией». С этим документы и ушли на утверждение в ВАК.
И дальше произошло нечто, не укладывающееся в русло нормальной логики, но в то же время именно то, что и должно было произойти с талантливой работой незаурядного учёного в тогдашнем советском обществе. Видимо, кто-то на самом верху официальной партийной науки, где главное место занимали вовсе не истинные успехи, а умение находить общий язык с сильными мира сего и делиться с ними своими достижениями, понял все последствия практического официального признания действительно выдающегося учёного. Да ещё столь нетерпимого к косности и бюрократизму, не боящегося сказать, всё, что он думает в любой обстановке и любому оппоненту. В общем, где-то в высших эшелонах советской науки Меклеру решили не давать хода и подальше задвинуть его ещё до того, как он приобретёт официальный авторитет, соответствующий его высокому научному уровню. Можно практически безошибочно назвать и главных действующих лиц того подлого действия, но, во-первых, многих из них нет уже в живых, а во-вторых, не это является здесь главным.
Главное то, что в итоге всех этих мерзостей и подлостей Меклер не получил заслуженной им и несомненно соответствующей его уровню степени доктора наук. Не получил, несмотря на успешную защиту своей работы сначала в 1969 году в Институте биофизики АН СССР, а затем трижды по трём специальностям в самом ВАКе – на двух из трёх его соответствующих экспертных комиссиях и на пленуме ВАКа. Не получил, несмотря на протест большой группы видных учёных, среди которых были три лауреата Государственной премии, два – Ленинской, члены-корреспонденты, академики двух академий СССР. Видно, кому-то очень не хотелось давать Меклеру зелёную улицу в науке. Самое поразительное в той истории, что он не получил и степени кандидата наук: его высокопоставленные недоброжелатели воспользовались формулировкой в официальных документах, поданных в ВАК, о присвоении ему докторской степени и решили ударить наповал – не давать Меклеру вообще никакой научной степени. Таким образом, после всех лестных заключений рецензентов о его выдающейся диссертационной работе, всех надежд о реализации больших научных планов в новом качестве он остался всё тем же старшим лаборантом: с той же крохотной зарплатой, да ещё с неприятным клеймом зарубленного ВАКом соискателя научной степени.
Жуткая ситуация для учёного. А вкупе с активными действиями руководства Онкологического центра по выживанию его с официальной службы – вообще запредельно жуткая. Впору запить или наложить на себя руки. Или всё-таки сдаться на милость победителей и начать наконец играть по их правилам. Но не таков был Лазарь Борисович Меклер – учёный, служивший в первую очередь Её Величеству Науке, познанию истины! Как я уже говорил, он нашёл совершенно неожиданное решение – громко хлопнув дверью на официальной службе, продолжил начатые работы у себя дома, в созданной им собственной лаборатории теоретического естествознания. Причём не только сохраняя, но ещё и существенно расширяя область исследований в выбранном направлении науки – изучении процессов химико-биологического узнавания. К этому времени он имел огромный опыт практической работы, который давал учёному солидный задел для теоретических исследований.
Таким образом, Меклер бросил очередной вызов – на этот раз существующей в стране научно-организационной системе, которая нанесла ему такой подлый удар. Правда, материальное обеспечение – 63 рубля в месяц его военной пенсии (третья группа инвалидности, а на вторую не хотел переходить, поскольку ещё надеялся на возврат к научной работе в институте) – позволяло лишь небольшие добавления к воде и хлебу. Но это невесёлое обстоятельство ничуть не сказывалось на научной продуктивности, и результаты последовали очень быстро.
В 1976 году вышли статьи, посвящённые завершению экспериментов по проверке справедливости собственной общей теории онкогенеза, в журнале АН СССР «Онтогенез». Статьи «Опухоль – помощник врача: о возможности использовать злокачественные опухолевые клетки для получения лекарственных веществ» и популярное изложение этой теории в статье «Что такое опухоль?» – напечатаны в журнале «Химия и жизнь». Статьи «Теория дифференцировки – развития – многоклеточных организмов» и «Почему и для чего мы спим?» (теория сна) были опубликованы соответственно в академических журналах «Онтогенез» и «Физиология человека».
В 1977 году появилась статья «Теория интерферона» в «Журнале общей биологии» АН СССР. Статья «Общая теория иммунитета» была направлена в английский журнал «Нейчур» – оттуда пришло предложение сократить её до 900 слов, но было категорически отвергнуто автором. Одновременно статью отправили и в наш академический журнал «Биофизика», где она была напечатана в итоге на двух языках. Статья «Опыт общей теории онкогенеза», обобщающая результаты проведённых экспериментов и дальнейшее развитие теории этого страшного заболевания, напечатана в академическом журнале «Успехи современной биологии».
В 1978 году вышла статья «Механизм образования опухолей с позиций общей теории онкогенеза» в «Успехах современной биологии», а также статья «Теория происхождения жизни» – в журнале президиума АН СССР «Вестник АН СССР», в разделе «На переднем крае науки».
В 1979 и 1980 годах Меклер организовал два специальных выпуска «Журнала Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева», посвящённых происхождению жизни и эволюции. Здесь главной его целью стало сопоставление собственных решений этих проблем с позиций открытого «общего стереохимического – генетического – кода» со взглядами виднейших советских и зарубежных учёных.
Вслед за этим началась интенсивная совместная работа по дальнейшему развитию открытого уже им универсального биологического кода с Розалией Идлис, которая, помимо профессиональных знаний из области математического программирования в их общую научную работу, привнесла в его жизнь новые семейные заботы, а в общий семейный котёл – небольшую зарплату инженера-программиста проектного НИИ. К 1987 году помимо себя им надо было кормить ещё и троих общих несовершеннолетних детей. Уму непостижимо, как в таких условиях мог работать человек. Ведь и доступа в научные библиотеки он был лишён, и на симпозиумах, научных конференциях мог выступать только по особой милости организаторов, а единственной формой контакта с научным миром стало приглашение коллег к себе домой да общение с некоторыми из них по телефону. Правда, сочувствующие учёному друзья постоянно снабжали его оттисками последних научных статей по специальности.
Происходило это так. Раза два в неделю к нему домой привозили хозяйственную тележку со статьями. Меклер внимательно всё прочитывал, делал необходимые выписки, просил знакомых что-то скопировать, а потом возвращал обратно. Поступившая новая информация по биохимии, молекулярной биологии или генетике тут же шла в дело. Мозг Меклера обладал удивительной способностью держать огромный объём всевозможных фактов, гипотез, результатов экспериментов и постоянно использовать все их в анализе, размышлениях и выводах. Правда, всё это делалось в перерывах между приходами и уходами детей, научными и бытовыми спорами с Розалией Григорьевной, какими-то напряжёнными выяснениями отношений по телефону с тем или иным коллегой. А может, делалось одновременно – кто их поймёт, этих гениев. Но делалось! И как делалось! Похоже, что умопомрачительная, экстремальная обстановка, которую он отчасти сам себе создал, на научной продуктивности совершенно не сказывалась. Или, наоборот, сказывалась самым продуктивным образом!
Мне довелось относительно близко познакомиться с Лазарем Борисовичем в пору его глубокого отхода от официальной науки и на собственном опыте ощутить его нетерпимость, колючесть и максималистский характер. Итогом наших долгих бесед стала, как и планировал мой редакционный шеф, обширная статья о нём и его открытии. Я, как и положено в таких случаях, давал её учёному на просмотр для согласования, но он всё время пытался что-то добавить в моё произведение. От этого статья разрасталась до невообразимых размеров, но, главное, она всё более начинала походить не на журналистскую работу, а на какой-то заумный научный трактат, который я и сам едва уже понимал. Я начинал сопротивляться, убеждать его в неверности подхода, он продолжал гнуть своё. В итоге доходило до того, что мой герой, раскричавшись, швырял мне в лицо очередной её вариант, а я, громко хлопнув дверью, уходил в полной уверенности, что больше этим заниматься не буду и никогда сюда не приду. Но… проходило два-три дня, мы созванивались, встречались как ни в чём не бывало и продолжали свою работу. В итоге статья всё же вышла в свет (правда, не в моей «Литературке» и несколько в иной редакции, но вышла), и блокада молчания вокруг Меклера была наконец прорвана.
По аналогичному сценарию, насколько мне известны отдельные подробности его жизни, развивались и отношения с некоторыми другими людьми, с которыми Меклеру доводилось когда-то работать. Правда, в тех случаях период осознания растягивался на более длительный срок. Во время подготовки статьи и проведения мною разностороннего исследования жизни этого необычного человека мне пришлось поговорить с одной из тех его подчинённых, кому он в бытность работы в Онкологическом центре АМН СССР задерживал отпуск во время ответственного эксперимента и кто был использован руководством для увольнения Меклера. Её просто попросили написать заявление с жалобой на противозаконные действия завлаба. В разговоре со мной она не скрывала, что сделала это. А потом, после некоторого молчания, вдруг сказала каким-то совершенно неказённым, доверительным тоном:
– Вы знаете, теперь, по прошествии стольких лет, когда мне довелось поработать в разных местах с разными людьми и многое увидеть, я могу сказать, что период работы с Меклером был самым счастливым в моей жизни. Ибо именно тогда, под его руководством я занималась настоящей наукой. Я глубоко сожалею, что была втянута в ту неприличную и грязную историю и от всей души желаю, чтобы у Лазаря Борисовича всё было хорошо…
Я уверен, Меклер прекрасно понимал, что люди совершали подлости не по сути своей, не по зову души, а просто их ставили в такую ситуацию, когда, подневольные, они не могли поступить по совести, и он не таил на них зла. Хотя, конечно, подобные истории мало кому могут добавить энтузиазма. Но по большому счёту бороться ему приходилось с существующей в стране порочной и гадкой научной системой и её руководителями. И тут действительность являла куда более гнетущие примеры.
В науке хорошо известно, что единственным критерием справедливости любой теории является подтверждение её положений в эксперименте. Теория Меклера имела немало блестящих и порой самых неожиданных проверок её на практике, но одна из них заслуживает особого внимания. Связана она с участием в судьбе Меклера и Идлис известного учёного, тогдашнего заместителя директора по науке академического института Биоорганической химии имени Шемякина, члена-корреспондента АН СССР Вадима Иванова.
В момент моего обращения к нему он и слышать ничего не хотел о Меклере, а было время, когда активно общался с ним, помогал делать копии нужных ему статей из зарубежных научных журналов, подолгу обсуждал с ним его оригинальные научные идеи. И вот после двух лет знакомства с Меклером, во время одного из визитов уважаемого членкора в домашнюю лабораторию учёных, когда они дали исчерпывающие ответы на очередные десятки вопросов гостя, произошёл примечательный разговор.
– Крыть нечем! Убедили, – подвёл итог член-кор респондент АН СССР Вадим Иванов.
– Что же будем делать, что будем делать с нами? – с надеждой вопросили хозяева, наивно полагая, что наконец-то их титанический и самоотверженный труд будет вознаграждён и вот сейчас решится их судьба.
– Альтруистов не найдёте, – был ответ.
Быть может, именно это и есть главный ответ на вопрос: «Почему выдающееся открытие Меклера не получило права на официальную жизнь в Советском Союзе?». Понимай его так: каждый занят разработкой своей собственной научной жилы и кому охота горбатиться на чужого дядю – вот если бы что-то с этого получить…
Однако в Вадиме Тихоновиче ещё оставались какие-то зародыши порядочности и научного долга. Он решил доложить обо всём своему всесильному тогда шефу, академику Юрию Овчинникову (скончавшемуся от того самого рака, противоядие к которому сулили практические разработки теории Меклера), но прежде пожелал получить какие-то убедительные экспериментальные данные. Тогда Лазарь Борисович, выяснив что научный коллектив В. Иванова многие годы бьётся над созданием вакцины против тяжёлого заболевания крупного рогатого скота – ящура, поколдовал над ней дня три с помощью своей теории. И по прошествии этого времени продиктовал ему по телефону структуры трёх белковых соединений, которые, по его мнению, следует синтезировать и испытать в эксперименте, – какое-то из них непременно должно «заработать» против ящура.
Это и было сделано в лаборатории Иванова. В итоге один из синтезированных белков действительно заработал! Только сам Меклер узнал об этом совершенно случайно, от третьих лиц. Более того, заместитель директора серьёзного института В. Иванов, получивший год назад по телефону эту принципиально важную и специально оговорённую для экспериментальной проверки научную информацию, стал вообще отрицать участие Меклера в этом успехе. В вышедшей вслед за этим в академическом журнале «Биоорганическая химия» статье о первой победе в борьбе против ящура имён Меклера и Идлис в большом списке авторов не оказалось. Понятно, сам Иванов тот список возглавлял. Видать, сложившаяся и чуть ли не узаконенная в советской науке система повального присвоения себе руководителями авторства подчинённых задавила все имевшиеся в душе Вадима Тихоновича зародыши порядочности. Естественно, после этого он уже не посещал домашнюю лабораторию Меклера и Идлис.
Думаю, теперь немного легче понять нашего героя – одарённого учёного с максималистским от природы характером, поставившего перед собой сложнейшую научную задачу, над которой он самоотверженно бился, не щадя себя, и сталкивающегося с подобным отношением. Он сталкивался с ним в руководстве института, где когда-то работал, в ВАКе, куда обратился, чтобы получить заслуженную им научную степень. И вот теперь столкнулся в отношениях с имеющим власть и положение учёным, понимающим и отзывчивым поначалу, но на поверку оказавшимся откровенным научным вором. Под влиянием подобных стрессовых обстоятельств и сложился в итоге этот человек, о котором даже друзья и истинные доброжелатели говорили с грустью примерно так: «Да, он сделал выдающееся открытие. Да, о нём следовало бы как можно скорее рассказать всему миру. Но… Меклеру невозможно помочь. Он сам не даёт этого сделать!»
Боже мой! Да потому и не даёт, что по уши нахлебался подлостей, обманов, интриг и поневоле стал подозрительным, неуступчивым и запредельным максималистом. В своём творческом полёте, направленном на достижение высочайших и благородных научных целей, бросивший отчаянный вызов всей окружающей его порочной научной системе, он пришёл к главному парадоксу своей жизни. Обрёл наконец практически полную творческую независимость, свободу мысли и в конце концов сделал выдающееся открытие, но в итоге стал фигурой не только вне научного общества, а практически и вне всего окружающего мира. Что есть всё происшедшее с Меклером – счастье или беда, – не берусь судить. Пусть каждый сам ответит на этот непростой философский вопрос.
Время, конечно, расставит всё по своим местам независимо от желаний, действий или противодействий различных лиц. Но в истории этого удивительного человека совершенно точно есть то, что заставило меня написать о нём в этой книге.
Внимательно проанализировав всё, что я знаю о Меклере, и вспомнив собственный опыт общения с ним, я вдруг увидел, что вся его жизнь – особенно научная, творческая – каким-то непостижимым образом связана с постоянными стрессовыми ситуациями. То есть с ситуациями, каждая из которых любого другого человека в один момент ввергла бы в пучину печальных размышлений, сильных переживаний и, возможно, отчаяния – скорее всего, сломала бы его. Меклеру же вроде бы всё нипочём. И даже, похоже, наоборот: чем сильнее его пытались уничтожить или выбить из-под ног почву, тем решительнее и твёрже шёл он к намеченной цели. Более того, порой у меня невольно складывалось впечатление, что он иначе и не может жить, творить, кроме как в экстремальных обстоятельствах. Что обстоятельства эти нужны ему были для полноценной жизни и творчества как воздух, и если таковых не хватало, то он их с успехом находил или… создавал.
Так было в период его работы в институтах, когда он мог в один момент испортить отношения с кем-то из коллег, заявив тому в глаза, что он «протирает штаны в науке». Так было в истории с диссертацией, когда вместо простого списка своих работ, о котором его и просили, он сделал и отправил в ВАК настоящее неординарное научное исследование, заставившее недоброжелателей попытаться подальше оттолкнуть его от науки (в конце концов кандидатскую степень ему всё-таки дали, но скольких это стоило трудов, времени и нервов?!). Так было и в его научном отшельничестве – перебивались с хлеба на воду или в лучшем случае жили на квашеной капусте, ничуть не расстраиваясь от этого, а, наоборот, рассматривая её в качестве бесценного источника витаминов зимой. Так было и в общении с журналистами, которые после первой публикации о нём зачастили в лабораторию теоретического естествознания, – и уж тут-то Меклер устроил всем такой сумасшедший дом, что враз испортил отношения не только с отдельными представителями второй древнейшей профессии, но и с целыми редакциями газет и журналов. Дело доходило чуть ли не до суда.
Так случилось и тогда, когда измученный всеми этими ситуациями, проблемами и нервотрёпками в России, проклиная на чём свет стоит и всю сложившуюся здесь научную систему, и пришедшую новую власть Ельцина, Меклер решил наконец попытать счастья за границей. И, получив немалые деньги в качестве научного гранта, уехал в 1993 году в Израиль с Розалией Григорьевной, детьми и несколькими помощниками, чтобы для начала запатентовать там кое-что из сделанного. И когда учёные местного университета, узнав о приезде в Тель-Авив столь известного коллеги, пригласили его на встречу с ними, чтобы узнать, над чем он работает и не могут ли они принять посильное участие в этих работах, он отколол такой номер, что бедные израильтяне не знали, что и думать.
Для начала он опоздал на назначенную встречу на полчаса, хотя жил всего в двадцати минутах ходьбы от университета, после чего начал её со следующих слов:
– Американские учёные ни черта не смыслят в этой проблеме и отстали в её решении лет на двадцать пять. А израильские учёные лижут задницу американским…
Понятно, что после такого введения нелегко было в чём-то убедить пришедших на встречу. Когда же один израильский профессор, занимающийся проблемой создания вакцины против гриппа, попросил у Меклера вычисленные им по оригинальной теории белковые структуры этой вакцины для проверки в собственной лаборатории, то Лазарь Борисович совершенно серьёзно заявил:
– В мире ежегодно болеет гриппом 50 миллионов человек. Допустим, одна доза вакцины будет стоить вакцинируемому 50 центов… Итого получается 25 миллионов долларов… Я готов дать вам эти структуры, но вы прежде заплатите мне за такую информацию… 10 миллионов долларов!Создав, таким образом, враждебное или предельно отстранённое к себе отношение многих местных учёных, Меклер начал что-то делать из намеченного. Впрочем, очень скоро, несмотря на наличие достаточных средств и возможностей для этого, у него возникли проблемы иного рода. Израиль оказался для него не той страной, где он хотел бы работать, – всё там было не так: и лживый их строй, и складывающиеся человеческие отношения… Появились серьёзные сложности в отношениях с Розалией Григорьевной. В результате в момент моей последней с ним встречи в Израиле в мае 1995 года учёный Меклер (его имя по-еврейски звучит Лейзер Беркович), шинкуя на кухне помидоры, горестно и в то же время как-то отчаянно весело распевал на Земле обетованной:
Ещё немного, ещё чуть-чуть.
Последний бой – он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму…
При этом он на чём свет стоит клял Израиль и при мне звонил тогдашнему послу России в этой стране с просьбой походатайствовать перед мэром Москвы о предоставлении ему условий для жизни и работы в российской столице, откуда он уехал, как тогда ему думалось, навсегда. В общем, искал и создавал себе новые проблемы для… работы.
Московского градоначальника, видать, не очень озаботили вопросы приоритета российской науки, а может, и сам посол не решился беспокоить такими мелочами главного хозяйственника России. Учёный проживал в полуподвальном помещении, существовал на местную пенсию и в разрыве с Розалией Идлис. С ним по-прежнему контактировала сплотившаяся вокруг него небольшая группа энтузиастов, пытающаяся найти какие-то средства для продолжения его удивительной научной работы и бескорыстно помогавшая ему. В октябре 2003 года Меклер умер на 83-м году жизни.
Сейчас работавшие с ним последние годы люди пытаются собрать воедино всё научное наследие учёного и довести начатое им дело до конца уже без него. Не знаю, чем в научном отношении увенчается десятилетняя одиссея Меклера на земле Израиля, но на планете Земля он совершил уже гораздо больше, чем может простой смертный. Я точно знаю, что этот необычный человек, гениальный учёный, был и в России, и в Израиле неизменно окружён массой проблем, в борьбе с которыми всегда двигалась его основная работа. Её результаты когда-то обязательно понадобятся людям. Они смогут его понять, оценить и будут благодарны российскому учёному, гражданину мира Лазарю Борисовичу Меклеру, смело бросившему вызов не только самым сложным загадкам природы, но и окружающему его бесчеловечному обществу и победившему в этой борьбе. Они будут благодарны ему за всё сделанное в науке, в служении которой он блестяще реализовал своё вселенское предназначение, дав человечеству не только своё замечательное открытие, но и великий пример жизни ради истины.
Глава 7. Любовь
Сильна жизнь, а любовь сильнее.
Узнай её – и забудешь всё!
Пантелеймон Романов «Зима»
Господи, сколько уже об этом поразительном чувстве говорено и написано! И всё равно волшебство его неисчерпаемо, непредсказуемо. Вдруг выплывает из бесконечной вереницы человеческих жизней такая история, что заставляет в очередной раз удивиться непостижимому чувству любви, пристальнее вглядеться в человека, окунувшегося во все страсти, радости и печали этого бесценного дара, испытать восхищение и гордость от того, что нам, людям, такое чувство дано.
Жил-был в прекрасном российском городе Нижнем Новгороде (в советские времена он стал Горьким, а потом в годы демократизации снова принял старое имя), что стоит на двух великих реках Оке и Волге, обрусевший немец, талантливый инженер Густав Васильевич Тринклер – один из создателей отечественного двигателестроения, которым успешно занимался более 60 лет. Когда-то в Германии он слушал лекции великого инженера Рудольфа Дизеля, а потом в России начал осуществлять мечты этого всемирно известного изобретателя. И сам стал известен в мире как создатель смешанного цикла сгорания, носящего его имя в первых российских бескомпрессорных дизелях, – они выпускались в нашей стране в конце XIX века под названием «Тринклер-моторы». А потом под его руководством на советском заводе «Красное Сормово» спроектировали и построили первый в мире горизонтальный двигатель Дизеля мощностью в 750 лошадиных сил, затем – и первый советский дизель в 2100 лошадиных сил, которые успешно работали на речных судах. В 40-е годы он принимал активное участие в конструировании дизельного двигателя для танка Т-34, и, благодаря этой успешной разработке, наша знаменитая боевая машина не вспыхивала от попадания снаряда, как это происходило с бензиновой. В последние годы жизни доктор технических наук, профессор горьковского Института инженеров водного транспорта Густав Тринклер работал над созданием газового двухтактного двигателя, а в 1956 году в связи с 80-летием был награждён за свои заслуги орденом Трудового Красного Знамени. В семье Тринклера, помимо двух дочерей, рос сын Юрий, о котором и пойдёт речь.
Уже в школе, в которую он пошёл в 1931 году, мальчик сильно отличался от других ребят. В компаниях участия не принимал, был замкнут, мог неожиданно звонко и громко рассмеяться чему-то своему, когда остальным смешно вовсе не было. При этом с удовольствием занимался художественной самодеятельностью – под его режиссурой ставили в девятом классе чеховского «Медведя» – и редактировал классный журнал «Учебный год». Любил играть и хорошо музицировал на фортепьяно, пел песни Шаляпина. Из школьных предметов любил физику и химию, а на остальных, бывало, затыкал уши, отчего возникали конфликты с преподавателями. Однако успевал по всем предметам. Занимался в юннатских кружках: сначала в школьном, а потом при городском Дворце пионеров. Интересовался биологией и физиологией растений, в чём чувствовалось влияние мамы, которая была ботаником. А ещё в Юре постоянно жила поражающая многих детская непосредственность. Как-то раз, было это в 1939 году, он серьёзно и искренне спросил у своего товарища по классу:
– Слушай, а что, Сталин – Бог?..
«В общем, он был Тринклером!» – так охарактеризовал своего старого школьного друга этот человек много десятилетий спустя. Серьёзно увлекаясь некоторыми школьными предметами и многими неучебными видами деятельности, Юра, как ни странно, не имел никаких заметных увлечений противоположным полом. Может, потому и не имел, что серьёзно был занят совсем другим. Не имел, правда, до последнего школьного года. Но зато уж увлёкся так увлёкся! Со свойственной ему непосредственностью и страстью. Она была студенткой и соседкой по даче, старше его на два года. Девушке этой, конечно, было приятно страстное внимание школьника, но по большому счёту ей это было не нужно, так что любовь Юры Тринклера оказалась безответной. Он сильно страдал и когда через полгода открылся своей избраннице в надежде на ответное чувство, то услышал от неё, что она думает об их отношениях, – девушка предложила ему остаться друзьями. Дело происходило на школьном вечере, где он пригласил её на танец, а она отказалась и всё ему сказала. Это было выше Юриного разумения.
Трудно понять, была ли у него такая любовь, какая бывает у взрослых людей, толкающая их на потерю контроля над собой и на всякие безумствования, но это было очень сильное чувство. Оно овладело всем существом восемнадцатилетнего юноши, подавив остальные помыслы и всякую критику. И когда он услышал окончательный приговор этому сжигающему его чувству, то мир померк перед ним и жизнь остановилась. Вернее, даже не остановилась, а покатилась в тёмную бездонную пропасть. Всё для него было кончено. С этими тяжёлыми мыслями поехал он сразу после объяснения с любимой девушкой к себе на дачу в Зелёный Город в пригороде Горького, где жил в школьные каникулы и часто проводил время в лыжных походах по живописным окрестностям. Был морозный февральский вечер, и, когда уже на своей станции, выйдя из поезда, он пересекал по переходному мостику железнодорожные пути, тяжёлые мысли о его несчастной безответной любви нахлынули с новой силой. Жизнь показалась ему пустой и бессмысленной. В этот момент к переходу приблизился другой поезд. Его шума Юра почти не слышал, зато отчётливо видел яркие огни сквозь искрящийся на морозе мелкий снег.
– Зачем жить, если всё в этой жизни так ужасно устроено, – совершенно неожиданно для себя подумал он.
И тут ему стало вдруг очень-очень легко, необъяснимая сила властно потянула к наплывающим, завораживающим огням, и, не в состоянии противиться ей, он бросился под поезд…
Если кто-то думает, что на этом поступке молодого человека, потерявшего от юношеской любви рассудок, заканчивается история его любви, то он сильно ошибается. Это только у героини Льва Толстого всё завершилось под колёсами поезда. А настоящая история любви и жизни Юрия Тринклера тут только начинается.
Он не погиб. Его спас сильный холод, царивший на улице, – хотя поезд катастрофически повредил обе ноги до бедра, кровь из тела ушла не сразу. И ещё удачей было то, что этим же путём в город возвращалась припозднившаяся влюблённая парочка. Они увидели израненного, но живого ещё человека, побежали на станцию, нашли там дрезину и быстро отвезли пострадавшего в Горьковский институт травматологии и ортопедии. Оперировавший его молодой хирург после ампутации ног пациенту сам оказался в таком гнетущем состоянии, что, закончив операцию, вынужден был пойти на долгую лыжную прогулку, дабы успокоить нервы, – слишком уж молод и красив был попавший на его операционный стол человек, ставший в одночасье глубоким инвалидом. У врача мелькнула даже мысль, что в такой ситуации, возможно, лучшим исходом для него была бы смерть прямо там, на рельсах, но он, понятно, ничего такого своему пациенту не сказал.
А Юре Тринклеру, чудом выжившему после своего безумного поступка, надо было жить дальше. И он начал жить. Перво-наперво раз и навсегда решил закрыть тему. Даже в больнице не сказал, что это была попытка самоубийства, и до последних своих дней никому не рассказывал ничего ни о ней, ни о своей безответной любви, толкнувшей его на страшный шаг. Не рассказывал даже самым близким родственникам. Только друзья, знавшие всю предысторию, могли догадаться об этом по некоторым разговорам с Юрой. Ещё в больнице, где он продолжил школьное обучение с помощью одноклассников, ему сделали протезы, но первая попытка встать на них закончилась падением. Привыкал к ним долго и только к концу лета смог выйти на протезах прогуляться на высокую волжскую набережную, что была недалеко от их дома. Но вскоре после выписки из больницы родители перевезли его на дачу, где Юра приспособил для передвижения свой бывший школьный портфель: внутрь клал доски, себя привязывал к нему ремнями, а отталкивался от земли взятыми в руки старыми детскими кубиками. Так он не только обрёл свободу движения, но и смог заниматься своими любимыми растениями, которых на участке было множество.
Школу удалось закончить без перерыва и притом весьма успешно, а вопрос о дальнейшем обучении был у него решён давно. Конечно же, на биологический факультет университета! Ещё на ногах он посетил его в день открытых дверей, и один из профессоров факультета, приятно удивлённый рассказами старшеклассника об увлечении физиологией растений, представил его своим коллегам как юношу, у которого «любовь к ботанике заложена в генах». Юра был абсолютно готов выдержать вступительные экзамены, но ещё не так хорошо освоился с протезами, чтобы ходить на них в университет. Потому отец обратился к министру высшего образования с просьбой принять сына в университет без экзаменов. В дальнейшем выяснилось, что к этой просьбе присоединился и встретивший его на дне открытых дверей профессор. Ректор весьма скептически отнесся к безногому студенту, но, получив разрешение от министра, вынужден был согласиться принять его. Правда, в связи с начавшейся войной вступительные экзамены и без того были отменены для всех. Юра Тринклер стал студентом биологического факультета Горьковского университета. Так молодой человек, едва не расставшийся с жизнью из-за несчастной любви к девушке и ставший из-за неё инвалидом, сделал первый, очень серьёзный шаг для реализации любви к науке, в изучение которой он погрузился со всей силой своего незаурядного характера и в которой сумел оставить очень яркий след.
Весной 1944 года, когда он заканчивал третий курс, предстояло определить тему для курсовой работы. Студент Тринклер, выбравший для своей будущей специализации кафедру физиологии растений, наивно полагал, что если с курса на кафедре оказалось шесть человек, то и тем курсовых будет столько же. Но всем была предложена одна, связанная с дымовой защитой растений, – та, которой занимался заведующий кафедрой. Каждый из шести кафедральных третьекурсников должен был разрабатывать её с разных позиций. Поскольку работу Юра предполагал проводить на дачном участке, а в тяжёлое военное время надо было сажать картошку, то он заложил три делянки с ней для своих будущих опытов. Но душа к навязанной сверху теме не лежала, и он признался в этом заведующему кафедрой. К удивлению отказника, тот не стал настаивать на своём и предложил самостоятельному студенту другую тему – об израстании соцветий по работе известного немецкого ученого Бормана.
Тринклер с воодушевлением взялся за дело. По методике немецкого учёного надо было получить цветущие черенки, то есть черенки с соцветиями, и оставлять на них четыре половинки листа. Юра начеренковал различные виды растений, в том числе и картофель. Черенки укоренились, он их пересаживал, однако шло время, а никаких израстаний соцветий не происходило. Курсовая работа оказалась под угрозой срыва. Спас удивительный случай, один из тех, которые нередки в науке, – достаточно вспомнить знаменитое яблоко, якобы упавшее Ньютону на голову во время его сидения в саду и приведшее к открытию закона Всемирного тяготения. Юрина мама очень любила цветы, но во время войны основным растением на даче по известной причине стала картошка. Однако она тоже цветёт, и вот мама нарвала букет картофельных цветов и поставила его в стакан с водой на обеденный стол. Через несколько дней все цветы опали, и женщина понесла стакан с букетом голых соцветий картофеля к помойке, но что-то её отвлекло. Она поставила этот стакан на пол балкона и… забыла о нём. Температура была не очень высокая, и он простоял там не менее недели. Проползая мимо на своём транспортном портфеле, Юра заметил какие-то соцветия в стакане и, любопытствуя, подполз поближе, чтобы рассмотреть, что это такое. Каково же было его изумление, когда на одной из веточек соцветия он обнаружил маленький клубенёк?! Но перед этим чудом природы оказался не просто интересующийся ботаникой мальчик, а начинающий специалист в области физиологии растений.
– Клубень мог образоваться только из почки, – сразу же сообразил он. – Следовательно, здесь сначала появилась почка, а это ведь и есть искомое мною израстание соцветия! Но почему же тут оно получилось, а у меня в опытном парнике ничего не выходит?..
Дальнейшие рассуждения, которые можно смело назвать первым научным прорывом в деятельности Юры Тринклера, привели его к ответу на поставленный вопрос:
– Там у меня на каждом черенке было по четыре половинки листа, а здесь, в стакане, соцветия были совсем без листьев. Получается, надо у цветущих черенков оставлять не четыре, а только одну половинку листа! И ещё, у меня в теплице постоянно тепло, а здесь, на северной стороне дома, черенки находились в довольно прохладных условиях. Значит, надо попробовать подержать их в чулане.
Этот чудесный случай, заставивший третьекурсника Тринклера пересмотреть методику известного учёного Бормана и решившего таким образом поставленную в его курсовой работе задачу, определил направление его будущей научной работы и, как он сам выражался, «посадил» его на картошку на всю жизнь. В последующие дни он начал действовать по своей методике и уже в первый год работы получил искомые израстания соцветий у нескольких видов растений, в том числе и у картофеля. Если его цветущий черенок с почкой на соцветии помещался в чулан, где было темно и прохладно, то вскоре почка образовывала клубенёк. Тринклер выступал с результатами успешной разработки своей темы на студенческих и аспирантских конференциях, защитил по ней курсовую, а затем и дипломную работы.
– Это очень интересная тема, – одобрил выбор направления научной работы студента после одного из его выступлений знаменитый генетик Сергей Четвериков, работавший в то время в местном университете, – потому что в ней рассматривается растение на границе между вегетацией и цветением.
Свой диплом Юрий Тринклер защищал на одном протезе с костылями, поскольку на культе другой ноги было воспаление. В университет его привёз папа на грузовике, а после успешной защиты сыном научной работы с гордостью сказал, что в этом деле есть и его вклад, поскольку он возил на дачу навоз для картофеля. В ответ раздались громкие аплодисменты. Дипломная работа была опубликована в виде статьи в Учёных записках университета. Естественно, после окончания института в 1946 году Юрий Тринклер поступил в аспирантуру при своей кафедре, научная тема осталась та же, только к ней добавились исследования по биохимии экспериментальных растений. Перед ним лежала долгая, увлекательная, а главное, любимая дорога в науке. И тут, как это нередко бывает, одна удача, в науке, привела к другой – в личной жизни. Он встретил настоящую любовь, которая шла рядом с ним до последних дней, помогала ему во всех трудностях и дарила радость и счастье, которые только и может дать человеку это удивительное чувство.
Его избранница и будущая жена Ольга, тоже биолог, окончила Ленинградский университет, проработала несколько лет в Казахстане на противочумной станции и поступила в аспирантуру Горьковского университета на два года раньше Юры. После её окончания осталась при университете работать секретарём по аспирантским делам. Вот на общих собраниях аспирантов они и познакомились. Девушка всегда уважала людей с сильной волей и, естественно, поначалу просто заинтересовалась молодым человеком без ног – ведь он сумел не только героически отучиться пять тяжёлых военных лет, когда чуть ли не каждый день ему надо было добираться до университета пешком в горку, но при этом ещё и серьёзно занимался наукой, так что остался в аспирантуре. Но вскоре отношения их перешли на совершенно иной уровень.
Как-то раз Ольге надо было уточнить Юрин план по аспирантской работе, и она вызвала его на собеседование. В комнате, где она работала, располагались ещё три секретаря, постоянно толпился народ и не было свободных стульев.
– Давайте выйдем на улицу и там спокойно обсудим ваши планы, – предложила она, понимая, что в таком кавардаке толку от их беседы не будет.