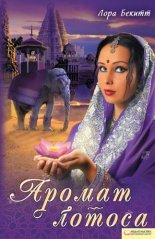Белый отель Томас Дональд

Молодые любовники ушли и легли в постель, где их не беспокоило что-либо более зловещее, нежели слабые, но частые телефонные звонки, раздававшиеся в глубине отеля. Почти все из звонивших хотели заказать себе номер – белый отель был на редкость популярен, и, будь то зима или лето, заказов было больше, чем свободных номеров. Если смотреть только с этой точки зрения, катастрофы, случившиеся в последние несколько дней, были ниспосланы свыше; но даже этот необычайно быстрый товарооборот не мог угнаться за спросом, и многим приходилось отказывать. Персонал отеля творил чудеса, стараясь разместить как можно больше желающих. В тот самый день, когда погибла мадам Коттен, молодые любовники слышали, как в соседнюю дверь вносят раскладушку – так нашлась комната для молодой супружеской пары и их ребенка.
Нашлось место и для другой молодой четы, ребенок у которой должен был вот-вот появиться. Номера как такового не было, но женщина так рыдала, была настолько безутешной, что в конце концов для них освободили багажную комнату. Ночью любовники проснулись от криков роженицы, после чего слышали, как неутомимый персонал сновал с полотенцами, горячей водой и другими необходимыми принадлежностями родовспоможения.
Эта ночь опять была морозной и снежной, и просто счастье, что для бедной молодой женщины удалось найти кров. Хотя с их стороны было крайне глупо приезжать, не забронировав заранее номер, на таком позднем сроке беременности.
К чести переутомленных работников отеля, никто из них не роптал. Они были просто восхитительны – эта мысль, по-разному выраженная, вновь и вновь повторялась в книге отзывов: «Прекрасное питание и никаких недоразумений. До встречи в следующем году»; «Здесь все наилучшего качества. Нас обслуживали, словно членов королевской семьи»; «Благодарим за прием. Отличный сервис и размещение. Обязательно приедем снова»; «Получил сполна за свои деньги»; «Нигде нет ничего подобного. Наслаждалась каждой минутой».
Весь штат отеля, от чистильщика обуви до управляющего, в свободное время помогал ремонтировать крыло, поврежденное пожаром, чтобы поскорее можно было сдавать все комнаты. Даже шеф-повар, дородный, сияющий улыбкой шеф-повар принял участие в ремонте – и весьма примечательное: однажды любовники услышали, что кто-то скребется в окно, и, повернувшись, увидели, что к ним, лучась улыбкой, заглядывает веселый шеф-повар, держа в руке малярную кисть. Молодой человек овладевал ею сзади, и она, порозовев от стыда, попыталась сделать вид, что встала на колени, чтобы помолиться. Но они уже зашли настолько далеко, а он так весело им подмигнул, что они решили: не будет большой беды в том, чтобы позвать его и пригласить присоединиться. И надо сказать, что он оказался способным не только на приготовление бифштексов, – закрыв глаза и зарывшись лицом в подушку, она не могла бы сказать, кто из них сейчас в ней, было одинаково вкусно, нежно и сочно. Она была счастлива, что часть ее тела отдана кому-то другому. Весь дух белого отеля восставал против эгоизма.
Порой она чувствовала себя стесненной, связанной, но если предлагала выйти из номера, он опять заключал ее в объятия и говорил, что у них слишком мало времени. Грустно было не видеть снаружи знакомого пекаря, закидывающего свои сети посреди озера. Сына пекаря, запускающего воздушного змея. Старого священника, читающего в шезлонге. Мадам Коттен, смеющуюся чему-то вместе с нахальным молодым официантом. Но между горными вершинами парили лебеди, то скользя вниз, к озеру, то взмывая ввысь. Их перья были настолько белы, что ослепительные вершины казались по сравнению с ними серыми.
ЧАСТЬ 3
фрау аннa г.
Осенью 1919 года один из моих знакомых врачей попросил меня обследовать молодую женщину, которая на протяжении последних четырех лет страдала от сильных болей в левой груди и области таза, а также от хронического расстройства дыхания. Изложив свою просьбу, он добавил, что, по его мнению, это случай истерии, хотя определенные указания на обратное побудили его очень тщательно обследовать ее на предмет возможности какого-либо органического заболевания. Молодая женщина была замужем, но жила отдельно от мужа, в доме своей тети. Многообещающую музыкальную карьеру нашей пациентки прервала болезнь.
Первый мой осмотр этой молодой женщины двадцати девяти лет от роду не помог добиться большого успеха в понимании ее случая, а также не выявил ни единого признака ее внутренней живости, которой, как меня заверили, она обладала. Ее лицо, наиболее выразительной чертой которого были глаза, носило на себе печать жестокого физического страдания; однако случались мгновения, когда на нем ничего не отражалось, и тогда оно напоминало мне лица тех, кто стал жертвой военной травмы, – обследовать их было моей печальной обязанностью. Из-за ее хриплого и быстрого дыхания мне часто бывало трудно расслышать, что она говорит. Вследствие испытываемых ею болей она ходила неуклюжей походкой, перегибаясь в талии, и к тому же отличалась крайней худобой, даже по меркам того злосчастного года, когда мало у кого в Вене имелось достаточно пропитания. Я заподозрил у нее, в довершение всех ее бед, anorexia nervosa6. Она говорила, что самая мысль о еде делает ее больной и она живет на апельсинах и воде.
Обследовав ее, я понял, почему мой коллега не захотел отказаться от поиска органического субстрата ее симптомов. Я был поражен определенностью, с какой моя пациентка описывала характер своих болей: такого рода ответов мы привыкли ожидать от пациента, страдающего от органического заболевания – если только он вдобавок не неврастеник. Истерик склонен описывать свою боль неопределенно и отзывается на стимуляцию болезненной области скорее выражением удовольствия, нежели страдания. Фрау Анна, напротив, спокойно и точно указывала, что у нее болит: левая грудь и левый яичник; она вздрагивала и отклонялась при осмотре.
Сама она была убеждена, что ее симптомы носят органический характер, и была разочарована тем, что я не мог установить их причину и вылечить ее. Моя собственная растущая убежденность в том, что я, несмотря на видимость обратного, имею дело с истерией, укрепилась, когда она призналась, что страдает также и галлюцинациями беспорядочного и пугающего характера. Она боялась рассказывать об этих «бурях в голове», так как ей казалось, что это равносильно признанию в том, что она сумасшедшая и должна быть изолирована от общества. Я сумел уверить ее в том, что галлюцинации, равно как боли и затрудненное дыхание, ни в коей мере не являются признаком слабоумия; что, учитывая непокорную природу реальности, даже самый здоровый разум может стать жертвой истерических симптомов. После этого она стала держаться немного раскрепощеннее и рассказала мне кое-что об истории своей болезни и о своей жизни вообще.
Она была вторым ребенком и единственной дочерью родителей среднего достатка. Ее отец происходил из семьи российских евреев купеческого сословия, а мать – из культурной польской католической семьи, обосновавшейся на Украине. Поженившись вопреки расовым и религиозным барьерам, родители фрау Анны отстояли свои собственные либеральные идеалы, но вследствие этого брака оба они оказались отсеченными от своих семей. Единственным близким родственником, не отвернувшимся от них, была тетя пациентки (с которой она теперь жила), сестра-близнец ее матери. Эта женщина вышла замуж за преподавателя языков из Вены, тоже католика, с которым познакомилась во время его пребывания на конференции в Киеве, родном городе сестер. Таким образом, сестры были вынуждены жить вдали друг от друга, но их тесная связь не ослабевала.
Из-за преданности сестре тетя фрау Анны также стала все больше отчуждаться от своей семьи, за исключением отца, который переехал к ней жить, когда состарился. У пациентки было такое чувство, что ее жизнь обеднена этим семейным расколом. Родственников ее собственного поколения, которые могли бы это возместить, у нее тоже было немного. Мать ее родила сына вскоре после того, как вышла замуж, а Анна появилась на свет пятью годами позже. Тетя, к ее огорчению, оставалась бездетной.
Пациентка сохранила самые теплые воспоминания о матери. Та была красива, склонна к творчеству (писала недурные акварели) и импульсивной веселости. Она была добра именно по-матерински. Если у нее и случалось плохое настроение, обычно вызванное осенней или зимней погодой, то, избавившись от него, она еще больше баловала своих детей. Вместе с отцом Анны они составляли превосходную пару. Отец также обладал огромной энергией и обаянием, и девочка его очень любила, хотя и жалела, что он так часто бывает занят. Лишенный родительской поддержки, он работал с неимоверным усердием, чтобы укрепить свое дело. Вскоре после рождения Анны он перевез семью в Одессу, где стал владельцем фирмы по экспорту зерна. Пожалуй, единственным занятием, способным отвлечь его от работы, был парусный спорт: он был счастливым обладателем превосходной яхты.
Каждое лето к ним, в их прекрасный портовый город, приезжали дядя и тетя пациентки. Девочка с нетерпением ждала этих визитов, которые, благодаря обыкновенным для Вены долгим летним отпускам, длились по нескольку недель. В присутствии гостей, да еще если погода благоприятствовала прогулкам на яхте, ее отец позволял себе на несколько дней оторваться от работы, становясь общительнее и доступнее; а мать буквально расцветала с одновременным появлением своей любимой сестры и солнца. Естественно, что ее сестра, сама бездетная, была очень привязана к своей маленькой племяннице. У тети был спокойный, уравновешенный характер. Одаренная пианистка, она предпочитала безмятежность музыкальной гостиной столкновению с буйством стихий, возможному на яхте. Дядя Анны не был таким домоседом, он был добродушен и весел, как и полагается дядям. Пациентка вспоминала о его склонности к шуткам: например, отправляясь на прогулку на яхте, он надевал белую офицерскую фуражку. Дядя и тетя значили для Анны очень много, будучи единственной ее «семьей», если не считать родителей и брата, – а между нею и братом не было сильной привязанности.
Если бы я не знал о склонности взрослых идеализировать начало жизни, я поверил бы, что раннее детство пациентки не было отягощено ничем утомительным или неприятным, что все оно сводилось к строительству песчаных замков на пляже да скольжению на отцовой яхте – под голубым небом, мимо утесов черноморского побережья; и что это счастливое состояние длилось вечно. На самом деле эти счастливые и яркие воспоминания простирались лишь до пятого ее лета; потому что над ней уже нависала тень события, которое повлекло за собой безжалостное и неожиданное изгнание из рая, – смерть матери.
Мать ее имела привычку разнообразить зимнюю скуку, время от времени совершая поездки в Москву, – походить по магазинам, посетить галереи, побывать в театрах. Что касается Анны, то у нее в этих случаях было два утешения: отец оставался целиком в ее распоряжении, а мать всегда возвращалась нагруженная подарками. В тот год, как раз накануне Рождества, она не вернулась с долгожданными дарами. Вместо этого пришла телеграмма, сообщавшая, что отель, в котором она остановилась, уничтожен пожаром. Для незрелого ума Анны это означало лишь то, что матери не будет еще несколько дней. Но когда ее раздевали перед сном, няня расстроила ее своим плачем. Она долго не могла уснуть, думая, где же может быть ее мать, и слушая бурю, разразившуюся той ночью. Две из навязчивых галлюцинаций, преследовавших ее во взрослой жизни, – буря на море и пожар в отеле – явно связаны с этим трагическим событием.
Ее убитый горем отец теперь почти все свое время отдавал деловым операциям; в любом случае, он предпочитал общество своего сына, в то время уже достаточно большого для поддержания осмысленного разговора. Анна была оставлена на попечение няни и гувернантки. Тетя и дядя больше не приезжали, так как по печальному совпадению дядя спустя несколько месяцев тоже умер – от сердечного приступа. Доходы его как преподавателя были невелики, и его все еще молодая вдова была вынуждена продать дом, снять дешевую квартиру и зарабатывать себе на скудное пропитание уроками игры на фортепиано. Если не считать писем и присылаемых время от времени маленьких подарков, несчастная и обремененная заботами женщина перестала соприкасаться с детьми своей сестры. Ни она, ни отец пациентки не вступили в повторный брак.
Легко можно вообразить себе одиночество и страдания девочки, столь жестоко лишенной матери, покинутой (как, должно быть, ей это казалось) тетей и дядей и безразличной отцу. К счастью, о ней заботились здравомыслящие и преданные слуги, особенно ее гувернантка. В возрасте двенадцати или тринадцати лет Анна говорила на трех языках, не считая родного украинского, была знакома с хорошей литературой и выказывала недюжинные способности к музыке. Она очень любила танцевать и была принята в балетные классы при лицее. Это дало ей возможность заводить дружеские связи, и она, по ее собственному мнению, стала очень общительна и пользовалась всеобщей любовью. Таким образом, в целом она пережила утрату матери лучше, чем многие (если не большинство) из детей в подобных обстоятельствах.
Когда ей было пятнадцать, произошел неприятный случай, оставивший на ней свою отметину. Это был год политических волнений, восстания на флоте, беспорядков и уличных шествий. Пациентка вместе с двумя подругами опрометчиво отправилась в район доков, чтобы понаблюдать за происходящим. Из-за своей изысканной одежды и внешности они подверглись угрозам и оскорблениям со стороны группы повстанцев. Девочкам не причинили физического ущерба, но они были сильно напуганы. Еще больше пациентку задело отношение отца, когда она вернулась домой. Вместо того чтобы утешить ее, он стал холодно выговаривать ей за то, что она подвергла себя опасности. Возможно, он лишь скрывал свое огорчение и был на самом деле очень расстроен смертельным риском, испытанным его дочерью; но для девушки его враждебный вид стал окончательным доказательством того, что он ее ни во что не ставит. С той поры она отвечала молчанием на молчание, холодностью на холодность. Через некоторое время после этого эпизода она впервые столкнулась с дыхательной недостаточностью, которую стали лечить как астму, но безуспешно. Через несколько месяцев та исчезла сама по себе.
Вскоре после того как ей исполнилось семнадцать, она покинула Одессу и отцовский дом, отправившись в Санкт-Петербург с одной лишь перспективой – выдержать конкурсный просмотр в балетной школе. У нее не было знакомых в столице, не было и никаких средств, кроме небольшого наследства, оставленного матерью, на которое она, будучи уже достаточно взрослой, могла заявить права. Просмотр для нее оказался успешным, и она сняла комнату в бедном квартале и стала жить, экономя во всем. Она завела отношения с молодым человеком, жившим в том же доме, студентом А., активно участвовавшим в движении за политические реформы. Он представил ее кругу своих друзей той же ориентации.
Интерес, который она питала к политической борьбе, был целиком обусловлен ее увлеченностью А. Она отдавала первой любви весь чистый и щедрый пыл своих чувств; их отношения были affair de coeur7, а не плотскою связью. Но через некоторое время он покинул ее ради более важных забот – приближавшегося большого пожара. Почти в это же время от нее отвернулась и избранная ею профессия: не потому, что ей недоставало способностей или прилежания, но лишь в силу того, что она становилась женщиной и набирала вес, который не могла сбросить, даже если почти ничего не ела. Ей пришлось заключить, что природа не намеревалась сделать из нее прима-балерину. К счастью, в это горестное время одна из преподавательниц балетной школы, молодая вдова, жившая в одиночестве, подружилась с ней и пригласила располагать ее домом, пока не решит, что делать дальше. Мадам Р. стала не только ее подругой, но и наставницей. Они вместе ходили на концерты и в театры, а днем, когда мадам Р. была в балетной школе, Анна читала книги из ее богатой библиотеки или же гуляла по городу в свое удовольствие. Это был спокойный и счастливый период в ее жизни, помогший ей восстановить равновесие духа.
Это взаимоудобное жизнеустройство кончилось, когда мадам Р. неожиданно решилась повторно выйти замуж. Соискатель ее руки, морской офицер в отставке, давно стал им обеим близким по духу другом, и Анна не подозревала о существовании какой-то особой привязанности, которая могла бы угрожать ее собственному безмятежному существованию. Тем не менее она не могла не радоваться счастью своей подруги, вполне ею заслуженному. Мадам Р. и ее новый муж умоляли Анну оставаться с ними и дальше, но она не хотела вмешиваться в их жизнь. Она не имела отчетливого представления, куда ей поехать; но в самый ответственный момент судьба, непривычно добрая, подтолкнула молодую женщину к новой стране и новой профессии. Ее тетушка написала ей из Вены о том, что ее отец (дед Анны), живший с нею несколько лет, скончался и она опять осталась одна. Она спрашивала Анну, не согласится ли та пожить с нею хотя бы несколько месяцев. Молодая женщина без колебаний приняла приглашение и, после грустного прощания с мадам Р. и ее мужем, отправилась в Вену.
Встретившись лицом к лицу со своей тетей, впервые с тех пор, как была жива ее мать, она была охвачена одновременно и грустью, и радостью. Ее первым впечатлением было то, что ее приветствует мать, ставшая, по милости Божьей, женщиной средних лет8. Тетушка, в свою очередь, несомненно нашла в этой чувствительной и интеллигентной двадцатилетней молодой женщине немало черт, живо напомнивших ей ее сестру. У тети и племянницы сразу же завязались теплые отношения, и фрау Анна никогда не находила причин сожалеть о том, что покинула родную страну.
Как это часто случается, перемена обстановки вызвала перемены и в самой фрау Анне. Няня воспитала ее так, что она веровала, хотя и не всем сердцем, в католическую религию – вероисповедание с материнской стороны семьи. В годы юности она отошла от этого, но теперь, под влиянием тети, сделалась ревностной католичкой. Что касается более практических вопросов, то, опять-таки вследствие того, что она оказалась в теткином музыкальном окружении, у нее обнаружились склонности и способности, обещавшие заполнить брешь, оставленную неудачной попыткой стать танцовщицей. Под руководством близкой тетиной подруги молодая женщина научилась играть на виолончели, и, к большому ее изумлению, открылось, что она очень одарена музыкально. Она делала такие успехи и схватывала все с такой быстротой, что ее преподавательница предсказывала, что через несколько месяцев она сможет стать виртуозной исполнительницей.
Через три года после приезда в Вену она играла в профессиональном оркестре, а также была помолвлена. Ее женихом был молодой адвокат из хорошей семьи, страстно увлекавшийся музыкой; он познакомился с нею на вечере в консерватории. Молодой человек обладал хорошими манерами, он был скромен и довольно застенчив (ее привлекало это сочетание качеств), и их привязанность друг к другу очень скоро окрепла. Тетя всецело одобряла его кандидатуру, и Анна хорошо ладила с его родителями. Он сделал ей предложение, и – после очень непродолжительной борьбы между стремлением к семейному счастью и мечтами о профессиональной музыкальной карьере – она его приняла.
Медовый месяц они провели в Швейцарии, а потом поселились в очень уютном доме. Тетя, их частая и желанная гостья, была счастлива при мысли о том, что появление внучатого племянника или племянницы скоро утешит ее во вновь обретенном одиночестве, – ей было известно, как сильно Анна хочет ребенка.
Единственной тучей на горизонте молодой четы были слухи о войне. Когда начались военные действия, ее мужа призвали на службу в армейский департамент юстиции. Их прощание было грустным, но утешало то, что он оставался вне зоны боевых действий и достаточно близко, чтобы часто наезжать домой. Они каждый день писали друг другу; кроме того, в городе, изголодавшемся по последним остаткам цивилизованной культуры, пациентка имела возможность плодотворно продолжать свою музыкальную карьеру. Надо сказать, что ее исполнительское искусство совершенствовалось с опытом и успех у публики становился все больше. Она общалась со своей тетей и множеством знакомых. В общем, если не учитывать основной невзгоды – разлуки с мужем, – она была при деле и довольна жизнью.
Как раз в то время, когда ее муж впервые должен был приехать домой в отпуск, у нее случился рецидив задыхания, от которого она страдала в Одессе, а также появились боли в груди и брюшной полости, сделавшие профессиональную деятельность невозможной. Она потеряла всякое желание есть, и ей пришлось прекратить заниматься музыкой. Сообщив мужу о том, что заболела и теперь никогда не сможет сделать его счастливым, она вернулась в дом тети. Ее муж, исхлопотав отпуск по семейным обстоятельствам, явился умолять ее остаться с ним, но она была непреклонна. Сознавая, что он никогда не сумеет простить ей ту боль, которую она ему причиняла, она все же просила забыть о себе. Муж не оставлял попыток отвоевать ее обратно и лишь несколько месяцев назад согласился на официальный развод. На протяжении последних четырех лет фрау Анна жила почти в полном уединении. Тетя показывала ее многим врачам, но ни один из них не смог найти причину ее нездоровья или добиться какого-либо улучшения.
Такова была история, поведанная мне несчастной молодой женщиной. Она не проливала света на причину ее истерии. Правда, почва для развития невроза была очень богатой, особенно ранняя утрата матери и пренебрежение со стороны отца. Но если бы преждевременная смерть одного из родителей и неисполнение родительского долга другим являлись достаточным основанием для развития истерии, таких случаев были бы многие тысячи. Что же в случае Анны было скрытым фактором, определившим возникновение ее невроза?
То, что имелось в ее сознании, было лишь тайной, но не чужеродным телом. Она и знала, и не знала. В некотором смысле ее разум пытался сообщить, нам, что именно у нее не в порядке, ибо подавляемая идея создает для своего выражения собственный символ. Душа истерика подобна ребенку, обладающему тайной, которой никто не должен знать, но о которой все должны догадаться. И он облегчает это, там и сям разбрасывая ключи к разгадке. Ребенок во фрау Анне явно призывал нас обратить внимание на ее грудь и яичник, причем именно на левую грудь и левый яичник, потому что бессознательное – это очень точный, даже педантичный символист.
Несколько месяцев я не мог добиться каких-либо ощутимых успехов в своих попытках помочь ей. Частично виной тому были обстоятельства, в которых приходилось работать: стояла зима, а создать доверительную атмосферу в нетопленой комнате, когда и пациент, и врач вынуждены оставаться в пальто и перчатках, очень трудно9. Кроме того, анализ часто приходилось прерывать: ее боли порой становились настолько мучительными, что приковывали ее к постели. Удалось, однако, добиться некоторого улучшения аппетита; я сумел убедить ее питаться более основательно – в той мере, в какой высококалорийная пища была тогда доступна в городе.
Гораздо более решающим фактором, замедляющим наше продвижение к цели, было ее сильное сопротивление. Хотя и не настолько стыдливая, как большинство моих пациенток, она делалась скрытной до полного умолчания, если в ходе нашего обсуждения затрагивались ее сексуальные переживания и поведение. Самый невинный вопрос, например о детской мастурбации (феномен почти всеобщий), встречался полным отрицанием. Можно было подумать, что я обратился с этим вопросом к Святой Деве. Я обнаружил серьезные основания усомниться в некоторых неправдоподобных воспоминаниях, на которые она ссылалась и которые не предвещали успеха дальнейшему расследованию.
Она была ненадежной, уклончивой собеседницей, и я стал сердиться из-за пустой траты своего времени. Чтобы быть справедливым к ней, должен добавить, что довольно быстро научился отличать, когда она говорит правду, а когда не вполне искренна: пытаясь что-то утаить, она теребила свой крестик, как будто прося у Господа прощения. Таким образом, у нее была склонность говорить правду, пускай даже и основанная на предрассудке, и это заставляло меня упорно пытаться помочь ей10. Чтобы добиться от нее правды, приходилось расставлять ловушки, высказывая разного рода провокационные предположения. С переменным успехом мне удавалось заставить ее заглотить наживку, так что она или отказывалась от прежних своих слов, или излагала их в другой редакции.
Так было с ее рассказом о связи с А., студентом, в которого она была влюблена в Петербурге. Вначале она сообщила мне о нем лишь самые обыденные факты: например, что он учился на философском факультете, происходил из обеспеченной консервативной семьи, был на несколько лет старше ее и т. п. Она настаивала на том, что у них были «белые» отношения. Меня поразило использованное ею прилагательное, и я спросил, что у нее ассоциируется со словом «белый». Паруса яхты, сказала она; казалось, были все основания предположить, что имеется в виду яхта отца. Но в психоанализе никогда не следует спешить с умозаключениями: она вспомнила, как однажды она и другие члены их политического кружка в Петербурге – включая, конечно, и А. – отправились на прогулку по Финскому заливу. Стояла прекрасная летняя погода, и для нее было большим облегчением снова оказаться в море и передохнуть от «серьезных» разговоров, которые начинали ее утомлять и даже пугать. Она никогда раньше не чувствовала такой любви к А., а тот, как и всегда, был нежен и обходителен с нею. Им пришлось спать в одной каюте, но А. даже не попытался дотронуться до нее; их совесть осталась белой, как паруса яхты или белые ночи11.
Тем не менее она теребила свой крестик, а на лице у нее было печальное выражение. Я резко сказал ей, что она говорит неправду и что я знаю, что они имели половую связь. Фрау Анна созналась, что несколько раз спала с ним, ближе к концу их отношений; что он без конца молил ее об этом, пока наконец она не «пала» – по большей мере от усталости. Она употребила английский глагол ( «fall»); наш разговор шел по-немецки, но Анна довольно часто вставляла в речь иностранные выражения. Я давно приучился со вниманием относиться к их возможной значимости.
Я решил, как говорится, «выстрелить наудачу».
– Рад, что вы честны со мной, – сказал я ей.– Здесь нет ничего постыдного. Но почему, говоря об этом, вы не признаетесь, что понесли от него ребенка, которого потеряли, упав с лестницы?
Бедняжка боролась с собой, но затем признала мою правоту; только упала она не с лестницы, а во время занятий в танцевальной студии. Никто, кроме мадам Р., не знал и даже не подозревал об этом, и она была поражена тем, что я раскрыл ее тайну. Она спросила, как мне это удалось.
Я ответил:
– Ваш рассказ о том, что вы стали прибавлять в весе, звучал неправдоподобно. Полагаю, вам в любом возрасте оказалось бы трудно прибавить в весе, хотя это и пошло бы вам на пользу. Вы явно рассказывали мне о том, что случилось, пускай и косвенным образом, – потому что на самом деле хотели, чтобы я знал об этом. Наверное, в вашем положении вы слишком долго продолжали заниматься танцами; вас очень тревожило это прибавление в весе, и вы не знали, что делать в такой неразрешимой ситуации.
Молчание молодой женщины свидетельствовало о том, что я попал в точку, и я радовался, что не довел свое истолкование до логического конца, – до того, что, продолжая усердно упражняться, она втайне от себя надеялась на такие последствия, более того – провоцировала их. Она была достаточно огорчена уже и тем, что грех ее юности оказался выставленным на свет.
С той поры, однако, она стала немного оживленнее и откровеннее, как будто, избавившись от бремени выдуманного совершенства, испытала облегчение. Вскоре после этого она даже позволила себе слегка пошутить. Когда она описывала мне одну из своих навязчивых галлюцинаций – о падении с высоты навстречу гибели, – ее глаза на мгновение сверкнули, и она заметила: «Но ребеночка у меня нет!»12
Однажды она рассказала мне свой сон. Обыкновенно спала она плохо и снов видела мало, что само по себе было одним из аспектов ее сопротивления анализу. Поэтому полное сновидение было долгожданной удачей, и я затратил немало усилий, чтобы понять его смысл. Вот этот сон в том виде, как его изложила фрау Анна:
Я ехала в поезде, сидя напротив читающего мужчины. Он втянул меня в разговор, и мне показалось, что он чересчур фамильярен. Поезд остановился на станции посреди пустынной местности, и я решила выйти, чтобы избавиться от него. Я удивилась, что там сошло еще много народу, – станция была крошечной и совершенно безжизненной. Но на платформе была надпись «Будапешт», и это все объясняло. Я проскользнула мимо билетного контролера, не желая показывать ему билет, потому что должна была ехать дальше. Перейдя через мост, я оказалась рядом с домом номер 29. Я попробовала открыть дверь своим ключом, но к моему удивлению, дверь не поддавалась, и я пошла дальше и пришла к номеру 34. Хотя ключ никак не поворачивался, дверь открылась сама собой. Это был маленький частный отель. В прихожей сушился серебристый зонтик, и я подумала, что там остановилась моя мать. Наконец вышел пожилой господин и сказал: «В доме никого нет». Я достала из кармана пальто телеграмму и вручила ее ему. Мне было его жаль, потому что я знала, о чем там говорится. Он страшным голосом произнес: «Моя дочь умерла». Он был так потрясен и несчастен, что я почувствовала, что больше для него не существую.
Впервые услышав этот сон, я встревожился, потому что он говорил о том, что сновидица вполне способна положить конец своим невзгодам, совершив самоубийство. Поездки в поезде сами по себе являются сновидениями о смерти, а в данном случае все усугублялось тем, что она сошла «до своей остановки» и «посреди пустынной местности». То, что она проскользнула мимо контролера, явно было намеком на порицание самоубийства; мост был еще одним символом смерти. В определенном смысле, сон фрау Анны не мог быть яснее; но я также чувствовал, что в нем содержалось множество подробностей более личного характера. Поэтому я попросил ее разбить свой сон на мелкие эпизоды и рассказать мне, что происходило с ней в жизни в связи с тем или иным из них. Она имела некоторый опыт в толковании сновидений, так как ей уже приходилось анализировать несколько незначительных примеров; более того, поскольку она была на редкость понятливой, я поощрял ее желание ознакомиться с некоторыми из моих предыдущих случаев.
– Кое-что происходило, – сказала она, – но не может иметь отношения к этому сну, – все было очень давно и, по правде говоря, ничего важного для моей жизни не представляло.
– Не имеет значения, – сказал я.– Выкладывайте!
– Что ж, ладно. Мне кажется, что мужчина в поезде напомнил мне одного попутчика, докучавшего мне, когда я ехала из Одессы в Петербург, чтобы попытаться жить самостоятельно. Это было – сколько? – двенадцать лет назад, и я обо всем совершенно забыла. Я не особенно испугалась, потому что вокруг было много народу. Он наклонился ко мне и говорил без умолку, причем довольно недвусмысленно: расспрашивал, что я собираюсь делать по приезде в Петербург, и предлагал свои услуги в поисках жилья. Я просто разозлилась и в конце концов перешла в другое купе.
Я спросил, не случилось ли с ней недавно что-то такое, что могло бы навеять сновидение о том эпизоде; посоветовал припомнить некоторые подробности, например какую книгу читал ее попутчик во сне.
– Ну, собственно говоря, я вспоминаю, что молодой человек в петербургском поезде так докучал мне, потому что лез с разговорами, когда я сама пыталась углубиться в книгу. Это был Данте, и мне надо было сосредоточиться, чтобы понимать, о чем речь, – я тогда не очень хорошо читала по-итальянски. Теперь, когда вы об этом упомянули, мне кажется, что сон имеет какое-то отношение к моему брату.
Здесь я прервусь, чтобы сказать о том, что фрау Анна незадолго до этого пережила довольно волнующее событие. Ее брат вместе со своей женой и двумя детьми решил покинуть Россию, ввергнутую в революционный хаос, и эмигрировать в Соединенные Штаты; по пути туда они остановились в Вене, чтобы, по сути, поздороваться и снова распрощаться с Анной и ее тетей. Пациентка несколько лет не виделась с братом, а теперь они могли никогда больше не встретиться. Вопреки тому или даже в силу того, что они никогда не были очень близки между собой, воссоединение и новая разлука удручали Анну еще сильнее.
– Когда мы прощались на вокзале, брат, чтобы скрыть неловкость, стал подбирать себе в дорогу книги. Помню, я подумала о том, что «Новая Жизнь» Данте оказалась бы очень кстати, только мой брат не интересуется классикой, он весьма практичен. Он купил себе несколько триллеров. Да и все равно, нелепо было думать, что в вокзальном киоске можно купить Данте.
Я начинал понимать, по какому руслу шло ее сновидение. Напомнив о номерах на домах, я спросил, что, по ее мнению, они могли означать.
Она усиленно размышляла, но призналась, что зашла в тупик.
– Может быть, дело в том, что вам самой двадцать девять лет? – предположил я.– А ваш брат – на сколько он старше? На пять лет?
Фрау Анна согласилась, удивленная математической логикой сна.
– Вначале вы остановились у двери своего собственного дома. Ключ должен был подойти, но не подошел. Вместо этого вы сумели войти в номер 34 – так сказать, в жилище своего брата. Там вы были лишь гостьей, поэтому вам оно предстало как частный отель.– Я спросил, узнала ли она человека, который вошел в комнату, и напомнил ей его слова: «В доме никого нет».
Спустя какое-то время она сумела разобраться в своих ассоциациях. Ее брат довольно бестактно заметил о том, как был расстроен их отъездом отец, – ведь он участвовал в его деле и, женившись, продолжал жить вместе с ним. Фрау Анна вспомнила, что тогда она с горечью подумала, насколько одиноким будет теперь чувствовать себя отец в опустевшем доме; в то же время он никогда не выражал ни сожаления по поводу ее отъезда, которое выходило бы за рамки общепринятых условностей, ни острого желания вновь с ней увидеться.
К этому моменту у меня сложилось совершенно отчетливое понимание ее сновидения. То, что ее брат вместе с женой и детьми уезжал по направлению к новой жизни, контрастировало с ее собственным ощущением достигнутого тупика или, точнее, отсутствия цели в ее путешествии. Брат всегда мог быть уверен в том, что он отцовский любимец, и знал, куда едет, в отличие от Анны, чья детская поездка в далекий город явно была последней отчаянной попыткой заставить отца заметить ее существование. Он оказался совсем не прочь позволить своей невинной дочери сражаться с физическими и моральными опасностями – будучи преследуемой настойчивым молодым человеком в поезде.
Я предположил, что в ее сне перемешались две фантазии. Если бы отец получил телеграмму о ее смерти, он, может быть, пожалел бы наконец о ней. Но бок о бок с этим желанием, не столько противореча ему, сколько усиливая его трагизм, было желание никогда не рождаться – как девушке, как Анне. Если бы только она могла оказаться на месте брата! Она окончила путешествие на поезде, которое символизировало ее собственную судьбу, чтобы вступить в невозможное бытие в качестве своего брата. Белая комната в частном отеле означала чрево ее матери, которая лишь ожидала прихода отца Анны, чтобы зачать ребенка мужского пола. Зонтик, сохший в прихожей, символизировал исполнивший свои обязанности мужской орган. Отец приносил новую жизнь, потому что без сына «в доме никого нет». Анна умерла – покончив с собою или в результате мер, предупреждающих зачатие, не имело значения, из-за чего именно, – и его это не волновало. Его потрясение и горе были только воплощением ее желания. Ее сон знал об этом тоже: она для него «не существовала».
Молодая женщина была поражена своим печальным видением и не намеревалась обсуждать мое толкование более подробно – за исключением одного обстоятельства прискорбного характера, о котором у нее не хватило духу рассказать мне сразу и о котором я сам умолчу до более подходящего времени. Во всяком случае, оно не меняло общего значения, которое было вполне очевидным.
Когда я в процессе обсуждения стал расспрашивать ее о характере чересчур фамильярных знаков внимания, оказывавшихся ей молодым человеком в поезде, она вспомнила забытый отрывок. Она не думала, чтобы новый материал представлял какую-то важность, но я знаю из опыта, что элементы сновидений, которые сначала забываются, а потом вспоминаются снова, относятся к числу наиболее существенных. Так оказалось и в этом случае, хотя значение фрагмента прояснилось лишь на гораздо более поздней стадии анализа.
Я сказала молодому человеку, что еду в Москву навестить Т-вых, а он ответил, что они не смогут поселить меня в доме и ночевать мне придется в беседке. Он добавил, что там очень жарко и я буду вынуждена снять с себя всю одежду.
Т-вы, объяснила она, были ее дальними родственниками со стороны матери, жившими в Москве. Ее мать и тетя в юности проводили вместе с ними каникулы, а после того, как мать Анны вышла замуж, между ними сохранились близкие отношения. Фрау Анна не была с ними знакома, но, судя по словам тети, это была сердечная и гостеприимная пара. Собственно, тетя упомянула о них как раз накануне: она с грустью вспоминала о проведенных там каникулах и жалела, что не может познакомить с ними Анну, так как была уверена, что смена обстановки была бы для ее племянницы крайне полезна. Но теперь они уже состарились, а возможно, даже не пережили всех невзгод.
На мой взгляд, этот фрагмент сновидения выражал страстное желание молодой женщины освободиться от печальных оков своей теперешней жизни и вновь обрести потерянный рай тех лет, что она прожила с матерью, то есть снова скинуть с себя платье в беседке– домике, предназначенном для блаженно жарких летних дней и ночей. Она не возражала против такого толкования, а заодно вспомнила о тех далеких днях, думать о которых казалось ей теперь и забавным, и трогательным.
Их дом в Одессе располагался среди многих акров субтропических деревьев и кустарников, сбегавших вниз к самому берегу моря. Там был крохотный частный пляж. Беседка находилась посреди небольшой рощицы в отдаленной части сада. Прежние владельцы допустили, чтобы она разрушилась, и в итоге ею почти не пользовались. В один из дней, отмеченных палящим зноем, все разбрелись по саду и дому. Отец Анны был, скорее всего, на работе, а брат, как ей казалось, на весь день куда-то уехал с друзьями. Анне было жарко и скучно, она вяло играла на пляже, где ее мать стояла возле мольберта, а это означало, что ее нельзя беспокоить. В такие моменты Анну не раз ругали за болтовню, поэтому она решила найти тетю и дядю. Она побрела через сад и в конце концов вышла к беседке. Она обрадовалась, увидев внутри дядю и тетю, но они вели себя непонятно; плечи тети были обнажены (хотя обычно она прикрывала их от солнца), а дядя обнимал ее. Объятие все не кончалось, они были настолько поглощены друг другом, что не заметили, как Анна вышла из-за деревьев. Она скользнула обратно и вернулась на пляж, чтобы рассказать матери о странном происшествии, но мать оставила мольберт и улеглась на плоской скале; она, казалось, спала. Девочка знала, при каких обстоятельствах ей ни в коем случае не следует беспокоить мать: когда та рисует, а пуще того – когда спит. Поэтому, разочарованная, она побрела обратно в дом, чтобы выпить лимонаду.
Что мог я сделать с этим воспоминанием? Оно в большой степени было окрашено взглядом взрослой женщины, но это не доказывало, что мы имели дело с фантазией. Я сомневаюсь, что мы когда-либо имеем дело с воспоминаниями детства; воспоминания, связанные с детством, — вот, пожалуй, единственное, чем мы располагаем. В наших детских воспоминаниях юные годы предстают не такими, какими они были, а такими, какими видятся нам в более поздний период жизни, когда вызываются из памяти. Молодую женщину позабавило явившееся ей воспоминание о впервые увиденном проявлении взрослой сексуальности; в то же время она была тронута, узнав как бы впервые о нежной близости между тетей и дядей в праздничной атмосфере летнего отдыха в Одессе, тем более что теперь тете больно было говорить о тех временах.
Я, однако, счел необходимым спросить ее, не явилась ли она свидетельницей чего-то большего, чем то, что ей вспомнилось. Если да, значит, память не давала ей продвинуться дальше; все же казалось крайне маловероятным, чтобы молодая супружеская чета, которая вполне могла укрыться у себя в комнате, стала подвергать себя риску оказаться в столь неловком положении. Как бы то ни было, проявление этого воспоминания в сновидении фрау Анны указывало на его важность. Было не исключено, что оно имело отношение к ее истерии; ведь те, кто окаменел от взгляда Медузы, всегда видели ее прежде, чем могли узнать ее имя.
Последующие дни и недели не принесли особого прояснения. Виной тому были, по всей вероятности, и пациент, и врач. Что касается фрау Анны, она полностью укрылась за своими оборонительными сооружениями, порой используя обострение своих симптомов в качестве предлога не являться ко мне на прием. Справедливости ради надо сказать, что боли ее были невыносимыми. Она умоляла меня устроить операцию, чтобы ей удалили грудь и яичник. Я, со своей стороны, должен признать, что все сильнее раздражался тем, как мало получал от нее помощи. Более того, я заразился ее безразличием. Рассказывая однажды о том, как она бросила кусок мяса собаке на улице, а та оказалась слишком слабой и истощенной, чтобы к нему подползти, фрау Анна заметила, что и сама чувствует себя очень похоже. Я обнаружил, что порой вообще избегаю заниматься анализом и лишь просто убеждаю ее не помышлять о самоубийстве. Я подчеркивал, что самоубийство – это только замаскированная форма убийства; но это будет бесполезной попыткой, которая вряд ли окажет какое-либо воздействие на предполагаемую жертву – ее отца. Фрау Анна сказала, что лишь невыразимые боли порой заставляют ее помышлять о том, чтобы покончить с ними таким способом. При этом она была вполне разумна и рассудительна. Если бы не ее изнурительные боли, никто не принял бы ее за истеричку. В этом крылось что-то непроницаемое, что усиливало мое раздражение. Я подумывал использовать ее скрытность в качестве предлога прекратить лечение; и все же не мог заставить себя так поступить, поскольку, несмотря ни на что, эта молодая женщина обладала характером, сообразительностью и внутренней правдивостью.
Затем произошло прискорбное событие, предоставившее мне превосходный повод прервать лечение: внезапная, совершенно неожиданная смерть одной из моих дочерей13. Возможно, подавленное настроение, в котором я находился на протяжении нескольких предшествовавших недель, было подготовкой к этой трагедии. О таких событиях не следует слишком много размышлять; впрочем, человек, склонный к мистицизму, вполне мог бы спросить, какая тайная травма в сознании Создателя преобразовалась в симптомы боли, повсюду нас окружающей. Поскольку такой склонности у меня нет, я мог назвать это только Роком и Ананке14. Вернувшись к своим обязанностям, я обнаружил письмо от фрау Анны. Помимо соболезнований по поводу моей утраты и сообщения о том, что они с тетей ненадолго отправляются в Бадгастайн15, в ее письме упоминался тот самый сон, что снился ей за несколько недель перед этим. «Меня очень встревожил элемент предсказания в моем сновидении. Я не стала бы об этом упоминать, если бы не была уверена, что он не ускользнул и от Вашего внимания. В то время я была почти убеждена, что человеком, получившим телеграмму, были Вы (по крайней мере, отчасти), но не хотела понапрасну Вас огорчать, зная, с какой нежностью относитесь Вы к своим дочерям. Я давно уже подозреваю, что, помимо всех прочих невзгод, на мне лежит проклятие того, что называют вторым зрением. Я предвидела, что двое моих друзей погибнут на войне. Скорее всего, я унаследовала это со стороны матери, по-видимому, сказывается примесь цыганской крови; но этот дар не доставляет мне радости – совсем наоборот. Надеюсь, это не огорчит Вас еще больше». Я никак не мог прокомментировать «предсказание» фрау Анны, разве что заметить, что печальные известия часто (хотя и не всегда) доставляются телеграфом. Казалось правдоподобным, что чувствительный разум пациентки разглядел мою обеспокоенность, скрытую глубоко в подсознании, судьбой дочери, живущей с маленькими детьми вдали от меня в то время, когда повсюду так много эпидемий.
То, что произошло по возвращении Анны из Гас-тайна, было совершенно неожиданно и нелогично. Настолько, что если бы я был романистом, а не ученым, то не решился бы оскорбить художественный вкус своих читателей описанием следующей стадии нашей терапии.
Она опоздала на пять минут и влетела с таким беззаботным видом, как будто просто хотела поздороваться, чтобы тут же отправиться с подругой в театр или по магазинам. Она говорила без умолку, твердым, отчетливым голосом безо всяких признаков одышки. Она поправилась килограммов на восемь и, таким образом, обрела – или вернула – все атрибуты женской привлекательности. На щеках у нее был румянец, в глазах – искорки. На ней было новое, весьма вызывающее платье, а новая прическа была ей очень к лицу. Коротко говоря, передо мной предстала не болезненно истощенная и подавленная женщина, какую я ожидал увидеть, но привлекательная, слегка кокетливая молодая дама, пышущая энергией и здоровьем. Ей даже не понадобилось сообщать мне о том, что все ее симптомы исчезли.
Я часто проводил отпуска в Гастайне, но никогда не видел, чтобы его термальные источники вызывали столь чудодейственные преображения. Именно это я и сказал, сухо добавив, что мне, пожалуй, следует отказаться от своей практики и вместо этого содержать там отель. Она буквально зашлась от смеха; затем, вспомнив о постигшей меня утрате, приняла покаянное выражение, сожалея о своей бездумной веселости. Я заверил, что ее хорошее настроение для меня как бальзам. Однако скоро стало очевидно, что она не избавилась от истерии, – та просто изменила свою направленность16. Если до этого болезнь истощала ее телесные силы жестокими болями, оставляя разум нетронутым, то теперь она отпустила ее тело, но захватила разум. Ее безудержная разговорчивость вскоре дала мне знать об овладевшей ею дикой иррациональности. Ее веселость была отчаянным юмором солдат, шутящих в окопах; попытки же участвовать в более или менее пространных обсуждениях приводили ее к сновидческим монологам, почти к гипнотическому трансу. Прежде она была несчастна и разумна, теперь стала счастливой и помешанной. Речь ее изобиловала плодами воображения и галлюцинаций; временами это была не столько речь, сколько оперный речитатив, приподнятый и лирико-драматический. Следует добавить, что, устроившись в оркестр одного из наших ведущих оперных театров, она целиком посвящала себя искусству17.
Казалось, фрау Анна не отдавала себе отчета, какое она производит впечатление, и оставалась счастливо убежденной в своем полном выздоровлении. Не сумев ничего понять из ее рассказа о пребывании в Гастайне, я предложил ей изложить свои впечатления на бумаге. Прежде она не раз охотно принимала подобные предложения, поскольку имела вкус к литературе и обожала писать – была, к примеру, заядлой сочинительницей писем. Тем не менее я оказался совсем не готов к новому литературному произведению Анны, с которым она явилась на следующий день. Видно было, что она колеблется, стоит ли вручать мне принесенную с собой книгу в мягкой обложке. Это оказалась партитура моцартовского «Дон Жуана». Как я обнаружил, она вписала свои «впечатления» от Гастайна между нотными линейками – как некий вариант либретто; и даже попыталась выдержать ритм и некоторое подобие рифмы, так что ее рукопись читалась как неуклюжие вирши. Но если бы версия Моцарта, предложенная фрау Анной, была исполнена в одном из наших оперных театров, управляющий был бы привлечен к ответственности за оскорбление общественной нравственности, – она была порнографической и лишенной всякого смысла. Она употребляла выражения, которые можно услышать лишь в трущобах, бараках и мужских клубах. Я недоумевал, где она научилась таким словам, поскольку не считал ее завсегдатаем тех мест, где их произносят.
На первый взгляд, мало что можно было почерпнуть из ее творения; очевидными были лишь некоторые ссылки на ее галлюцинации и откровенное признание в перенесении18. В ее фантазии место Дон Жуана занял один из моих сыновей – вряд ли есть необходимость пояснять, что она не была с ним знакома. Было достаточно ясно, что она выражает желание занять место одной из моих дочерей – путем замужества. Когда я поставил ее перед этим выводом, Анна довольно смущенно сказала, что это была лишь шутка, «чтобы немного меня развеселить».
Находя слишком затруднительным иметь дело с потоком иррациональных образов, я попросил ее пойти и попытаться самой отстраненно и трезво проанализировать на бумаге свой материал. Она не без оснований восприняла мою просьбу как укор, и мне пришлось заверить ее в том, что ее «либретто» показалось мне очень интересным. Через несколько дней она вручила мне школьную тетрадку, исписанную ее размашистым почерком. Затаив дыхание (в буквальном смысле, поскольку испытывала легкий рецидив астматических симптомов), она ждала, пока я бегло просмотрю несколько страниц. Я увидел, что вместо того, чтобы написать истолкование, как я ее просил, она предпочла расширить свою первоначальную фантазию, расцвечивая каждое второе слово, так что я, казалось, не получил ничего, кроме достойной Геракла задачи прочесть еще более объемный и неразборчивый документ. Хотя она в какой-то мере смягчила грубость сексуальных описаний, здесь по-прежнему властвовал эротический поток, наводнение иррационального и чувственного; волны не были столь же высокими, но покрывали гораздо более обширное пространство. Итак, я имел дело с воспламененным воображением, не знавшим границ, наподобие инфляции в те месяцы – когда чемодана банкнот не хватало и на буханку хлеба. Целый час прошел совершенно бесплодно, после чего я пообещал внимательно прочесть ее труд на досуге. Когда я это сделал, то начал различать смысл, скрытый под кричаще расцвеченной маской. Многое было чистейшим воплощением желаний, безвкусным, если не отвратительным; но наряду с этим то тут, то там встречались отрывки, написанные не без печати одаренности и настоящего чувства: описания природы «океанического» толка, перемешанные с эротическими фантазиями. Нельзя было не вспомнить слова поэта:
- Влюбленные, безумцы и поэты –
- Все из фантазий созданы одних...19
К этому времени я уже бережно хранил эту тетрадку, которая, как я убежден, могла бы научить нас очень многому, если бы мы только были в состоянии все в ней правильно истолковать.
Существует шутливая поговорка: «Любовь – это тоска по дому»; и когда человеку грезится местность или страна и он говорит себе, все еще грезя: «Мне эти места знакомы, я бывал здесь прежде», – его ощущения могут быть истолкованы как память о гениталиях или теле своей матери. Все, кто до сих пор имел возможность в познавательных целях ознакомиться с дневником фрау Анны, испытывали именно это чувство: «белый отель» им знаком, это тело их матери. Это место, где нет греха, лишенное нашего бремени раскаяния, – ведь пациентка сообщает нам, что потеряла по пути чемодан и приехала даже без зубной щетки. Отель говорит языком цветов, запахов, вкусовых ощущений. Нет необходимости пытаться применить к его символам жесткую классификацию, как пытались это делать некоторые из моих учеников: утверждать, к примеру, что вестибюль – это полость рта, лестница – пищевод (или, по мнению других, половой акт), балкон – грудь, окружающие ели – волосы на лобке, и так далее; гораздо существеннее общее настроение белого отеля, его искренняя готовность к оральным действиям – сосать, кусать, есть, жадно глотать, вбирать в себя – со всем блаженным нарциссизмом младенца, приложенного к груди. Здесь присутствует океаническое одиночество первых лет человеческой жизни, аутоэротический парадиз, карта первой нашей страны любви – набросанная со всей belle indifference20 истерии.
Как мне казалось, это свидетельствовало о глубочайшей идентификации Анной себя со своей матерью, что предшествует Эдипову комплексу. В такой идентификации для меня не было ничего особенно удивительного, за исключением степени ее интенсивности в данном случае. Грудь – это первый объект любви; ребенок, сосущий материнскую грудь, стал прототипом любой любовной связи. Нахождение объекта любви на пубертатной стадии есть не что иное, как повторное его обретение. У матери, добродушной и любящей удовольствия, Анна унаследовала пожизненный аутоэротизм21, и потому ее дневник представляет собой попытку вернуться в то время, когда оральный эротизм главенствовал над всем остальным, а связь между матерью и ребенком была нерушимой. Таким образом, в «белом отеле» нет разделения между Анной и внешним миром; все поглощается им целиком. Вновь рожденное либидо превосходит все потенциальные опасности, как описанная ею черная кошка, головокружительно ускользающая от смерти. «Хорошая» сторона белого отеля в его щедрости и радушии.
Но ни на миг нельзя пренебрегать тенью разрушительности, и менее всего – в моменты наивысшего наслаждения. Всеблагая мать собиралась поехать в обреченный отель.
Теперь мне казалось смехотворным, что я совершенно ничего не знал об Анне, за исключением того, что она страдает истерией. Возник и второй парадокс: чем больше я убеждался в том, что «Гастайнский дневник» является замечательно отважным документом, тем стыднее становилось Анне за то, что она написала столь отвратительное сочинение. Она понятия не имела, где ей приходилось слышать столь грубые выражения, равно как и то, почему она сочла возможным их употребить. Анна умоляла меня уничтожить ее писания, потому что это были только дьявольские обрывки, порожденные «бурей в голове» – которая сама по себе была вызвана радостью освобождения от боли. Я сказал ей, что меня интересует лишь проникновение к истинам, которые, как я был уверен, содержались в ее замечательном документе, и добавил, что очень рад тому, что ей удалось ускользнуть от цензора22, от кондуктора, по пути к белому отелю!
Лишь с очень большой неохотой молодая женщина согласилась пройтись вместе со мной по своему повествованию, останавливаясь там, где у нее возникали какие-либо ассоциации. Ее легкий рецидив одышки миновал, она была уверена, что полностью излечилась, и не понимала, почему я настаивал на продолжении анализа. К счастью, эффект перенесения заставлял ее с неохотой думать и о прекращении своих визитов ко мне.
– Белый отель – это место, где мы остановились, – начала она.– Я люблю бывать в горах, это такое облегчение после венской неприглядности; но мне хотелось, чтобы было еще и озеро, большое, – возле воды я себя свободнее чувствую. В отеле был зеленый плавательный бассейн, вот я и дала ему разрастись в озеро! Большинство персонажей – постояльцы отеля. Там была невообразимая смесь – люди, после войны пытающиеся восстановить свои привычки, так я полагаю. Например, там был английский офицер, с очень прямой спиной, очень обходительный, он был контужен снарядом во Франции. Он писал стихи и показал мне одну свою книжку. Меня это очень удивило, хотя стихи оказались не особенно хороши, насколько я могу судить об английском. Он все время упоминал о своем племяннике, который тоже должен был приехать, чтобы покататься на лыжах. Но я слышала, как кто-то говорил, что его племянник погиб в окопах. Однажды этот майор созвал нас на собрание и сказал, что мы под угрозой нападения. Я подумала, что смогу сочинить из этого забавную сцену – потому что, в конце концов, вокруг нас столько всего непонятного, например осенние листья или падающие звезды.
Я перебил ее, спросив, не было ли в ее детстве чего-то такого, из-за чего она так часто сравнивает падающие звезды с цветами.
– Что вы имеете в виду?
– Я помню, вы как-то говорили, что медузы под водой похожи на голубые звезды.
– Ах да! Я обычно первым делом бегала по утрам на пляж, посмотреть, сколько медуз23 наплыло к нам за ночь. Да, конечно, с этим связано очень многое из моего прошлого. У нас в Одессе горничной была маленькая японка; когда она вытирала пыль или полировала мебель, то часто рассказывала мне хокку – это такие маленькие стихотворения. Мне как-то подумалось, что было бы замечательно, если бы она подружилась с майором-англичанином из Гастайна, ведь они оба были одиноки и любили стихи. Майор был таким грустным, когда просил кого-нибудь сыграть с ним в бильярд. Это все смесь прошлого и настоящего, как и я сама. Например, русский – это мой друг из Петербурга, как я себе его сейчас представляю. Он далеко пошел, я видела его имя в газетах.
Я заметил, что портрет его вышел весьма сатирическим.
– Понимаете, он меня оставил. А если точнее, он оставил себя самого, потому что, когда мы познакомились, в нем было очень много хорошего: он мог быть влюбленным и нежным, даже застенчивым. Вот почему я его любила.
Фрау Анна остановилась, чтобы перевести дыхание, затем продолжала:
– В отеле было полно эгоистов. Они и вправду продолжали бы пописывать свои веселенькие открыточки, если бы отель сгорел, конечно, не попади они сами в огонь.
(Здесь имеется в виду часть ее дневника, написанная в форме тех открыток банального рода, какие так часто отправляют знакомым, находясь на отдыхе.)
– Там был цыганский оркестр и бледный, как сыворотка, пастор-лютеранин, а еще чудесный человечек, над которым все смеялись, потому что он был всего лишь владельцем пекарни и говорил по-простонародному; еще была большая семья из Голландии. Только старый голландец не был ботаником. Горная паучья травка – это небольшой подарок для вас– Она покраснела, улыбаясь.– Я знаю, как вы любите разные редкие штучки, вот и полистала книгу о горных растениях, и это показалось мне самым редким.
– А как насчет отставной проститутки? – спросил я.– Она тоже была в отеле?
– Нет. Или, скорее, да. Это я.
– Как это понимать?
Помедлив, она сказала:
– Я не могла совладать со своими мыслями.
Я заметил, что если неумение совладать с мыслями является безнравственным, то все мои пациентки, все самые уважаемые венские дамы в той же мере являются проститутками. Я добавил, что с большим уважением отношусь к откровенности ее признания, которое требует большого мужества.
Через две или три недели после того, как мы возобновили анализ, симптомы фрау Анны вернулись в полной силе. Это оказалось для нее тяжелым ударом. Я сказал ей, что не удивлен и что она не должна отчаиваться. Как я и предупреждал, ремиссии случаются довольно часто, но симптомы будут возвращаться снова и снова, если мы не доберемся до истоков ее истерии. С большей уверенностью, чем чувствовал сам, я убеждал ее, что мы все ближе продвигаемся к свету в конце тоннеля.
Перечитывая ее дневник, я вновь был поражен буйной и бесстыдной энергией сексуальности. Я спросил ее, были ли у нее отношения с кем-нибудь еще, помимо студента А. в Петербурге и ее мужа, и она ответила подчеркнуто отрицательно.
В таком случае ее половая жизнь ограничивалась краткой связью в восемнадцать лет и несколькими месяцами в начале ее замужества. Я не мог не заподозрить, что эта женщина, безусловно очень страстная и способная к сильным чувствам, не могла одержать победу над своими сексуальными потребностями без жестокой борьбы и ее попытки подавить этот самый мощный изо всех инстинктов привели ее к серьезному умственному истощению.
Пора было решительно браться за центральную нарциссическую страсть, описанную в ее дневнике. Потому что, используя аналогию с ее любимым видом искусства, можно было сказать: в пределах театра материнского тела только два значительных персонажа пели на сцене свой любовный дуэт, как бы много вспомогательных фигур ни было между ними. Так, по крайней мере, мне это представлялось.
О своем муже, с которым она давно не поддерживала никаких отношений, фрау Анна всегда говорила так, что с уверенностью можно было заключить: она его по-прежнему любит. Она ни в малейшей степени не обвиняла его в том, что они расстались; он для нее во всех отношениях был замечательным: верным, предупредительным, великодушным и мягким. Ответственность за разрыв целиком лежала на ней, но причина, которую она постоянно выдвигала, была явной отговоркой: она, дескать, больше всего на свете хотела рожать ему детей, но пришла к убеждению, что, если у нее когда-либо будет ребенок, это не принесет ничего, кроме горя. Хотя она чувствовала угрызения совести за то, что сделала своего мужа несчастным, было бы намного хуже отказывать ему в его праве на потомство. Хорошо еще, говорила она, что они по ее настоянию практиковали coitus interruptus24; это значит, что он может аннулировать свой брак и жениться на ком-нибудь, кто принесет ему счастье. Она не хотела или не могла рассказать обо всем подробнее, и нет нужды говорить, что я нисколько не был удовлетворен ее объяснением.
Считая, что нарциссические фантазии дневника Анны могут быть очень тесно связаны с ее замужеством, я однажды спросил ее, кого она подразумевала под изображенными ею любовниками.
– Помимо того, что молодой человек был моим сыном! – добавил я.
Но ее оборона была все еще прочна. Она настаивала на том, что моделью для ее любовников послужила чета новобрачных, которые приехали провести медовый месяц в Гастайне. Нескромно ведя себя на людях, они стали притчей во языцех. Горничные жаловались, что они по утрам очень долго спят; на экскурсии же они вели себя совершенно скандально, причем прямо под носом у Анны и ее тети, хотя надо признать, что не настолько скандально, как любовники в ее дневнике. Их поведение ее и потрясло, и позабавило; но молодая пара еще и тронула ее до глубины души, потому что ее дар Кассандры подсказал ей, что молодому мужу жить осталось недолго.
– А вас в юной даме нет вовсе? – спросил я с иронией.
– Естественно, есть! Я же вам говорила.
– Со своим мужем.
– Не совсем. В основном я думала о тех новобрачных.
Она теребила свой крестик.
– Ну конечно! Дальше вы мне скажете, что ваши новобрачные подружились с корсетницей и пригласили ее к себе в постель!
– Нет, конечно же, нет! Скорее всего, это была мадам Р.
Это не явилось неожиданностью – она всегда с исключительной теплотой говорила о своей петербургской подруге и наставнице. Я спросил ее, почему она сделала мадам Р. корсетницей.
– Потому что она всегда подчеркивала значение дисциплины, если вы хотите чего-нибудь добиться в балете. Самодисциплина, доходящая до боли.
– Так белый отель...
– Это просто моя жизнь, понимаете! – перебила она несколько раздраженно, как бы желая вместе с Шарко сказать: «Ја n'empeche pas d'exister »25.
– А ваша подруга была склонна к легкомысленным приключениям? – спросил я.
– Ни в коем случае! Ведь она еврейка, обращенная в православие, а вы знаете, что более ревностных христиан не бывает!
Фрау Анна добавила, что много думала о замужестве своей подруги (надеясь, что они здоровы и счастливы в эти мрачные времена) и о мистической образности Песни Песней.
– Из них получилась идеальная пара. Счастье, что она нашла себе такого замечательного мужа. Он уже, конечно, немолод, но некоторые мужчины к старости делаются привлекательнее.
Возбужденная, она умолкла, и я спросил ее, не могло ли между ней и мадам Р. появиться какое-либо соперничество. Когда она отрицала это предположение, ее хрипота и одышка усилились, а рука непроизвольно прижалась к груди. Я напомнил, что их сближение очень ее удивило.
– Вы никогда не думали, что его интерес направлен на вас, фрау Анна?
Она не ответила, но покачала головой, пытаясь вздохнуть.
– Но разве вас не оттолкнула в сторону эта дама, в вашем дневнике? – настаивал я.– В вашу постель вторглась соперница, разве не так?
– Ничего подобного! – ответила она со страданием в голосе. Вслед за этим, находясь в болезненном состоянии, она допустила удивительное признание: – Если хотите знать, это написано о нашем с мужем медовом месяце. Здесь вы правы. По крайней мере, эта часть. Две женщины на самом деле одна. Понимаете, я думала, что, если бы только обладала живостью и оптимизмом, присущими моей подруге несмотря на все, через что ей пришлось пройти, я не испытывала бы такого чудовищного напряжения.
– Почему вы были в напряжении, фрау Анна?
– Боялась, что не смогу оправдать его ожиданий.
– Понимаю. Он, естественно, полагал, что вы девственница, и вы опасались, что все откроется?
– Да.– Она опять дотронулась до крестика.
Я сказал, что она транжирит мое время; что больше не могу выносить ее постоянную ложь; что если она не будет со мной полностью откровенна, в продолжении анализа нет никакого смысла. Наконец, с помощью подобных угроз, мне удалось вытянуть из нее правду о ее замужестве. Его интимная сторона оказалась не разочарованием, а совершенным бедствием – кошмаром, по крайней мере с ее точки зрения. В этом были виноваты галлюцинации – она никогда не была полностью от них свободна, но в тот период они мучили ее постоянно. Они вставали перед глазами, когда бы ни происходило сношение, и были такого же навязчивого характера, как описано в ее дневнике, отличаясь только в деталях. Наводнение и пожар в отеле можно связать с гибелью ее матери, но две остальные галлюцинации, о падении с большой высоты и о похоронной процессии, погребаемой лавиной, были для нее необъяснимы; последняя была наиболее частой и самой ужасающей, потому что она страдала клаустрофобией.
Она не думала, чтобы муж о чем-то таком подозревал. Разве вы не можете представить, говорила она, какая это была пытка – видеть перед глазами эти сцены, притворяясь в то же время, что находишься на вершине блаженства? И разве не правда, что продление такого брака причинило бы мужу великое зло?
Она объясняла свое нежелание признаться во всем этом раньше тем, что не хотела показаться в чем-то обвиняющей своего мужа. И была непоколебимо уверена, что никакой его вины не было. Он был нежен, терпелив и искусен; она любила все интимные ласки, ведущие к соитию; точнее – любила до тех пор, пока знание о неизбежности галлюцинаций не заставило ее ненавидеть даже прелюдию к акту. Впрочем, сказала она, его поведение в постели не могло играть никакой роли, – она уверена, что галлюцинации возникали только как предупреждение о том, что ей ни в коем случае нельзя понести ребенка, как она уже говорила мне раньше. Даже прерванные половые акты содержат элемент риска.
В Гастайне она примирилась со своей бездетностью, почему к ней и вернулось здоровье. Она чувствовала себя способной сублимировать свои желания и потребности; но в венском зловонии они опять начали ее мучить, и поэтому ее симптомы возобновились.
Вряд ли теперь можно не согласиться, сухо сказала она в заключение, что блаженство, описанное в ее дневнике, никак нельзя соотнести с ее собственным браком; «автобиографическими» были только катастрофы. Она заметила также, что если в ком-либо и намеревалась изобразить своего мужа, так это в немце-адвокате, которому она дала имя Фогель26. Я выразил недоумение, и фрау Анна сказала, что сама не знает, почему представила его в таком черном цвете, и готова на все, чтобы это исправить. Да, ее муж и его родственники порой выражали умеренно-антисемитские взгляды; но реже и не столь явно, как большинство других ее знакомых. Между ними никогда не было никаких неприятностей – по той простой причине, что она не чувствовала необходимости рассказывать мужу об этом незначительном аспекте своего происхождения27. Ее очень огорчала злобная карикатура на превосходного молодого человека. Я заверил ее, что это совершенно понятно: она вынуждена была причинить ему страдание, что для нее самой было очень болезненным; за эту-то боль она ему и мстила.
Вскоре после того, как вскрылись сексуальные проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться во время своего замужества, мне удалось вызвать из ее прошлого еще одно неприятное воспоминание. Я дал ей ознакомиться с опубликованной незадолго до этого историей болезни28, и она настойчиво хотела обсудить со мной одержимость этого пациента коитусом morefemrum29(обыкновенно со служанками и женщинами из простонародья). Это, казалось, чрезмерно ее интересовало, что, конечно, напомнило мне эпизод в конце ее дневника. Я заметил по данному поводу, что нахожу странным ее знакомство со способом полового акта, не являющимся общепринятым в образованных кругах общества. Пациентка явно расстроилась, ей было трудно говорить; но когда она совладала с собой, то поведала мне о случае, связанном с А. из Петербурга, отцом ее нерожденного ребенка.
Это случилось как раз в то время, о котором она прежде говорила как о единственном радостном воспоминании, касающемся его, – когда они совершали прогулку на яхте по Финскому заливу. Они встречались уже около трех месяцев, и между ними возникла очень романтическая привязанность – но все еще «белая», если использовать терминологию фрау Анны. На яхте было около десяти молодых людей. Все началось превосходно. Они блаженствовали, мешая серьезные разговоры с неимоверными дозами спиртного, предоставленного состоятельным отцом А. Позже, на второй день, Анна серьезно поссорилась со своим другом. Это в основном касалось мадам Р., которая имела обыкновение приглашать Анну и еще нескольких учениц к себе домой для более свободного общения и культурных развлечений. А. обвинял Анну в том, что она продала свою душу эстетизму. Их ссора обострялась тем фактом, что он и его друзья начинали склоняться к необходимости политического насилия, а покойный муж мадам Р. был убит бомбой, предназначавшейся для государственного чиновника. Анна, на примере горя и одиночества своей наставницы воочию видевшая последствия актов насилия, заявила А, что выходит из их группы.
Пьяный и разъяренный, А. совсем перестал походить на молодого человека, которого она любила. Блаженная прогулка на яхте обернулась для нее зловещим кошмаром, приобрела тональность «Бесов» Достоевского. Ее друг подпалил ей сигарой волосы и позволил себе еще несколько выходок подобного рода. Она сказала ему, что между ними все кончено, и отправилась к себе в каюту, где долго плакала и наконец заснула. Спустя некоторое время ее потревожили, она проснулась и увидела омерзительное и ужасающее зрелище: А. и другая молодая женщина совершали половой акт на койке напротив30. Нисколько не стыдясь своего поведения, он отпускал в адрес Анны грубые, глумливые замечания и, по всей видимости, нарочно хотел ее разбудить. Анна не стала дожидаться окончания прогулки – с детства будучи отличной пловчихой, она прыгнула в море и поплыла к берегу.
К ее огорчению, несколько недель спустя она позволила ему убедить себя, что он раскаялся и по-прежнему ее любит. Он во всем обвинял алкоголь, перевозбужденную атмосферу времени и их сексуальное воздержание. Она приняла его обратно и на короткое время стала его любовницей. Как и позже, с мужем, у нее появлялись болезненные галлюцинации. Она переехала к нему на квартиру. Забеременела. Затем выяснилось, что он уехал на юг в сопровождении той самой молодой дамы с яхты. В это ужасное время жизнь ее была спасена дружеским отношением мадам Р., ибо Анна начала уже бродить по берегам Невы, раздумывая, а не покончить ли со всеми своими невзгодами разом; она была убеждена, что после того, как с ней случился выкидыш, она бы так и поступила, если бы не доверилась своей наставнице и не была принята желанной гостьей в ее доме.
Воскрешение в памяти образов того периода жизни было настолько болезненным для пациентки, что я долго не мог собраться с духом, чтобы спросить, почему несколько недель назад она рассказывала мне об этой прогулке на яхте в таких радужных тонах. Когда наконец я задал ей этот вопрос, она притворилась, что я перепутал две разные прогулки.
Ее боли оставались по-прежнему сильными; она плохо спала и, опять усадив себя на диету из апельсинов и воды, потеряла весь тот вес, который было вернула. Как-то раз она мне сказала:
– Вы говорите, что моя болезнь, вероятно, связана с какими-то событиями в раннем детстве, о которых я забыла. Но даже если это и так, вы не можете изменить того, что произошло. Как же вы думаете помочь мне в таком случае?
Я ответил:
Несомненно, судьбе было бы легче избавить вас от страданий, чем мне. Но мы достигнем многого, если сумеем добиться, чтобы истерия сменилась обычным неблагополучием.
Именно в этот период болезненно долгого распутывания таинственного недомогания моей пациентки я начал связывать ее беды с моей теорией инстинкта смерти. Туманные идеи моей наполовину написанной статьи «По ту сторону принципа удовольствия»31 начали почти неощутимо приобретать конкретные очертания по мере того, как я размышлял о трагических парадоксах, управлявших судьбой фрау Анны. Она жаждала удовлетворять требования своего либидо, но в то же время существовала некая сила, природы которой я не понимал, заставлявшая ее отравлять родник своего наслаждения у самого истока. У нее, по ее собственному признанию, был необычайно сильный инстинкт материнства, но над нею довлел не подлежащий обжалованию указ некоего самодержца, которого я не мог назвать, запрещающий иметь детей. Она любила вкусно поесть, но не могла этого делать.
Странным также (хотя многие годы занятий психоанализом почти разучили меня видеть в этом что-то странное) было побуждение ее души повторно переживать ночь шторма, когда она узнала о смерти матери в охваченном пожаром отеле. Я уже говорил, что в некоторые мгновения выражение лица фрау Анны напоминало мне лица жертв военных неврозов. Нам до сих пор неясно, почему эти несчастные заставляют себя снова и снова переживать во сне те события, которые привели к получению травмы. Но дело также и в том, что все люди, не только невротики, выказывают признаки иррациональной склонности к повторению. Я наблюдал, например, за игрой своего старшего внука: он снова и снова выполнял действия, которые никак не могли быть ему приятными, – действия, связанные с отсутствием его матери. Кроме того, некоторые люди на протяжении всей жизни склонны поступать во вред самим себе. Я начал рассматривать фрау Анну не как женщину, отделенную от остальных своей болезнью, а как человека, в котором истерия усилила и высветила повсеместную борьбу между инстинктом жизни и инстинктом смерти.
Не присутствует ли в наших жизнях «демон» повторения? И не в том ли он коренится, что все наши человеческие инстинкты совершенно консервативны? И если это соответствует истине, не может ли быть так, что все живые существа тоскуют по неорганическому состоянию, из которого они возникли по воле случая? Зачем еще, размышлял я, существует смерть? Ибо смерть не может рассматриваться как абсолютная необходимость, основанная на самой природе жизни. Смерть – это скорее вопрос целесообразности. Так развивался спор в моем сознании.
Фрау Анна, по существу, просто была на переднем крае, а ее дневник был самым последним донесением. Но гражданское население, если можно так назвать здоровых, было тоже слишком хорошо знакомо с постоянной борьбой между инстинктом жизни (или либидо) и инстинктом смерти. Дети, да и военные, строят башни (из кубиков или кирпичей) лишь для того, чтобы затем сшибить их наземь. Совершенно нормальные любовники знают, что час победы есть также и час поражения, и поэтому смешивают похоронные венки с лаврами победителей, называя завоеванную ими землю la petite mort32. He в меньшей степени и поэты знакомы с этим утомительным раздором:
- Ach, ich bin des Treibens mude!
- Was soil all der Schmerz und Lust?33
Размышляя таким образом об универсальном аспекте случая фрау Анны, о битве Эроса и Танатоса, я случайно нашел причину ее заболевания. До этого момента я не мог установить никакого конкретного события, которое могло бы спустить с привязи ее истерию. Боли в груди и яичнике начались, когда она была в гуще дел, радовалась успешно возобновленной карьере и с нетерпением ожидала первого отпуска своего мужа, уверенная, что отныне все будет хорошо. Она не могла припомнить ни одного неприятного эпизода, который мог бы послужить причиной ее болезни. Однажды вечером она легла спать – совершенно счастливая, написав мужу необычайно нежное письмо, в котором намекала, что была бы не прочь забеременеть во время его предстоящего отпуска, – и той же ночью ее разбудили начавшиеся боли.
Однажды она пришла ко мне на прием в необычно веселом расположении духа. Она объяснила, что получила письмо от своей старой подруги из Петербурга, с прекрасными вестями: и она, и муж живы-здоровы, хотя и находятся в очень стесненных обстоятельствах, и Господь благословил их сыном. Хотя ему было уже три года, она напоминала фрау Анне в ее обещании быть крестной матерью, если когда-либо предоставится счастливая возможность. Это было первое известие о подруге, полученное Анной за почти четыре года; причем с тех пор, как началась война, она впервые получила его от нее самой. Поэтому нетрудно было понять ее радость.
Однако, пока она восторгалась тем, что у нее будет маленький крестник, боли ее, до тех пор умеренные, резко усилились. Они были такими жестокими, что она умоляла разрешить ей пойти домой. Я не хотел отпускать ее, не попытавшись установить причину внезапного ухудшения, и спросил, не испытывает ли она ревности к счастью мадам Р. Бедняжка, плача от муки, решительно отрицала любую подобную мысль как недостойную.
– Это было бы совсем не удивительно и не опорочило бы вас, фрау Анна, – сказал я.– В конце концов, если бы вы не оставили своего мужа, Господь, несомненно, в равной мере благословил бы и вас.
Всхлипывая, она продолжала отрицать какую-либо ревность, но созналась в правде, начав теребить крестик. Я почувствовал, что пришло время сказать ей, каким «даром Божьим» является для меня порой ее распятие; но прежде чем я успел объяснить причину, она взволнованно сказала, что теперь подробнее вспомнила, как начались ее боли.
Прежде чем написать той ночью письмо мужу, она спокойно пообедала с тетей после вечернего концерта. Она вспомнила теперь, что это было в тот самый день, когда она получила последнюю весть о мадам Р. Эта весть достигла ее благодаря счастливой случайности. Ее муж писал, что допрашивал офицера из русской столицы и в минуту меньшей официальности обнаружилось, что их жизни связывает тонкая нить совпадения. Офицер был знаком с подругой Анны и сообщал, что та пребывает в добром здравии и (по его мнению) ожидает ребенка. Эту волнующую новость фрау Анна обсуждала со своей тетей. Может ли это быть правдой? Разве не опасно обзаводиться ребенком уже в пожилом возрасте? Какой подарок на крестины послать ей, когда позволят обстоятельства? Тетя предложила подарить крестик, и Анна согласилась. Это все, что она помнила о том разговоре. Она пошла к себе, написала счастливое любовное письмо и ночью проснулась уже больной.
Во время своего рассказа молодая женщина, чьи боли несколько ослабли от взволновавшего ее воспоминания, поглаживала свой крестик, и я принялся объяснять ей, почему эти ее невольные жесты так важны для меня. Мои объяснения привели к тому, что жестокая боль вернулась к ней в полной мере, но они же заставили ее вспомнить множество забытых подробностей того вечера и тем самым помогли развязать узел ее истерии. Ясно без слов, что это произошло для нее далеко небезболезненно и что она постаралась применить все свои увертки. Суть ее рассказа сводилась к следующему.
Новость из Петербурга ее столь же обеспокоила, сколь и обрадовала. Она призналась, что это было связано с пониманием того, что, если бы она позволяла мужу полное сношение, она сама к тому времени вполне могла бы забеременеть. Но она отбросила это легкое беспокойство, начав обсуждать вопрос о подарке на крестины. Тете случилось упомянуть, что ее собственный крестик был ей подарен при рождении и она носит его не снимая со времени первого причастия. При этих словах она с гордостью коснулась своего серебряного крестика. Как он уже износился, заметила она, – в отличие от креста Анны; по той простой причине, добавила она, что мать Анны сорвала его с груди в день свадьбы и никогда больше не надевала. Этот жест был продиктован злостью, вызванной враждебностью ее родителей. С того дня она вообще прекратила соблюдать религиозные обряды. Ее крест лежал нетронутым в шкатулке с драгоценностями, пока наконец не попал к Анне.
Затем тетя позволила себе несколько бестактное замечание о суетности и эгоистичности своей сестры, но тут же раскаялась, принялась хвалить ее и весело говорить о тех далеких днях. Она редко говорила о прошлом, так как находила это слишком болезненным, и фрау Анна была очень рада поговорить о матери, которой почти не знала. Тетя вспоминала о красоте своей сестры – а значит, и о своей тоже, ибо в ту пору, когда она еще не стала старой и морщинистой, они, без сомнения, были очень похожи. В подтверждение своих слов она достала фотоальбом и с улыбкой вспомнила, как все обычно говорили, что их можно различить, лишь увидев, у кого из них есть крест на груди! Анна, глядя на двух прелестных молодых дам, тоже улыбнулась, смутно припоминая, что действительно слышала нечто такое. Затем в ее сознании вспыхнуло совершенно забытое воспоминание: случай в беседке. То, как оно ей тогда явилось – и как она мне его теперь изложила, – в одном отношении существенно отличалось от того, что мне уже приходилось слышать раньше.
Девочке было скучно и жарко, она сердилась на мать за то, что та так поглощена своей картиной. Все остальные после полдника исчезли вообще. Анна решила вернуться в прохладу дома и немного поизводить свою няню. Она забыла, что у няни был короткий день, так что вместо этого выпила лимонаду и в одиночестве поиграла с куклами в детской. Когда она снова вышла на воздух, было уже не так жарко. Она пошла на разведку в парк и набрела на сцену в беседке. Увидев непривычно обнаженные плечи и грудь тети, испугалась и скрылась обратно в кусты. Затем спустилась на пляж, чтобы попросить мать объяснить, почему тетя и дядя ведут себя так странно, но к этому времени мать дремала на скале. Анна знала строгое правило не беспокоить взрослых, когда они отдыхают, так что вернулась в дом и снова стала играть в куклы. В глубине души она была рада, что мать спит на скале, – потому что, конечно же, знала, что там лежит вовсе не ее мать. Не считая сотни тайных признаков, по которым ребенок отличает от других свою мать, она, без сомнения, видела там тетино платье с высоким воротником и серебристым отблеском на груди, которые так резко контрастировали с ослепительной наготой женщины в беседке.
Но что, в таком случае, ее мать и весельчак-дядя делали в беседке? Это ее беспокоило и озадачивало, но за игрой она обо всем позабыла. Взрослая Анна, когда это воспоминание – со всеми преувеличениями опытности – снова вспыхнуло у нее в сознании, немедленно предположила самое худшее; и, так же, как и девочка, нашла это невыносимым. Ее хрупкое чувство собственного достоинства поддерживал ось верой в материнское благочестие. Достаточно одной трещины, чтобы вера эта разбилась вдребезги, раздавив под собой и молодую женщину. Итак, единственное объятие превратилось в бесконечное кровосмешение под сенью бесчисленных беседок и неисчислимых летних вечеров. Она не носила распятия, потому что была его недостойна: так шли мысли Анны, несмотря на то что она про-должата слушать воспоминания тети. Затем неожиданно пришла еще одна мысль: она, Анна, также недостойна его носить; ей тоже следует сорвать его с шеи34.
Но по какой причине? Она не знала. Она исполняла свои религиозные обязанности и вела безупречную жизнь. Чуть ли не слишком безупречную! Не ревновала ли она, в каком-нибудь смысле, к матери? Сколь испорченной та ни была бы, но какое же наслаждение, наверно, она испытывала, если была готова бросаться к нему в объятия при малейшей возможности, несмотря на любой риск! Всякий раз, когда она оставляла Анну с няней и возвращалась много дней спустя, она, конечно, ездила к нему. Во мне, должно быть, не хватает чего-то очень важного, думала она; потому что я не могу помыслить о поездках за сотни верст – чтобы потом гореть в адском пламени! Что же со мной не так? Ясно, что ее яд все еще бежит во мне, но совсем, совсем в ином направлении. И я даже не могу разделить свое бремя с другим человеком, как было дано моей матери. Я совершенно одна. Правда о себе, которую молодая женщина не признавала, нежданно прожгла ее изнутри, как молния прожигает мрак: я проехала бы сотни верст – прямо сейчас, будь это возможно, – чтобы повидать свою подругу! Но она сейчас вынашивает ребенка, я еще более одинока, чем когда-либо!
Теперь все было ясно. Я слушал ее взволнованные слова с растущей уверенностью в том, что все разрешилось; это ни в коей мере не противоречило определенным подозрениям, которые у меня возникли еще раньше. Но прояснение истины оказало на бедняжку оглушающее воздействие. Она металась, она рыдала в голос, когда я ей сухо обрисовал ситуацию:
– Итак, вам не нужен ребенок вообще, вам нужен ребенок от мадам Р.– если бы только природа сделала подобное возможным.
Она жаловалась на самые чудовищные боли, делала отчаянные попытки отвергнуть объяснение: это неправда, я ее заговорил, она была неспособна на такие чувства, она никогда бы их себе не простила, она имела в виду только то, что сейчас ее подруга еще меньше, чем прежде, окажется способна посочувствовать ее неестественному ужасу перед беременностью. Я опровергал ее с помощью непреложных фактов. Разве не существенно то, что она страдала от своих изнурительных галлюцинаций во время единственной сексуальной активности, разрешенной ей ее сознанием? Что все долговременные и плодотворные отношения имели у нее место только с женщинами? Что у нее были сильнейшие материнские инстинкты, однако, когда дошло до дела, она совершенно изменила свое отношение к постоянным домашним узам, которые влечет за собой материнство? Что в ее дневнике мадам Р. (в образе «мадам Коттен») обрисована куда более живо, нежели молодой человек? Разве не ничтожество он по сравнению с мадам Коттен?
Бедная молодая женщина все еще противилась принять объяснение. Некоторое время ее симптомы оставались очень сильными. Степень страдания и сила ее сопротивления не ослабевали до тех пор, пока я не сказал ей в утешение, что, во-первых, мы не несем ответственности за свои чувства, а во-вторых, ее поведение и сам факт того, что она в этих обстоятельствах заболела, в достаточной мере свидетельствуют о ее нравственности. Ибо за все приходится платить, и ценой избавления от невыносимого знания явилась истерия. К тому времени, как она пришла той ночью к себе, она уже настолько погребла знание о своей гомосексуальности, что смогла написать своему мужу необычайно страстное письмо. Несколькими часами позже начались ее боли. Отвергнутая Медуза потребовала плату. Но плата стоила того, чтобы ею пожертвовать, потому что альтернатива была бы еще хуже.
Когда я объяснил ей это, ее сопротивление ослабло, хотя и не исчезло полностью. Точнее сказать, она в одно и то же время и принимала, и отвергала мое объяснение, стремясь перевести разговор на менее устрашающее открытие, касающееся поведения ее матери. Поделившись своим детским воспоминанием, она испытала ощутимое облегчение; когда же мы приступили к его обсуждению, ее состояние стало заметно улучшаться.
Я не мог не восхититься, каким экономным способом ее сознание сделало это воспоминание безвредным, обрезав его, словно единым взмахом ножниц, так, что в нем не осталось ничего более вопиющего, нежели нежное супружеское объятие. Но, однако, я все еще не был уверен в том, что именно она видела. Если под этим не скрывалось какое-нибудь еще более опустошительное открытие, то речь шла всего лишь об объятии между ее склонной к порывам чувствительности матерью и дядей; любому, кто мог бы забрести в тот уголок сада, оно показалось бы сравнительно невинным. Она соглашалась с этим – теоретически; но тем не менее была убеждена, что мать и дядя были любовниками, – она каким-то образом чувствовала это даже в четыре или пять лет. В качестве улики она указала на то, какой взволнованной и сверх обычного ласковой делалась ее мать, когда приближались приезды ее зятя. Она напомнила о депрессиях, в которые мать впадала с приходом осени, о ее поездках в Москву и о щедрых подарках, с которыми она возвращалась домой, – как будто хотела загладить свою вину. Анна вообще не верила, что мать ездила в Москву: скорее всего, в какое-нибудь укромное место между Одессой и Веной – возможно, в Будапешт – на свидания со своим любовником. (Будучи преподавателем языков, он, несомненно, посещал множество конференций...) Она вспоминала сконфуженное молчание и до, и после того, как ее мать привезли домой хоронить; нежелание говорить об умершей ни тогда, ни позже; тот факт, что тетя не приехала на похороны, никогда больше у них не появлялась и теперь почти никогда не упоминает о том периоде своей жизни. Когда я возразил, что для всего этого существуют превосходные и более правдоподобные объяснения, она рассердилась, словно ей нужно было утвердиться в греховности своей матери. С подозрительной внезапностью она вспомнила о том, что матросы, оскорбившие ее, когда ей было пятнадцать, позволяли себе непристойные замечания о ее матери – дескать, все знают, что она погибла с любовником в Будапеште. В грубых выражениях они предполагали, что обугленные тела невозможно было разъединить.
Теперь она, конечно, утверждала, что ее дядя скончался не от сердечного приступа в Вене через несколько месяцев после смерти ее матери, а умер в том же пожаре в отеле. Отец и тетя придумали ложную версию, чтобы положить конец сплетням, но, как это обычно бывает в таких случаях, все в Одессе, вероятно, знали, что было на самом деле, за исключением Анны и ее брата. Когда я спросил, не стоит ли ей обратиться с этими подозрениями к тете, она ответила, что не хочет бередить старые раны. Я все же настаивал, чтобы она сделала это или, по крайней мере, полистала подшивки газет, так как был уверен, что все это дикие фантазии. Теперь ей было настолько лучше, что она сама стала отправляться на прогулки по городу. И однажды, вихрем ворвавшись в мой кабинет, она с торжествующим видом протянула мне две фотографии. На одной, помятой и пожелтевшей, была запечатлена могила ее матери, на другой, недавно сделанной, – могила дяди. Она сказала, что лишь после долгих поисков нашла место его захоронения, – ведь тетя его не посещает. По фотографии было видно, что могила сильно запущена. К моему удивлению, даты смерти на обеих могилах, слабые, но различимые, были одинаковыми. Мне оставалось только признать, что под грузом такого свидетельства чаша весов склонилась в сторону ее версии событий. Она улыбнулась, наслаждаясь победой35.
Пора подытожить все, что мы знаем о случае этой несчастной молодой женщины. Обстоятельства ее детских лет сложились так, что она была обременена тяжким чувством вины. Каждая девочка, достигая стадии Эдипова комплекса, начинает лелеять деструктивные импульсы, направленные против матери. Анна не была исключением. Она хотела, чтобы мать «умерла», и – как будто она потерла волшебную лампу – мать умерла на самом деле. Благодаря змею, объявившемуся в ее раю (пенису дяди), поле для Анны было расчищено, и она могла сделать то, к чему стремится каждая маленькая девочка, – родить своему отцу ребенка. Но вместо того, чтобы принести счастье, смерть матери заставила ее испытать страдания. Она узнала, что умереть означает навсегда остаться в холодной земле, а не задержаться в отъезде на несколько дней дольше. Ее матереубийство не было вознаграждено любовью отца – напротив, он стал холоднее и отчужденнее, по всей видимости, наказывая ее за чудовищное преступление. Анна сама испытала изгнание из рая.
Охраняемая любовью заместительниц матери, нянь и гувернанток, она была наказана – и опять мужчинами, – когда ее напугала и оскорбила толпа матросов. От них она узнала, что мать ее, возможно, заслужила смерть, ибо была дурной женщиной. Но к этому времени холодность отца по отношению к ней заставила ее безмерно превознести мать; слова матросов, ничем не подкрепленные, были погребены в подсознании, как и память об увиденном в беседке. Как раз в это время у нее появились симптомы одышки и астмы – возможно, в качестве мнемонического символа удушливого чада пожара, – а отношение отца доказало ей раз и навсегда, что он совершенно равнодушен к ее благополучию, и она вычеркнула его из своего сердца, решив начать новую, самостоятельную жизнь.
В столице она имела несчастье сойтись с недостойным ее человеком, обладавшим садистскими и довольно зловещими чертами характера. Следовало, однако, предполагать, что она выберет себе любовника именно такого типа, потому что к семнадцати годам у нее уже сформировался стереотип отношений с мужчинами. Также следовало предполагать, что сексуальный контакт с А. обернется неудачей, равно как и то, что с нею подружится женщина и спасет ее, но не прежде, чем случится еще худшее. В доме мадам Р. ее самооценка была восстановлена, а материнская привязанность вдовствующей подруги помогла укрепить идеализированное представление о материнской любви – подлинной первой любви. Во фрау Анне начали формироваться чувства гомосексуальной природы, хотя она не могла сознаться в них самой себе, не говоря уже о мадам Р. К счастью, она смогла пережить повторный брак своей подруги, благодаря тому, что в ее жизнь снова вошла тетя – женщина, чьи материнские чувства не находили выхода и которая, в сущности, была сверхъестественным образом ее матери. Соблазнительно расценить открывшийся в это время у Анны музыкальный талант (особенно если учесть, что он нашел выражение в богатых тонах выбранного ею инструмента) как непроизвольный «расцвет», обусловленный восстановленным чувством собственной значимости.
Подстегиваемая желанием доказать самой себе, что способна на нормальные половые отношения, она нашла себе мужа. Можно было предсказать, что их отношения не сложатся, но она не хотела признать неудачу. Должно быть, она втайне испытывала облегчение, когда их разлучила разразившаяся война. Однако потребовалось серьезное душевное расстройство, чтобы она положила конец своему замужеству, объясняя это (себе и другим) тем, что будет не в состоянии справиться с детьми.
Новостей от мадам Р. и случайного замечания тети оказалось достаточно для того, чтобы возникла угроза опрокинуть все, чего она с таким трудом добилась. Ее брак был лицемерием; ее музыка, по крайней мере отчасти, – сублимацией подлинных желаний. Невыносимую идею нужно было подавить любой ценой, и ценой этой стала истерия. Симптомы, как это всегда бывает с бессознательным, соответствовали причине: боли в груди и яичнике возникли из-за неосознаваемой враждебности по отношению к своей искаженной женственности, а отсутствие аппетита – из-за всеохватывающей ненависти к себе, желания исчезнуть с лица земли. Вследствие же того, что ей открылись подлинные обстоятельства смерти матери, у нее возобновилась одышка, мучившая ее в пубертатный период. Остается неясным, почему боли избрали левую сторону ее тела. Истерия нередко закрепляет свои позиции в тех частях тела, где имеются физические изъяны в конституции, при условии, что они соответствуют ее первичному символизму; поэтому возможно, что пациентка была предрасположена к заболеваниям левой груди и яичника, которые проявили бы себя позже. С другой стороны, не исключено, что левосторонний характер болей был обусловлен воспоминанием, которое так и не всплыло на поверхность. Никакой анализ не может быть исчерпывающим – у истерии причин больше, чем корней у дерева. Так, уже на довольно поздней стадии анализа у пациентки проявилась легкая фобия, касающаяся лицезрения себя в зеркале; она утверждала, что от этого у нее возникает нервная дрожь. Эта фобия, к счастью краткосрочная, так и не нашла удовлетворительного объяснения.
Анализ случая фрау Анны оказался менее завершенным, чем большинство других. Поскольку она чувствовала себя практически выздоровевшей, ей не терпелось возобновить занятия музыкой. Между нами стали возникать разногласия, которые мне были по-своему приятны, – они означали, что она вновь обретает независимость. Большинство из них касались моей оценки ее привязанности к мадам Р.; временами она по-прежнему не желала признать присутствия в себе гомосексуального начала. Мы оба чувствовали, что нам пора прекратить наши встречи, и расстались друзьями.
Я сказал ей, что она вылечилась ото всего, кроме жизни (если так можно выразиться). Она этого не оспаривала. Она ушла от меня с хорошо продуманным руководством по выживанию, памятуя о том, что ее существование всегда будет нелегким и очень часто – одиноким. Ближе к концу наших встреч она сказала, что теперь понимает, как томилась ее мать по влюбленности и новизне после того, как первые восторги ее замужества поугасли. Итак, она научилась принимать прошлое, которого не дано изменить, и это во многом обязано безмятежности Гастайна и последующему написанию «дневника»: любопытный пример того, как бессознательное готовит психику к окончательному освобождению, отпечатывая в сознании свои идеи.
Выше я сравнивал ее дневник со сценой – но эта сцена весьма существенно отличается от обычной. Дело в том, что все персонажи ее драмы взаимозаменяемы. Так, молодой человек в зависимости от времени (или даже в одно и то же время) является отцом Анны, братом, дядей36, ее любовником А., ее мужем – и даже «незначительным» молодым человеком в поезде, шедшем из Одессы в Петербург. Сама Анна (временами) – оперная певица, но также и проститутка без груди, бледная и истощенная женщина с вырезанной маткой, мертвая любовница в общей могиле. Иногда «голоса» звучат отчетливо, но чаше смешиваются, растворяются друг в друге: «Весь дух белого отеля восставал против эгоизма». При скромной помощи со стороны врача дневник фрау Анны вернул ей психическое здоровье – через принятие ею таинственной индивидуальности своей матери. Корсетница символизирует еще одно понятие, о котором пациентка не упоминала: лицемерие. Ее мать была не такой, какой казалась, далеко не столь строгой – по отношению к себе. Она была Медузой – но также и Венерой. Когда представлялось, что она вся в любви к своему ребенку, ее мысли могли блуждать где угодно. Но много ниже сознательного слоя пациентка училась прощать своей матери ее лживость, а заодно (что весьма существенно) – и себе свою собственную37.
Таким образом, я был совершенно не прав, полагая, что центральными персонажами являются «мужчина, женщина; женщина, мужчина»38. Что бы ни говорило об обратном, роль мужчины, отца, в частном театре пациентки была подчиненной; перед нами предстали две «героини» – пациентка и ее мать. Документ фрау Анны выражает глубочайшее ее желание вернуться на небеса безмятежности, в изначальный белый отель – мы все там останавливались, – в чрево своей матери39.
Год спустя я совершенно случайно снова встретился с фрау Анной. По забавному совпадению, это произошло в Бадгастайне, где я отдыхал с одной из своих родственниц. Мы вышли прогуляться, и я увидел знакомое лицо. Выяснилось, что она играет в оркестре небольшой гастролирующей труппы, и я был счастлив видеть, что она прекрасно выглядит; по правде сказать, тела у нее было скорее в избытке, чем в недостатке. Казалось, она рада меня встретить. Она шла на репетицию и выразила надежду, что мы придем на вечернее представление. Опера, в которой ей предстояло играть, была современным, довольно-таки туманным сочинением, и я отклонил приглашение, сославшись на то, что мало ценю современную музыку, – и добавил, что непременно пришел бы, если бы она играла в «Дон Жуане»! Она уловила мой лукавый намек и улыбнулась. Я поинтересовался, знает ли она язык, на котором исполняется эта опера (партитура которой была у нее в руках), и она ответила, что да, чешский теперь тоже в ее репертуаре. Моя спутница выразила восхищение тем, что фрау Анна умеет читать на стольких языках, и та ответила с печальной улыбкой, обращаясь скорее ко мне, что иногда сама удивляется, от кого бы она могла унаследовать эту способность. Почти наверняка она спрашивала себя, не порождена ли та холодность, с которой отец относился к ней после смерти матери, подозрением, что она не его дочь.
Фрау Анна сказала, что время от времени продолжает испытывать легкие рецидивы своих симптомов, но не в такой степени, чтобы это могло помешать ее игре. Она опасалась, однако, что запоздалое начало и длительный перерыв, вызванный болезнью, не позволят ей достигнуть вершин своей профессии. Я счастлив сказать, что до сих пор продолжаю слышать о ней как о талантливой исполнительнице, она успешно продолжает в Вене свою музыкальную карьеру, а живет по-прежнему в обществе тети.
ЧАСТЬ 4
санаторий
1
Весной 1929 года фрау Элизабет Эрдман ехала из Вены в Милан. Она позволила себе роскошь вагона первого класса, чтобы сохранить свежесть до конца поездки; большую часть пути она оставалась в купе одна, наслаждаясь пейзажем за окном и время от времени читая журнал или с закрытыми глазами повторяя про себя партию, которую ее пригласили петь. Поезд был почти пуст, и она завтракала в одиночестве в большом, прекрасно обставленном вагоне-ресторане. Внимание множества официантов нервировало ее, поэтому она наспех проглотила все, что ей принесли, и вернулась в свое купе.
Поезд остановился у маленькой тирольской деревушки – станция была чуть больше платформы, – и фрау Эрдман подумала сперва, что с ними едет некая знаменитость, поскольку перрон кишел народом. Но потом она с досадой поняла, что это пассажиры, – нагруженные рюкзаками и чемоданами, они забирались в поезд.
Для вагонов второго класса их было слишком много; их поток захлестнул даже первый класс. Пятеро мужчин и женщин с рюкзаками пробились в ее купе, и ей пришлось торопливо переложить свои вещи на полку. Люди стояли даже в коридоре, прислонившись к окнам и дверям. После суеты размещения рюкзаки и лыжи свисали с полки над головой фрау Эрдман, и она чувствовала себя зажатой в углу плотными телами своих попутчиков. На них так много одежды, что они – даже трое мужчин – походили на беременных; они громко разговаривали и грубовато, по-панибратски хохотали: было ясно, что отпуск они провели вместе и поэтому на любого незнакомца смотрят как на досадную помеху. Фрау Эрдман начала испытывать легкие симптомы клаустрофобии, подобно купальщице, оказавшейся среди кишащего скопища медуз: именно это слово и этот образ пришли ей на ум. Она встала, извинившись, переступила через их ноги и направилась к двери.
Ко всему прочему, совершенно некстати, она как раз в этот момент почувствовала необходимость пройти в туалет. Но, глянув в обе стороны коридора, она поняла, что для этого пришлось бы вести отчаянную борьбу, пробираясь сквозь толпу людей, многие из которых сидели, взгромоздясь на свои рюкзаки и чемоданы. Какой-то молодой человек в нескольких шагах от нее, заметив ее встревоженный взгляд, вежливым жестом показал ей, что она может пройти. Она, вымученно улыбнувшись, покачала головой, как бы говоря: «Не стоит, я могу подождать!» – и он улыбнулся в ответ, поняв ее послание и найдя его забавным. Фрау Эрдман увидела, что он стоит на «островке» возле открытого окна, протолкалась к нему, встала рядом и, высунув голову в окно, жадно глотнула свежего воздуха.
Почувствовав себя гораздо лучше, она прислонилась спиной к застекленной двери купе напротив. Молодой человек спросил, не возражает ли она, если он закурит, и, когда она сказала, что ничего не имеет против, предложил ей сигарету из своего портсигара. Она отказалась, после чего он заметил, что теперь стало значительно больше дам, курящих сигареты; неужели у нее никогда не было соблазна попробовать? Да, сказала она, в молодости ей это нравилось, но потом от курения пришлось отказаться, чтобы не испортить голос. Она сразу же пожалела о сказанном – могли последовать любопытные вопросы, ответы на которые заставили бы его думать, что она выставляет напоказ свои таланты. Вопросы действительно последовали, и пришлось признаться, что она профессиональная певица и едет в Милан, чтобы петь там в опере. Да, это довольно важная партия.
Молодой человек был впечатлен. Он рассматривал ее обычное, чуть тронутое морщинами лицо – но у нее были выразительные глаза и губы, – стараясь припомнить, не попадались ли ему в газетах ее фотографии. Затем сказал, что, будучи студентом геологического факультета, в музыке смыслит мало, но о миланском «Ла Скала» слышал каждый, и, должно быть, она – одна из «звезд». Женщина рассмеялась – став при этом почти привлекательной – и решительно потрясла головой.
– Боюсь, совсем нет! – сказала она.– Я – всего лишь замена. Вы, наверное, слышали о Серебряковой? – Молодой человек покачал головой.– Вот она – великая певица. Она пела эту партию, но упала на лестнице и сломала руку. Ее дублерша оказалась не готова, и они попали в трудное положение. Дело в том, что опера на русском, а в мире не так уж много сопрано, умеющих петь по-русски и не занятых на много месяцев вперед. Я оказалась единственной, о ком они смогли вспомнить!
Она звонко рассмеялась, и у нее собрались морщинки возле глаз. Собственная скромность, вполне искренняя, доставляла ей удовольствие; в свободе от мании величия таилось счастье.
Молодой человек пытался было возражать, но она подтвердила:
– Это правда! Я получила роль только по этой причине. Но меня это не волнует. Считаю, что мне повезло. Вряд ли я достигну чего-то большего – ведь мне почти сорок. Выступлю в «Ла Скала», в хорошей роли. Будет что вспомнить!
Она поежилась от удовольствия – и перевела разговор на молодого человека. Он сказал, что этим летом сдает выпускные экзамены, а затем надеется найти в Риме работу учителя и жениться там на своей подруге. Сейчас он ехал повидаться с ней после отдыха, в котором так нуждался. В течение целой недели он взбирался на горы, катался на лыжах, спал под звездами и теперь чувствовал себя заново родившимся. Заинтересовавшись, она стала расспрашивать его о пребывании в горах, но, к ее разочарованию, он оказался весьма косноязычным, когда речь зашла о духовном аспекте скалолазания. Он сказал, что главная его цель – взобраться на Юнгфрау40. Фрау Эрдман эти слова почему-то показались забавными, но она скрыла улыбку, серьезно кивая головой, пока он описывал, как это будет трудно.
После ярких озер и плодородных долин Тироля поезд ворвался в тоннель, оборвав их беседу. Они ехали под землей достаточно долго, чтобы убедиться, что у них нет ничего общего и разговор продолжать не стоит; поэтому, вырвавшись на свет, они продолжали молчать, пока фрау Эрдман не сказала, что она, пожалуй, предпримет рискованное путешествие, чтобы помыть руки. Пробираясь обратно, она проскользнула мимо молодого человека, и они распрощались, пожелав друг другу удачи. Втиснувшись на свое место, она стала смотреть в окно, точнее, на стекла – по ним хлестал сильный ливень.
К счастью, на следующей станции, за итальянской границей, были прицеплены дополнительные вагоны, и проводник обошел все купе, приказывая пассажирам второго класса перейти в них, освободив места в первом. Фрау Эрдман с облегчением вздохнула и села посвободнее. Она подумала, что стоит повторить всю партитуру – времени было еще много; но самый первый хор, в котором усталые крестьяне возвращаются с тучных полей, навеял на нее дремоту, и она не стала читать дальше. Когда поезд въехал на окраины Милана, фрау Эрдман занервничала и ей с трудом удалось восстановить дыхание. Она встала перед зеркалом, чтобы причесаться и подкрасить губы. Ее тревожило, как бы они там вдруг сразу не заметили, что она слишком стара для роли, – так и представлялись вытянутые лица встречающих.
Но если у тех, кто приветствовал ее на перроне, и были подобные мысли, им хорошо удалось их скрыть. Вперед с поклоном выступил высокий, сутулый, лысеющий мужчина; он представился: синьор Фонтини, директор и художественный руководитель. Его невысокая, полная, вычурно одетая жена присела в реверансе; фрау Эрдман совершила четыре или пять рукопожатий, слишком смущенная, чтобы запомнить имена. Затем ее ослепили вспышки фотоаппаратов, и синьор Фонтини и другие едва ли не пронесли ее на руках сквозь крикливую толпу репортеров с блокнотами наготове, засыпавших ее вопросами. В волнении и суете приезда несколько ее чемоданов забыли в поезде, и одному из помощников директора пришлось за ними сбегать. Наконец они вышли из вокзала, над ней раскрыли зонт, заботливо защищая от дождя, проводили к лимузину и увезли. В отеле, в центре города, ее ждала еще одна группа встречающих, в руки ей сунули огромный букет цветов. Но синьор Фонтини, опасаясь, как бы его дублирующая звезда не переутомилась, расчистил ей дорогу к лифту и лично проводил ее в отведенные ей комнаты на четвертом этаже. Посыльный и портье шли за ними с ее багажом. Синьор Фонтини поцеловал ей руку, сказав, что теперь она должна несколько часов отдохнуть, а в половине девятого он пригласит ее к обеду. Оставшись одна в роскошном номере, она растянулась на софе. Просторная, с высокими потолками гостиная вполне сошла бы и за королевские покои. Повсюду стояли вазы с цветами. Она разделась, наполнила ванну и, лежа в ней, почувствовала себя необыкновенно разнеженной и ублаженной. Ее беспокоила лишь мысль о том, что ее выступление никогда не оправдает такого приема.
Одевшись к обеду, она села за письменный стол, обращенный к окну на оживленную улицу, и написала открытку своей тете в Вену. «Дорогая тетя, – писала она, – на улице идет дождь, а мои апартаменты полны цветов. Да, апартаменты! Поражаюсь, какой важной персоной они меня считают. Дело совсем не в цветах! Меня пугает даже предстоящий обед, не говоря уже о завтрашней репетиции – и о настоящем представлении! Собираюсь свалиться с лестницы и сломать себе ногу. С любовью, Лиза».
А там, за обеденным столом, ломившимся от цветов, серебра и хрусталя, царила великая Серебрякова, стройная, красивая и изящная, несмотря на то что рука у нее была на перевязи. Одна из величайших сопрано в мире, и ей лишь слегка за тридцать. Она должна была отправиться обратно в Советский Союз еще вчера, но решила задержаться, чтобы пожелать удачи своей преемнице. Лиза была покорена тем, что прославленная звезда отнеслась к ней с такой добротой. Мадам Серебрякова даже заявила, что она горячая поклонница голоса фрау Эрдман: слышала как-то ее в Вене, в «Травиате». Она тогда впервые была на гастролях за границей, и саму ее никто еще не знал.