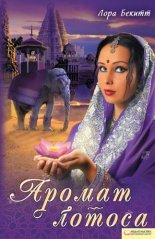Охота на зайца Бенаквиста Тонино
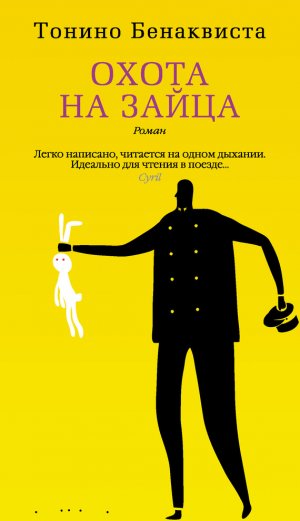
— Уж я с ними поговорю, увидите! Они все тут перероют!
Он все еще не сдается, но я, по крайней мере, тут уже больше ни при чем. Пускай сами выпутываются. Но тут вдруг поднимается американец и обводит глазами обитателей купе. Соня отводит взгляд.
— Может… еще немного поискать? В ресторане, например… — говорит американец.
Никто не отзывается. На этом я возвращаюсь к себе и плотно захлопываю дверь, чтобы отмежеваться от этого бардака. Раскладываю кресло, превращая его в кушетку, и готовлю постельные принадлежности в стиле «профи». Сложить одеяло пополам в ширину и обернуть его простыней, как пододеяльником, чтобы получился матрасик, повторить операцию со вторым одеялом и проскользнуть между ними, положив под голову две подушки. Тепло, мягко, а главное, избегаешь подцепить какую-нибудь гадость. В тот единственный раз, когда я видел типов, занятых чисткой одеял, на них были противогазы и они устраивали какой-то странный дождь из опрыскивателей. Надо быть психом, чтобы ложиться прямо под одеяло с голым торсом, как некоторые пассажиры, а я такое частенько наблюдал. К тому же все равно невозможно спать упакованным, будто кусок мяса, если приходится вскакивать по двадцать раз за ночь. Я отстал от своего графика, обычно койку себе я готовлю в Доле. Чаще всего именно там я осознаю, что Париж уже не более чем воспоминание. Чем больше буду спать, тем быстрее окажусь дома, а там уже я не стану ложиться, следующий раз слишком скоро.
***
Вечерами вроде этого я проклинаю всю железнодорожную систему. Поезд, представление о поезде, фильмы, романы, вся эта священная аура вокруг гусеницы из листового железа, которая делает тук-тук, тук-тук, а затем, когда малость разгонится, та-та-там, тата-там. Все это меня раздражает. В сущности, я закоренелый домосед, я люблю, растворив окно, видеть неизменную булочную напротив. А когда я качу по рельсам, это сплошная лотерея, за поднявшимся занавесом может оказаться день, ночь, город, деревня, чистое поле, вокзал. Я могу столкнуться нос к носу с обитателем веронского предместья, которому любопытно, прижавшись к стеклу, поглазеть на спящего парижанина. Вначале это меня забавляло, я буквально обжирался такой непредсказуемостью, но с тех пор бегу от нее, как от чумы, как от того типа, что позволил стащить свой бумажник и все уши мне проорал. В этой работе я не нахожу больше никакой поэзии, никакого восторга, вот уже несколько месяцев, как я полюбил упорядоченность и постоянство, это единственно возможная динамика будней. Пускай даже мои парижские приятели сочтут меня старым хрычом.
За два года я постарел лет на десять, и тем лучше.
Свет погашен. Через три секунды я смогу различить светящиеся точки будильника. Может, стоило согласиться на Флоренцию? Хоть отдохнул бы от того безумного дня в Париже. Беготня по библиотекам, Бобур, Шайо, Национальный центр кинематографии, срочный сбор кучи сведений о режиссерах для Ларусса, раздел «Кино». Панический звонок с утра: у них, видите ли, не хватает биографии Люка Мулле, а ты поди попробуй его выследи. Если я и в самом деле получу то место, которым они меня соблазняют вот уже три месяца, брошу «Спальные вагоны» с треском, без выходного пособия и без предварительного уведомления.
Стук в дверь. А я уж чуть было полностью не отвлекся от поезда.
Американец? Его едва можно узнать — лицо изменилось, глаза тоже. Особенно глаза. Врывается в мое купе почти силой. А я спросонья позволяю ему помыкать собой.
— Слушайте, это специально, очень специально…
Он пришепетывает, у него выходит «спешиално».
Наверняка хочет сказать «важно» или «срочно». А я все повторяю как заведенный: «успокойтесь» да «успокойтесь». Эти слова я вообще говорю чаще всего.
— Тот тип в моем купе совсем спятил из-за своего паспорта… и пяти тысяч франков… Если он скажет полиции, что тогда будет?
Легкое покалывание у меня в животе.
— Ну… э… они проверят… не знаю… со мной такое в первый раз… Как-то ночью они весь поезд прочесали вместе с одной девицей, чтобы опознать тех, кто ее изнасиловал. А сегодня не знаю… Не настолько серьезно…
— Паспорта будут проверять?
— Возможно. Вы ведь были в купе, так что немного… э… на подозрении.
Я произнес это едва шевельнув губами, но он прекрасно все понял. Несколько немых ругательств, потом:
— Нельзя.
Молчание.
Вот она, неприятность. Настоящая.
— Чего нельзя-то? Ваш паспорт смотреть?
— Надо быть в Лозанне в 2.50.
— Так вы там и будете, не задержат же они поезд из-за какого-то бумажника!
Он осматривает мою кабинку и шевелит мозгами на полной скорости.
— Можно ведь заплатить тому типу, а? Десять тысяч — чтобы заткнулся.
«Заткнулся». Его французский довольно неуклюж, но это он произнес отменно. Десять тысяч… Похоже, решил, что он в Нью-Йорке. Может, там бы это и прошло.
— Не советую.
Он бьет себя кулаком по туловищу и изрыгает какую-то фразу на своем языке — плевок со дна, скрежет ненависти, капкан. Тупик, западня. Dead end.[3] Распахиваю дверь и выталкиваю его наружу. Он задерживается на секунду и пристально смотрит мне в зрачки.
— Нельзя. Я для этого все сделаю, понимаете?
Мое сердцебиение учащается, я едва успеваю собрать то, что мне осталось от дыхания.
— Уходите отсюда. Get out! You know, I'm working on these fucking trains four thousands five hundreds fucking francs each month, понятно? So get out of here right now. O.K.?[4]
Он выходит, смотрит в коридор. Его лицо снова изменяется, но уже в обратную сторону. Это словно прилив спокойствия. Я тоже неожиданно перевожу дух.
— В вашем положении было бы лучше сказать мне, чем вы рискуете. Может, предпочитаете говорить по-английски?
Он улыбается. Грязненькая такая улыбка, хоть и вполне белозубая. На этот раз в нем нет и тени беспокойства, его голос больше не дрожит. Решение принято, и, думаю, уже никто не сможет его переубедить.
— Тут можно кое-что спрятать… — говорит он, показывая на мое купе.
— Простите? Вы шутите? You're joking?..
— Получишь двадцать тысяч, если кто-то проедет тут в Швейцарию. Идет? Это четыре месяца работы, no? Всего два часа, и он сойдет в Лозанне.
Это я отлично понимаю. В моей убогой карьере такое случалось всего дважды. Первый раз с одним аргентинцем без визы, который предлагал мне пять тысяч, а я отказался. Сегодня я собираюсь отказаться от вчетверо большего. Четыре месяца пахать, это верно. Я даже представить зрительно не могу эту сумму, я всего лишь перевожу ее в зарплату. Я откажусь, но вовсе не из-за этики. Просто боюсь тюряги.
— Только не объясняйте мне, зачем вам надо перебраться через границу. Выйдите из этого купе. Я не чиновник и не легавый, просто хочу спокойствия. Никаких заморочек. Вы понимаете — «заморочек»? No trouble.
— Тридцать тысяч. Это не гангстерское дело и не наркотики, ничего плохого…
— Тогда чего же вы боитесь?
— Я? Ничего. Я-то могу въехать в Швейцарию. Но не мой друг.
— А? Вы что, издеваетесь надо мной, какой еще друг? Ваша история того… с душком. It stinks.
Я толкаю его в плечо, наваливаясь на дверь. Из нас двоих он сильнее. Теперь он смотрит на меня как на врага. Как-нибудь ночью в темном переулке такой взгляд означал бы неминуемую смерть.
— You don't want trouble but looking for it. O.K.[5]
Он ослабляет нажим, не настаивает больше, словно желая этим сказать, что уже слишком поздно и он как-нибудь обойдется без меня.
Несколько капель пота блестят на моем воротничке, поезд замедляет ход, я приоткрываю окно. Становится прохладнее, зато удесятеряется шум; приходится выбирать. Вспоминаю взгляд того аргентинца после моего отказа, я читал его мысли. У меня было странное ощущение, будто это я убил его демократию — я один — и вынудил его к изгнанию.
Легавые появятся через пять минут.
Мне наверняка надо было согласиться на Флоренцию. В конце концов, не настолько уж это и дальше от Парижа. В 8.30 в пятницу утром. Как все.
Толчок прижал мои колени к стенке, правая рука упала на пол. Если бы я стоял, то врезался бы головой в шкафчик. Поезд застыл в ночи после пятнадцати метров торможения, а это не слишком много, чтобы успеть повернуться, всего восемь секунд от ста двадцати в час до нуля. Аварийная остановка — штука резкая, я не очень-то с ней знаком. За два года лишь четыре раза. Поднимаюсь и выхожу в коридор как можно скорее, даже не обувшись. Шок, удивление, сирена, людские лица, впопыхах напяленные пижамы, контролеры, проверяющие рукоятки стоп-кранов одну за одной, чтобы выключить сигнал тревоги. Сталкиваюсь с трехзвездочным, который ничего мне не говорит, — видно, забыл, что я проводник. Дернуть ручку могли где угодно, хоть за десять вагонов от моего собственного. Пассажиры-то меня не забыли, и со всех сторон сыплются вопросы. Какой-то мальчишка плачет, мать растирает ему лоб. В коридоре суматоха. Самое время проявить немного авторитета.
— Возвращайтесь в свои купе, чтобы облегчить работу контролеров!
Ну да, как же… С таким же успехом можно на моторный вагон помочиться. Они решили меня не слышать. Приходится загонять их одного за другим при большой поддержке «пожалуйста» и «прошу вас». Нет, это не паника, это больше похоже на любопытство обыкновенных уличных зевак, ожидающих удара после резкого скрипа колес. Возле первого купе чувствую на лице холодный сквозняк. Однако все окна закрыты. Вижу, как на дальней площадке трехзвездочный снимает фуражку и входит в туалет. Звонок тотчас же замолкает. Дверь в тамбуре открыта. Все понятно: стоп-кран дернули в сортире, а тремя секундами позже тип уже растворился в ночи. Ищи ветра в поле. Высовываю нос наружу: трехзвездочный стоит внизу, у подножки, ничего не видно, разве что красный свет вдалеке, в голове поезда.
— Видишь что-нибудь?
Ни одного постороннего силуэта, ни одного движения, только ветерок шелестит в кустах. Черная дыра.
Он поднимается, гроздь любопытных пассажиров чуть не выталкивает нас наружу. Пустые вопросы. Ночная свежесть высушила мой пот. Он хлопает дверью, что-то крикнув зевакам, и мы трогаемся.
— А ты достань свою схему, билеты и броню, я схожу за коллегой, и соберемся у тебя.
Поголовная проверка. Полный список пассажиров, все посадки, все выходы. И это лишь для того, чтобы ответить на один-единственный вопрос: кто? Возвращаюсь к себе. Вижу, как маленькая дама в ночной рубашке засовывает голову в мое купе. Я его даже еще не закрыл, хотя терпеть не могу, когда суют нос в мои дела.
— Что желает мадам с сорок шестого? Случилось что-нибудь, а, мадам с сорок шестого?
Она прямиком устремляется на свое сорок шестое место, не прося добавки. Заранее знаю, что к бумагам никто не прикасался: у меня привычка засовывать их в один уголок, совершенно незаметный, если не знаешь, что тут к чему. Все на месте. Ложусь в ожидании служивых. Гам в коридоре становится потише.
Я был бы не прочь знать общий итог: детишки, свалившиеся с полок, старички, врезавшиеся в сортирное стекло, — вообще подробный перечень веселеньких травм и увечий.
Кто? Они и в самом деле хотят знать кто? Американец, конечно, и пока я единственный это знаю.
У меня его билет и паспорт. Стучат.
— Ну, что я вам говорил? Я один в купе остался, а эти двое смылись с моим бумажником. Они же в сговоре были, а их никто не обыскал, пока было можно.
Один? Соня тоже исчез? Выходит, это он и есть — тот друг… Друг, который не мог перейти границу.
Который только о сне и думал. Они даже ни разу между собой не заговорили. Наверное, мне надо быть повежливее с этим крикуном, сказать ему что-нибудь, но что? Он и прав, и неправ, понятия не имею, что сказать полицейским. Чтобы пуститься в бега, бросив паспорт, надо иметь веские причины, какие-нибудь международные махинации, Интерпол и все такое прочее. Не знаю, что и думать…
Жду контролеров, таможню, делаю все, что просят, — и баста, спокойной ночи. «Галилео», ты меня доконал.
Они записали мое имя, прежде чем уйти, где-то в полпервого, это двадцать минут отставания от графика. Я рассказал о попытке подкупа со стороны американца, чтобы прикрыться в случае чего. Фараоны поиграли со своими рациями, запрашивая центральную, но я так и не понял, числились те двое в розыске или нет. Что вообще можно понять по физиономии таможенника? Ни малейших следов удивления или волнения. Однажды я наблюдал, как один из них вытащил со дна сумки со жратвой носовой платок, набитый бриллиантами. Там еще оказалось маленькое полотно ex voto,[6] украденное три месяца назад из одного аббатства, а таможенник, казалось, думал при этом о чем-то постороннем — о жене, о сыне-оболтусе, прогуливающем уроки, о своей любимой сонате.
Крикун при виде новых фуражек немного успокоился, и это лишний раз доказывает, что контролер французской железной дороги больше похож на шута горохового, чем на жандарма. В коридоре ни души — ни зевак, ни любопытных, всех как ветром сдуло, будто у каждого в сумке кило кокаина припрятано. Люди опускают глаза, ожидая, пока все пройдет. Я тоже часто так делаю, но только не сегодня ночью. Я без конца зеваю и выражаю глубочайшую скуку.
Спокойствие вернулось. Американец наверняка себе все, что можно, в кустах отморозил, да и тот, другой, тоже небось не слишком наслаждается желанным комфортом. Ладно, пускай этим полиция занимается. Завтра я угощусь кофейком у Флориана, а послезавтра буду уже в Париже, рядом со своей брюнеткой.[7] Но прежде всего этого — спать и еще раз спать, ночью, днем, видеть сны повсюду, все время, сейчас же.
Если уж им так нужны мои показания, они могли бы со мной и в Париже связаться. Все, что угодно, только бы убрались отсюда. Появляются швейцарские таможенники и удаляются, ни о чем не спрашивая. Я потягиваюсь вовсю, когда меня застает Ришар.
— У тебя, что ли, сыр-бор?
— Завтра. Все расскажу завтра.
— А со стоп-краном кто постарался?
— Ты что, нос себе расквасил, когда телик смотрел? Извини.
— Смейся, смейся. Сначала на аварийную остановку время потеряли, потом еще в Валлорбе двадцать минут. Швейцарцы-то попробуют пятнадцать из них наверстать, а вот зато итальяшки растянут удовольствие часов до двух.
Вполне возможно. Машинист французского или швейцарского локомотива получает премию, если наверстает опоздание, а итальянец, наоборот, — за сверхурочные часы. Вот в чем секрет опоздания итальянских поездов. Однажды я ждал пересадки на вокзале Прато, и мой поезд явился аж с четырьмя часами задержки. Завидев контролера этих апатичных «Ferrovie dello Stato»,[8] легонько потешаюсь:
— Молодцы, FS, как всегда, вовремя! Четыре часа — тут вы все-таки малость перестарались, не находишь?
Но он выдает мне ухмылку, бросающую вызов любой иронии:
— Вот еще! Тот, на который ты сел, это вчерашний.
Двадцать восемь часов опоздания! Так что я заткнулся в тряпочку. Ришар вздыхает.
— Ты-то чего в Венецию торопишься? — спрашиваю я.
— У Пепе после десяти больше не обслуживают. К тому же у меня на девять партия в «скопу» назначена.
— Жуть… уж я-то знаю. Все эта работа чертова… Ладно, иди дрыхни. Я дождусь швейцарских контролеров и тоже падаю.
Он возвращается к себе раздосадованный, заранее оплакивая свою партию в карты. Эрик ко мне так и не заглянул. Могу считать, что у меня одним врагом больше в «Международной компании спальных вагонов и туризма». Там видно будет. Всегда можно склеить осколки.
Бывают редкие моменты душевного спокойствия в этих треклятых поездах, последняя сигарета например. Лежишь, вытянувшись, на мягком ложе из одеял, без ботинок, блуждая взглядом по сумраку гельветического пейзажа. Самая распоследняя сигарета — это блаженство сродни отеческому: малыши уложены спать, завтра я их разбужу рано поутру, и для них это будет так же мучительно, как и для меня, но пока еще краснеет пепел на кончике моей сигареты, поезд мурлычет, и луна вот-вот зальет голубоватым светом потемки моего купе.
Спокойной ночи.
Я даже не слышал, как они вошли. Они ослепили меня, включив верхний свет, резкий и желтый, ударивший по глазам будто ножом. Я едва успел задремать. И как можно быть швейцарцем, да еще контролером? Это уже чересчур.
— Спал? Сколько у тебя?
А этот их акцент, накатывающий дурацкими волнами, вроде местного пейзажа.
— Нет, не спал, бандероль готовил. У меня тридцать семь человек.
— Вместе или без?
— С беглыми-то? Без. Их билеты таможенники забрали, остальные здесь.
Он замолкает, несмотря на сильное желание узнать побольше об этом деле, поскольку я явно не поощряю беседу. Я хочу, чтобы он погасил свет и убрался отсюда. Люди с Федеральных железных дорог довольно покладисты, ограниченны и скупы на лишние слова. Что-что, а это индейское достоинство у них не отнимешь, итальянец бы из меня вытянул под пыткой все подробности. Еще одна сильная сторона: швейцарец способен изрешетить пачку билетов за двадцать секунд, в стиле Аль Капоне. И чао.
— Есть пробле-е-е-е-ма.
— А?..
— Не хватает одного биле-е-е-е-та.
— Шутишь, что ли? Я уверен, что у меня тридцать семь человек!
— Знаю, я пересчитал, прежде чем к тебе идти. Но тут только тридцать шесть биле-е-е-е-тов…
Крупная проблема. Это пахнет неприятностями. Если швейцарец говорит «тридцать шесть», то наверняка так и есть, они способны угадать точное число, бросив всего один взгляд на пачку.
— Ну? Где биле-е-е-е-т?
Быстро найти объяснение.
— Ну да! Точно! Это тот тип, которого обокрали, он свой билет при себе оставил, долго объяснять, короче, у него все сперли, и билет в придачу. Фью!
— Так он едет без биле-е-е-е-та?
— …
— Ну так?..
Вот она, проблема. Гельвет в принципе не способен понять смысл исключения. Особый случай. У них даже трупу полагается иметь проездной документ. Мысленно вижу, как расталкиваю крикуна и предлагаю ему сделать «оплату на месте». Черт и еще раз черт. Я еле жив, а этот швейцарец из меня последние силы вытягивает, которые остались, чтобы держаться стоя. Но не только это. Что-то тут, в этом купе, не в порядке.
В первую очередь я сам, конечно, но не только. Чувствую что-то неуловимое, летучее. Что-то витающее в воздухе. Что-то тут не как обычно.
— Ну так как?
Рельсы гудят у меня в голове, швейцарец ждет ответа, я представляю спящую Катю. Срочно надо закурить.
— Слушай, оформи ему «оплату на месте», только без оплаты, будь человеком, не надо его добивать, ему и без того хватило неприятностей — у него же все бабки поперли.
Впервые прошу швейцарца об одолжении, пытаясь найти нужный тон.
И еще… я чувствую что-то… ведь я знаю свое купе как облупленное, встречу с контролером тоже переживал сотни раз, но сегодня ночью что-то не клеится. Окурок, что ли, забыл где-нибудь, или, может, в вентиляторе какой-то странный звук…
— «Оплату на месте» без оплаты? Спрошу сперва у колле-е-е-е-ги, там посмотрим.
Едва он уходит, как меня охватывает лихорадочное желание все тут обыскать, начиная с моего собственного багажа. Я разбираю постель и заглядываю под лежанку. Послышалось? Какой-то звук, будто потрескивает дерево под давлением. Может, это в соседнем купе, в десятом, скрипит плохо закрепленная полка? Или в бельевом баке заваливается стопка простыней. На всякий случай приподнимаю крышку.
Глаз. Широко раскрытый. Смотрит на меня. Крышка падает со стуком, словно гильотинный нож, я вскрикиваю.
— Э, не пугайся, это я. Коллега согласен без оплаты. Повезло твоему типу.
Швейцарец приоткрыл дверь ногой в тот самый миг, когда я уже начал валиться на пол. Ничего не говорить. Ничего. Не хочу ничего. Кроме забвения. А этот устраивается на моей банкетке, чтобы выписать «оплату на месте», будь она неладна. Нельзя, чтобы он услышал этот звук, этот скрип. Иначе увидит глаз. И тогда все пропало: обвинят меня, снимут с рейса, запрут где-нибудь. Я слишком хорошо знаю, что бывает, когда находят зайца. А этот еще и спрятан в моей собственной кабинке.
— У меня есть свободное купе… Там тебе будет удобнее, — говорю я вполголоса.
Никакого ответа.
Я ничего не просил, я всегда избегал неприятностей, я никого не обманывал и всегда отказывался от нелегалов — и вдруг сегодня ночью обнаруживаю глаз, который пялится на меня из-за стопки белья, швейцарец в галунах отказывается уходить, какой-то псих-американец мне угрожает, звенит аварийный сигнал… Я сейчас всех отсюда повыгоняю… Дайте мне спокойно делать свою работу… Это уже само по себе нелегко…
Мы одновременно поднимаем голову. Поезд замедляет ход. Приближается Лозанна.
— Дооформлю после Лозанны. У тебя тут садится кто-нибудь?
— Нет.
Он выходит по крайней мере минуты на три. Во время стоянки они могут и сойти, а могут просто посветить фонариком с подножки. Приподнимаю крышку и узнаю приятеля американца, соню, лежащего подтянув одно колено к груди, другое погребено под оползнем простынь. Он умоляет меня глазами, в таком положении он только и может, что умолять взглядом.
— Не шевелитесь, контролер у меня за спиной.
Он пытается что-то сказать и сглатывает слюну; видимо, вторая нога у него затекла, он пытается подтянуть ее к себе.
— …Спасибо… я должен… сойти… в Лозанне…
Я захлопываю крышку, чуть не прищемив ему нос. Спасибо?! Дурень несчастный, я делаю это ради самого себя, а ты хоть подыхай, но где угодно, только не в моем купе. Поезд подходит к перрону в 1.30, как и положено. Американец тоже говорил про Лозанну. Мне надо немедленно избавиться от этого балласта, здесь, на стоянке, так мне не придется вышвыривать его на ходу из окна в какое-нибудь заснеженное ущелье. Никто ничего не заметит, и я смогу наконец спокойно поспать.
Но чертов швейцарец решил не выходить, он перебрасывается словом со своим напарником, размахивает фонарем, и все это в коридоре. Надо убрать его отсюда, чтобы можно было выпустить зайца, навязавшегося на мою голову.
— Эй, у меня впечатление, что кто-то пытается влезть с той стороны. Тебя как зовут? Меня Антуан.
— С той стороны?.. Если это не машинист, советую ему побере-е-е-е-чься, с той стороны как раз «Симплон» подходит.
Мимо. Что за козел…
— И еще мой коллега малость паникует. У него в тамбуре какой-то молодчик с тряпкой на голове чемоданчик оставил.
Его напарник кричит ему по-немецки что-то невразумительное. Сообщает, видимо, что все в порядке. Из Цюриха они, что ли? Тогда понятно, почему оба кажутся такими несговорчивыми. Он кончает размахивать своей лампой, ставит ее на пол и, подбоченясь, оборачивается ко мне:
— Не знаю, что с тобой сегодня тако-о-о-о-е. Но если в тамбуре ничего не окажется, подам на тебя рапорт. Обещаю. Я очень люблю французов, но палку перегибать не стоит.
— …
— Ну так как? Сходить к твоему колле-е-е-е-ге?
— Да нет, ха, это я пошутил… все эти байки про террористов, сам понимаешь…
Я сегодня сам себя не узнаю. Вынужден заткнуться перед каким-то швейцарцем, а это неприятно. Обычно я пускаю в ход все мыслимые и немыслимые сарказмы: я вспоминаю их знаменитый рецепт кускуса,[9] выдумываю дурацкие каламбуры по поводу эмментальского сыра, возношу хвалу бельгийскому шоколаду, предаюсь сравнительному исследованию часовых кукушек и прошу показать мне идеальное положение языка для исполнения йодлей. Многие на это покупаются, некоторые отвечают высокомерным презрением, но я в любом случае ликую при мысли, что сбил с панталыку рыхлого, хоть и экономически сильного демократа. Не знаю ничего более сладостного, чем быть принятым за дурака швейцарцем. Но сегодня ночью Антуан поубавит себе спеси.
Раздается тяжелый скрежет дверных пружин, ледяной сквозняк врывается в нашу беседу. Мы без всякой причины застываем, ошеломленные, желая поскорее узнать, кто это там лезет. Но этот кто-то, открывший дверь, не торопится. За поручень медленно ухватывается рука, чтобы втянуть на борт и остальное тело. Появляется синий силуэт, длинное темно-синее пальто, увенчанное белокурой головой с прямыми волосами, ангельскими глазами, белой кожей и взором, делающим невозможным любое умозаключение насчет субъекта до тех пор, пока он не откроет рот. Мне он сразу напомнил одного гитариста из «Ролинг стоунз», умершего в бассейне. Едва он начинает говорить, как из его рта вырывается завиток теплого воздуха.
— Простите, господа, это вагон девяносто шесть?
Я бросаю прямое и откровенное «да», чуть прикрытое нерешительным мычанием швейцарца.
— Я должен встретить двух пассажиров из Парижа и удивлен, что не вижу их.
Дверь осталась открытой, но эти клубы пара вырвались скорее из моих пор. И мне кажется, что этот тип смог даже заметить радужное гало окутавших меня испарений. Уж я-то знаю, кого он имеет в виду.
— Пассажиры ЭТОГО вагона? Как они выглядят?
— Один довольно сильный, темноволосый, с англо-саксонским акцентом. Другой… француз.
Явно ничего больше о нем не знает. Отступив на шаг, он выглядывает наружу и машет кому-то руками, но, кому именно, я не вижу. Швейцарец тычет в меня пальцем:
— Спросите вот у этого господина.
Понятия не имею, что отвечать.
— Даже не знаю… загляните в девяносто пятый, часто бывают изменения в брони… в последнюю минуту.
На путях свисток, контролер протискивается в мою кабинку. Нельзя оставлять его там одного. Второй свисток.
— Слишком поздно, сожалею, мы отправляемся. Вы поедете до Италии или сойдете?
Он, конечно, не предполагал оказаться зажатым этой альтернативой, но ему хватило мгновения ока, чтобы сделать выбор. Ему нужен соня. И я бы так хотел его отдать ему.
Спускаясь, он поворачивается в три четверти и говорит, не заботясь о том, слышу ли я его:
— Знаете, это была крайне важная встреча. Цинизм бедняков всегда иссякает очень быстро из-за отсутствия средств.
Он захлопнул за собой дверь. С чего это я циник? Никакой я не циник. Он меня не знает, еще не знает, на что я способен.
Из-за пара и темноты ничего не видно, но я все-таки успеваю заметить, как он махнул рукой черному силуэту и как тот бросился бежать к голове поезда. Мы трогаемся с невероятной медлительностью, и я молюсь в душе, чтобы гусеница номер двести двадцать два взлетела вертикально вверх, пробив завесу облаков, прямо к Млечному Пути.
— Закрой две-ее-е-рь, холодно.
Прежде чем исполнить это, я приникаю к окну, чтобы поймать тот миг, когда окажусь на одной оси с белокурым красавчиком. Мой неподвижный костяк проплывает над его головой, тоже неподвижной, но зато шевелятся его руки в карманах пальто — будто щупальца. Того и гляди, он вытащит оттуда бешеную лисицу, гитару, горсть углей или еще что-нибудь этакое, объясняющее столь беспорядочные движения. Но мгновение коротко, мы уже глядим друг на друга сбоку. А теперь издалека, слишком издалека, чтобы разглядеть белого кролика. Поезд скользит мимо, оставляя его в одиночестве, словно чародея, облаченного в траур по своим поискам. В совершенном одиночестве.
А теперь заняться контролером.
Говорить, произносить фразы, обрушивать волны слов и переводить дух на откате, извлекать из своего горла заунывное песнопение, аккуратно выблевывать пустопорожнюю болтовню, одним лишь тоном придавая ей видимость связности. Я добиваюсь речевого нокаута, это работа по барабанным перепонкам, левой, снова левой, и — бум! — он качается. А я мучусь, что навязал себе это упражнение, ибо, с тех пор как я заявился в этот вагон, только о тишине и мечтаю. Но ведь это жизнь, верно? Порой делаешь противоположное своим сокровенным желаниям — подчиняешься завораживающему приказу будильника, затыкаешься перед скользким начальством или даже пользуешься швейцарским контролером как катушкой для намотки трепа.
Я забываю сказанное, едва успев его изрыгнуть; начал я, кажется, с Вильгельма Телля, и очень быстро меня снесло на бесплатные швейцарские автодороги, а потом — почему, собственно, знак Красного Креста? Я не оставил ему времени для ответа, припутав сюда фильмы Спилберга и Ватикан, проездом через Кастель-Гандольфо.
Прекрасно вижу, что он отключился, что он ничего не слушал и даже не слышал, он ведет себя так, будто я невидимый надоедливый комар, слишком крупный, чтобы можно было прихлопнуть, и слишком настырный, чтобы надеяться, что сам отстанет. Стоя, отяжелев от усталости, прикрывшись бездушной маской, под которой его лицо уже спало, он наконец сдался. Несмотря на свою инстинктивную враждебность ко всем железнодорожным обломам, в этот миг я почувствовал, насколько он мне близок.
Я выиграл мелко, по очкам, противник просто не захотел со мной связываться.
Но главное, это послужило мне для того, чтобы заглушить возможный шум со стороны зайца, журчание струи или непринужденный храп.
Прежде чем надеть фуражку, швейцарец провел рукой по волосам. Затем приоткрыл губы.
— …Не перегибай палку… Не перегибай палку…
Я стиснул зубы, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость и избежать апперкота. Настоящего. Помимо остальных пропастей, нас разделяющих, есть еще и крупная разница между моим и его статусом: он принимал присягу, а я нет. А это придает разную силу нашим ударам.
Ба… мы наверняка встретимся как-нибудь вечерком на одной из улочек Цюриха, рядом с моим банком. И подеремся на вылизанном до блеска тротуаре. Тамошние бомжи упрекнут нас в невоспитанности, панки вызовут полицию, и мы схлопочем по шесть суток за то, что испачкали мостовую.
Дверь закрывается, не скрипнув замком, я слегка прикладываюсь четырехгранником, прежде чем поднять крышку. Еще не знаю, как появится младенец — взъерошенной головкой вперед или задницей кверху. Мой бельевой бак похож на морозилку или, того хуже, на ящик Пандоры в цирковом исполнении.
Его опухшие глаза не приемлют света. Он задыхается.
Я тупо спрашиваю:
— Как дела?
— Мне надо отлить…
— В чистые простыни отливать нельзя, инструкция запрещает.
— И что же мне делать?
— К такому повороту событий я не готовился. Пока придется потерпеть.
— Да я только тем и занимаюсь с самой таможни!
— Значит, надо было двигать за вашим американским дружком. Резвились бы сейчас на природе. В Женевское озеро могли бы отлить. Только попадаться на этом не стоит, тут это подсудное дело. А теперь только посмейте отсюда кончик носа высунуть, я вам сам в ухо помочусь. Даже не пытайтесь.
Молчание. С моей стороны — понтийпилатское, с его — скрюченное. Но как запретишь типу, мертвому от страха, обмочиться? Однако я не могу выпустить его из укрытия ни на секунду. К тому же он сам сюда залез. С другой стороны, мой бак, того и гляди, превратится в аквариум и простыни для обратного рейса пропадут ко всем чертям, не говоря уже о запахе. Воображаю себе рожи следующих таможенников.
— Возьмите простыню, снимите с нее пластиковый мешок, в него и облегчитесь. Видели, как на ярмарке золотых рыбок продают?
Для такой непростой операции ему понадобится свет и, конечно, сосредоточенность. Оставляю его в одиночестве на время, необходимое мне самому, чтобы ополоснуть лицо в туалете. Собственно, больше всего я хочу где-нибудь закрыться, там, где никто не увидит жуткие рожи, которые я корчу. Выйдя оттуда, я обнаруживаю в переходе между вагонами какую-то маленькую блондинку, сидящую на своем рюкзаке прислонившись головой к резиновому ребру жесткости. Пытаться заснуть в межвагонной гармошке — такое тянет на Книгу Идиотских Рекордов, сразу вслед за самым долгим мытьем посуды с задержкой дыхания. Я распахиваю створки во всю ширь и ору, чтобы перекрыть шум в десять раз более сильный, чем в вагоне:
— МАЛОСТЬ РЕХНУЛИСЬ, ДА?
Вместо пола тут две металлические пластины, которые трутся друг о друга в горизонтальной плоскости, а на поворотах сквозь щель видно мелькание шпал, напоминающее бег кинопленки. Да и холоднее здесь раз в десять. Она едва открывает глаза, я беру ее за руку и повторяю свою фразу, но теперь одними жестами. Видимо, она не спала и следует за мной в тамбур не сопротивляясь.
— А самолетом вы летаете в багажном отсеке?
— Эее?
Скандинавка… Есть в этом звуке что-то нордическое.
— Билет! You understand[10] «билет»?
Кивок головой, что да, и жест рукой, выражающий его отсутствие.
— No money?
— How much?[11]
На твоем месте, девочка моя, я бы скоренько выложил семьдесят две монеты. Если ты дашь выудить себя из гармошки швейцарцу, то все равно заплатишь за место, только в Домодоссоле получишь пинок под зад, и единственным средством снова оказаться в поезде для тебя будет сыграть на собственной белокурости перед итальянским контролером. На свой же страх и риск. В Венеции за семьдесят две монеты едва купишь пиццу с колбасками.
Как бы я хотел высказать ей все это по-шведски.
— Seventy two, but you must go to the next car, ninety-five, cause i've no place here.[12]
Мой заяц, наверное, уже изнывает со своим липким мешком в руках.
— О'кей, — улыбается она.
Послушная. Она направляется к Ришару. Уж он-то ей наверняка найдет место. Я весьма рад послать приятелю посреди ночи нежное белокурое сновидение. Чаще всего это бывают усатые кошмары, воняющие пивом.
— Ну да, я задержался, давайте сюда эту штуку.