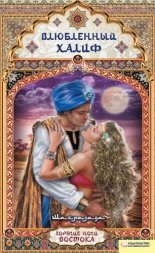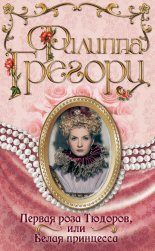Моя судьба. История Любви Матье Мирей

Я верю,
Жизнь моя начнется: пришла любовь!
Я верю,
Счастье улыбнется сегодня вновь…
Я верю
Всем твоим признаньям нежным, как верю я судьбе.
Да, верю я
Всему, что ты мне скажешь. Да, верю я тебе[1].
Детство
Дом с островерхой крышей
Когда в один прекрасный день — это произошло в Париже — я стала «Мирей Матье, победительницей телевизионного конкурса песни», девочкой из Авиньона, неожиданно получившей известность, чей портрет появился на первой полосе газеты «Франс суар»… я не слишком удивилась. Это был сияющий знак, ответ на горячую страстную мольбу, с которой я обратилась к небу в тот памятный вечер, когда меня охватило отчаяние: «Господи. я так мала, у меня не хватает сил. Помоги нам всем. Молю тебя, о Господи, сотвори чудо!»
И чудо свершилось. Я была счастлива. У меня будто выросли крылья. Мне казалось, меня окружили ангелы-хранители…
Увы, я внезапно оказалась на земле, когда столкнулась лицом к лицу с журналистами и мне пришлось отвечать на их вопросы. К примеру, на такие:
— Не поделитесь ли с нами каким-нибудь воспоминанием из своего детства?
«Каким-нибудь воспоминанием». У меня были тысячи воспоминаний, и не «каких-нибудь», а очень для меня важных, потому что из них состояла вся моя прежняя жизнь. Но с чего начать? А к тому же эти воспоминания были неотделимой частью моего «заветного сада».
— Вы самая старшая из тринадцати детей очень бедной семьи? Но ведь и у детей бедняков есть игрушки. У вас была, наверное, какая-нибудь любимая маленькая кукла?
«У меня были маленькие сестры» — вот что вертелось у меня на кончике языка. Но я не могла и слова вымолвить — стояла молча, точно дуреха, как говорят в наших краях.
Нет, у меня никогда не было куклы. Игрушками нам служили камешки, без которых нельзя было обойтись при игре в «классики» или в «лягушку». Мы смешивали их с глиной и строили домики. Или лепили человечков. а шляпой для них служили листья. Глина, камешки, листья и вода — вот что забавляло нас долгими часами. Побольше воды, и глина превращалась в шоколадный крем — и начинался воображаемый пир. Это помогало нам забывать о том, что вечером у нас на ужин будет одна только картошка. Глина, хорошенько перемешанная с водой, становилась волшебным тестом, из которого можно было лепить наши детские грезы. И листья. о, эти листья! В них заключался целый мир! Самые маленькие служили нам монетами, самые большие — казначейскими билетами. А еще из листьев можно было сделать ожерелье, скрепляя их сосновыми иглами. До чего же мы были богаты!
1
Перед первым причастием
Первое причастие было не менее важное и торжественное событие, чем вступление в брак… Облачаясь в белоснежное платье и надевая на голову белый капюшон, я чувствовала себя так, будто попадаю в мир чудес, и ревностно готовилась к торжественному событию. Если бы меня спросили, какой день в моем детстве был самый светлый, я бы назвала именно этот.
Они не были злыми, эти журналисты, они просто не представляли себе, что такое бедность. Они не знали, чем она «пахнет», не знали, к примеру, как пахнет газетная бумага. Впрочем, запах свежего номера их ежедневной газеты или отпечатанного на глянцевой бумаге богато иллюстрированного журнала им был, конечно, знаком… Но я говорю о другом, о чуть горьковатом запахе старых газет, в которые уже заворачивали овощи, или тех, что запихивали в наши башмаки, чтобы меньше мерзли ноги. Или газет, которыми мы укутывали грудь (подкладывая их под фартук) либо спину, помогая друг другу.
— Это убережет вас от кашля, — говорила мама.
Да ей цены не было, этой газетной бумаге! Могла ли я представить, что наступит день, когда я увижу себя на первой полосе газеты? Тогда я не задумывалась над будущим. Не представляла себя, скажем, матерью семейства в окружении кучи детей. Не видела себя и ни в какой другой роли. Смотрела лишь на то, что было передо мной, перед моими глазами.
Мама часто говорила:
— Знаешь, в Париже беднякам приходится куда хуже, чем нам! У нас тут под рукой все, что ниспослал нам Господь бог. Стоит только нагнуться…
На тех же газетных листах мы сушили листья шалфея, дикой мяты, боярышника, чабреца — их собирали в «лечебных целях». По рецептам бабули. Газетный лист с его большими черными заголовками казался не таким унылым, когда на нем лежали все эти травы. Тогда от него исходил душистый аромат.
— Травы лечат от всего. — уверяла мама.
Я ей верила. Но было непонятно, отчего все мы так часто болели. И однажды она сама.
День был прекрасный. Только солнечные лучи не заглядывали в наш дом. в очень тесный дом с островерхой крышей. Он находился в квартале Круазьер и стоял напротив церкви Нотр-Дам-де-Франс. Я на всю жизнь запомнила его мрачные стены, с которых сочилась влага. Мы занимали две маленькие комнаты. В нижней комнате, без окон, с одной лишь застекленной дверью, мы ели, а ночью там спали родители. В комнате наверху было небольшое оконце, расположенное, однако, так высоко, что я не могла до него дотянуться. В ней часто жила бабушка и мы, дети. Водопровода в доме не было, и за водой приходилось ходить во двор, к колонке; а путь в туалет лежал через соседский сад. К счастью, у нас был двор. Летом мама купала нас в корыте на солнышке: раз уж солнце не заглядывало к нам в дом, приходилось самим идти к нему. Зимой жилось гораздо труднее: вода в колонке часто замерзала. Но в тот день, осенний день, стояла ясная теплая погода. Мы втроем — Матита, Кристиана и я — играли с камешками. Мне было шесть лет, Матите — пять, а Кристиане — четыре года. Мама шла по двору с грудой белья, собираясь расстелить его на траве. И вдруг она как закричит:
— Боже милостивый! Да что это со мной?! Матушка!
И она выронила белье. Теперь наша бедная мамочка стояла на одной ноге. А другую ногу изо всех сил сжимала руками. Ее ладони и пальцы были в крови. Но кровь все бежала. Нет, кровь. кровь. била струей из ее ноги, и на земле расплывалась красная лужа. Прибежала бабуля и принялась звать соседа:
— Господин Вержье, скорее сюда, скорее! Нужно перетянуть ей ногу жгутом!
Бедное мамино лицо все побелело, исказилось от боли, а кровь. эта кровь. И тогда я потащила обеих сестренок в сарайчик, куда ссыпали уголь, когда он у нас был. Мы забились туда и ревели в три ручья. Невозможно было понять, где чьи слезы. Мы размазывали их по лицу вместе с угольной пылью, и, когда бабушка вытащила нас на свет божий, мы походили на трех негритят. Но только всем было не до смеха. Маму увезли в больницу.
— Это все ее разбухшие вены, — сказала бабуля. — Они у нее полопались.
— А почему?
— Ноги у нее совсем износились, понимаешь? Ты ведь видела, как расползается старый лоскут. У нее, у бедняжки, здоровье слабое, а работы — через край. И все время появляются младенцы, потому она так и устала, понимаешь?
Нет, я ничего не понимала. Почему в таком случае мама не оставляет этих малюток в капусте?
— Но тогда бы тебя не было на свете. Не было бы ни Матиты, ни Кристианы, ни Мари-Франс, ни Режаны.
Режана была у нас самая младшая, она еще лежала в пеленках.
Это воспоминание вселило в меня ужас перед кровью. Я до сих пор от него не избавилась. Особенно потому, что не раз его испытывала — почти перед каждым прибавлением нашего семейства. Когда это случилось вторично, на поиски соседа бросилась Матита. Он подстригал живую изгородь.
— Скорей сюда, господин Вержье, опять нужен жгут!
Когда мама попадала в родильный дом, где ее выхаживали, она всякий раз повторяла:
— Только тут я и отдыхаю! Будто в отпуске нахожусь!
А когда мама уходила домой с малюткой на руках, сиделка говорила ей, весело улыбаясь:
— До свидания, госпожа Матье. До скорой встречи!
Оправившись после родов, мама мужественно отправлялась в привычный путь из квартала Круазьер к центру города.
— Ничего, все наладится, — говорила она. — У меня есть верное средство против боли.
И она уходила прихрамывая. Однажды утром, разглядывая свою ногу, всю изъеденную язвами, мама промолвила:
— Когда-нибудь мне ее отрежут…
Я ужаснулась и сказала:
— Я принесу тебе мазь от аптекаря.
Мазь стоила 20 франков. Сейчас это для меня пустяки. Но тогда для нас это были огромные деньги.
— Может, он отпустит ее в долг, — с надеждой сказала мама. Я попыталась, но. из этого ничего не вышло.
— Тем хуже, — заявила я сестренкам, — будем меньше есть.
Когда позднее, много позднее — после того, что было названо «успехом маленькой Матье», — удалось наконец положить маму на операцию, на ее бедных ногах обнаружили 23 язвы. Я ей тогда сказала с грустью:
— Ох, мамочка! Ты у нас просто мученица! А она мне ласково ответила:
— Да нет! С чего ты взяла! Старшенькая моя. до чего ж ты боязлива, девочка. Если бы я, как ты, всего страшилась, меня б давно на свете не было!
Я это хорошо понимала. Но разве могла я поведать журналистам историю маминой болезни?!
Однажды один из них весьма учтиво со мной попрощался. Но слух у меня острый, и я услышала, как он сказал своему приятелю, который ждал его в коридоре:
— Очень мила. Но сущая идиотка!
Я безропотно снесла обиду. Он был прав, я тогда ничего не умела, особенно поддерживать беседу. Я походила на крольчонка, который впервые покинул свое убежище и замер, ослепленный лучами солнца. Я тоже впервые покинула свое захолустье и ни за что не хотела туда возвращаться. Я хотела покорить этот мир, где все, казалось, сверкало: глаза людей, юпитеры, автомобили, зеркала, драгоценности, улыбки. Этот мир представлялся мне олицетворенным чудом. Чудом, о котором я однажды молила всей душой. А когда оно — через 11 лет! — свершилось, я ухватилась за неслыханную удачу и твердо решила никогда ее не упускать. Я считала и поныне считаю, что если уж человеку улыбнулась удача, он не смеет ей изменять, он должен служить ей душой и телом. И каждое утро, открывая глаза, должен благодарить небо, ниспославшее ему счастливый случай.
Мама верит в Бога. Однажды мне кто-то сказал: «Вера — это единственная роскошь бедняков». Пусть так. Выходит, и у бедности есть свои преимущества.
Я думаю, мама в детстве была не так бедна, как мы. Однако она была гораздо несчастнее, потому что в нашей семье все любили друг друга. У нее, у Марсель-Софи, в те годы не было настоящего домашнего очага. Отец обожал ее, мать, без сомнения, тоже, но только на свой лад: она работала в кафе и жила собственной жизнью, и потому маленькую Марсель в детстве воспитывали бабушка и старшая сестра. Они жили тогда в Дюнкерке. Моя мама родилась недалеко от этого города — в Розендале, что по-фламандски означает «Долина роз». Война превратила ее в «Долину ужасов»… Но еще до войны, когда маме было всего 14 лет, судьба уготовила ей жестокое испытание: ее сестра заболела туберкулезом. Мама выхаживала сестру как могла. В ту пору — дело происходило в 1936 году — антибиотиков еще не было, туберкулезных больных лечили, вернее сказать, пытались лечить, прибегая к пневмотораксу. В конце концов, больную отправили домой. И маленькая Марсель таскала на себе большие кислородные подушки. На улице люди провожали ее взглядом и шептали вслед: «Она несет их своей чахоточной сестре!» Тогда все ужасно боялись заразиться, и потому даже подруги перестали к ней приходить. Но ей было все равно. Она тоже ни с кем не виделась и жила только одним: надеждой на выздоровление сестры. Она походила на человека, который стремится спасти утопающего и плывет, плывет из последних сил, с трудом поддерживая голову тонущего над поверхностью воды, а достигнув берега, с ужасом замечает, что. Кислород не помог, неминуемый конец наступил, и бедняжка испустила дух на руках у младшей сестры, которая осталась вдвоем со старой бабушкой.
Когда мама рассказывала мне о своем детстве, я всякий раз думала, что ее судьба была куда горше моей: если мы даже и страдали от голода и холода, то на душе у нас было тепло, потому что мы жили дружной семьей. Она же, бедняжка, была так одинока.
А потом началась война. И мамина бабушка, которая родилась в 1848 году, говорила ей:
— Ну, я на своем веку уже две войны пережила!
Однако старушка и представить себе не могла того, что вскоре началось в Дюнкерке. Мама стала работать, она шила чехлы из брезента для железнодорожных платформ. Это занятие было ей по душе. Она любила трудиться и легко заводила подружек. Ей нравилось управляться с огромной иглой, а затем старательно натягивать готовый брезент!
27 мая 1940 года немцы бомбили город, чтобы помешать союзникам грузиться на корабли. Началось что-то ужасное. Всюду пылали пожары. Марсель и ее бабушка бросились в ближайший подвал. Старушка не разглядела в ночной темноте пучок электрических проводов. Она запуталась в них и не могла высвободиться. Девочка стала звать на помощь. На ее крики никто не отозвался. Напрягая все силы, она помогла бабушке подняться на ноги. Когда обе выбрались наружу. оказалось, что их дома больше нет, они остались в чем были. Всюду виднелись дымящиеся развалины.
Бомбардировки продолжались, несчастные переходили из одного подвала в другой, там искали спасения сотни людей. Когда весь этот кошмар кончился, пришлось разбирать развалины и вытаскивать погребенных под обломками людей. Девочка поместила свою бабушку в больницу, а сама, как и другие, бедствовала.
26 сентября 1940 года старушка умерла. Она упала с лестницы и сломала шейку бедра. Она упорно твердила:
— Миленькая моя Марсель, кто-то меня толкнул.
— Да нет же, нет! — утверждал главный врач. — Она сама упала.
Марсель была склонна верить своей бабушке, которая сохранила ясный ум: ей было 92 года, а она охотно припоминала различные события французской истории! От нее я и унаследовала, без сомнения, интерес к истории…
И вот маленькая Марсель осталась совсем одна; она решила отправиться в кафе, чтобы разыскать свою мать. Однако ее там уже не было. У хозяйки кафе было двое маленьких детей, один из малышей был очень странный: на него тяжело подействовала война. Он боялся дневного света, говорил, что свет режет ему глаза, и, как больной зверек, упрямо забивался в темный стенной шкаф. Его мать предложила девочке присматривать за ребенком: сама она весь день хлопотала в кафе, и у нее не оставалось ни одной свободной минуты. Девочка привязалась к несчастному малышу Она выводила его на прогулку Старалась вернуть к нормальной жизни. Мало-помалу он перестал бояться дневного света. Так проходили годы войны. А потом опять начались бомбардировки — шел уже 1944 год — и владелица кафе сказала девочке: «У меня в Авиньоне живет кузина. Поедем туда все вместе».
Скромные сбережения Марсель ушли на эту поездку. И вот девочка с севера Франции, никогда прежде не покидавшая родных мест, оказалась в Провансе, в городе, где некогда нашли себе прибежище римские папы. Там звучала южная речь и звенели стрекозы.
Приезжие поселились на улице Кремад. Теперь у матери маленького Раймона уже не было кафе, и она могла сама заботиться о своем сыне. Марсель пришлось искать другую работу. Из объявления она узнала, что мэрии требуется «молодая девушка со школьным аттестатом». Она тут же настрочила письмо и получила это место. Ей поручили заполнять хлебные карточки, которые еще не были тогда отменены. Она была очень расторопна и работала быстрее всех! За час заполняла рекордное число карточек, к тому же ни разу не потеряла ни одной карточки и легко уличала мошенников.
— Эта девочка просто неподражаема, — говорил ее начальник. — Она заполняет столько карточек, что они весят больше, чем она сама!
Его слова были не таким уж преувеличением: Марсель весила тогда всего 38 килограммов!
Проработав полтора года в мэрии, она начала скучать.
— Хлебные карточки больше заполнять не нужно, теперь я весь день клюю носом над конторской книгой, куда почти нечего записывать.
— Я не хочу, чтобы ты увольнялась, — уговаривал ее начальник. — Возьми положенный тебе отпуск и немного отдохни.
Многие не упустили бы подобного случая. Но не Марсель. Она не могла ничего не делать. (А я вот могу. Могу просто наблюдать, как растет дерево. Смотрю и стараюсь представить себе, как в его сердцевине по волокнам бежит сок. Могу без устали следить, как ползет паук или муравей.) К тому же надо было зарабатывать на жизнь, ведь Марсель по-прежнему жила у матери маленького Раймона, а та отбирала у нее все жалованье, выдавая по воскресеньям на мелкие расходы по 20 сантимов. И эти жалкие 20 сантимов Марсель откладывала, мечтая купить себе подвенечное платье. Дело в том, что она влюбилась.
Счастливое семейство. Родители Роже и Марсель Матье в окружении своих пока еще восьмерых детей
Картошка, чечевица, черствый хлеб и чесночная похлебка — вот что мы обычно ели… Но мы чувствовали себя счастливыми, потому что были все вместе
Произошло это на площади Карм прекрасным сентябрьским вечером, когда ночи стояли еще такие теплые. Был устроен бал. До сих пор в жизни Марсель было очень мало развлечений. Но наступил мир. Все было залито ярким светом, горели разноцветные фонарики. Миниатюрную, легкую как перышко, ее тут же пригласил на танец какой-то парень. На губах у него играла приветливая искренняя улыбка, а цвет его глаз напомнил Марсель море, которого ей так не хватало. У него были очень сильные руки.
— Меня зовут Роже Матье.
— А как ваша фамилия?
— Матье и есть моя фамилия.
Перед мысленным взором Марсель возникла большая конторская книга, лежавшая на столе в мэрии.
— Мне встречалась эта фамилия в списке на получение хлебных карточек. Тот Матье — каменотес.
— Это мой отец.
Девушка облегченно вздохнула: хотя с виду этот малый походил на драчуна, у его отца, оказывается, собственный дом.
— А какие камни он гранит?
— Отнюдь не драгоценные… Он делает надгробия.
Марсель пришла в восторг:
— И кресты тоже?
— Да. И ангелов, и пречистых дев.
— Пречистых дев?!
Она перекрестилась.
— Я вижу, вы верующая?
— Да- Я тоже.
— А сами вы чем занимаетесь?
— С двенадцати лет работаю вместе с отцом. Вернее сказать, работал, потому что я только что вернулся из Германии. Грязная война…
Марсель заметила, что при этих словах он помрачнел. Она сказала самым ласковым тоном:
— Но ведь теперь-то война кончилась.
— Да, кончилась и, надеюсь, больше не повторится. А сами вы откуда? Произношение-то у вас нездешнее.
Она рассказала ему о своей жизни в Дюнкерке в годы войны: о мертвых английских солдатах в канавах у дорог, о торпедах, разрушавших здания, о том, как люди прятались в подвалах, страшась и надеясь, что каменные своды не рухнут. Она описала, как в спешке уезжала из города, как их поезд бомбили; они застряли на вокзале в Амьене, и бомбардировщики на бреющем полете проносились над ними. Он спросил, нравится ли ей здесь, на Юге. Она призналась, что поначалу мистраль часто не давал ей уснуть и что Авиньон — совсем маленький город по сравнению с Дюнкерком.
— Да, а вы еще не сказали мне, как вас зовут.
— Марсель-Софи Пуарье. Но хочу вас сразу предупредить: я уже наслушалась шуточек насчет того, что по-французски слово «пуар» означает не только грушу, но и простофилю!
Он рассмеялся, а про себя подумал, что ей неплохо бы поменять фамилию и что «Марсель Матье» звучало бы гораздо лучше.
С того дня они больше не расставались. Она, как и собиралась, ушла из мэрии. И поступила работать на картонажную фабрику. Теперь она больше не сомневалась: ей удастся скопить деньги на подвенечное платье. Она придавала этому большое значение, потому что ее родители так и не обвенчались.
Марсель жалела только об одном, что бабушка и старшая сестра могут увидеть ее свадьбу только с небес. Утешалась же она тем, что ее свекор занят таким прекрасным ремеслом. Марсель часто приходила к нему в мастерскую возле кладбища. Там папаша Матье трудился над камнями, которые он тщательно и любовно отбирал.
— Камень — что женщина, — приговаривал он, — всегда обращаешь внимание на цвет ее лица и родинки на нем.
При этом все вокруг смеялись, потому что семья Матье отличалась веселым нравом.
У Роже был очень красивый голос, тенор.
— Может, мне стоит попробовать силы в опере? — попытался он было заикнуться, когда ему исполнилось 16 лет.
Отец так и взвился. Певец! Разве это профессия?! Работать с камнем — вот настоящее дело! Надо сказать, что в роду Матье профессия передавалась от отца к сыну уже много поколений. Правда, во времена Авиньонского пленения пап Матье занимались иным ремеслом и трудились над более деликатным материалом — они были садовниками.
Думается, я тоже кое-что унаследовала от этих моих далеких предков. Я имею в виду то волнение, которое охватывает меня при виде цветов и растений, то удовольствие, с каким я ухаживаю за своими орхидеями и гардениями в моей маленькой теплице в Нейи, и ту радость, какую я испытала однажды утром, когда, бродя по полям за нашим домом в квартале Круазьер, наткнулась на полянку клевера с четырьмя листочками… Эту находку я долго хранила в тайне, как бесценное сокровище. Как знать, может быть, именно она и принесла мне счастье?
— Ну и везет же тебе, малышка! — воскликнула бабуля.
Она была незаурядной личностью, наша бабуля! Мы, малыши, только так и называли ее. А звали ее Жермена. У нее были очень густые и длинные волосы, выпуклые скулы, большие, черные, миндалевидные глаза и чудесный голос. Как и мой отец, она всегда пела по-провансальски. И с дедушкой они говорили тоже только по-провансальски. Выйдя замуж за Роже Матье, моя мама, девушка с Севера Франции, вошла как бы в чужеземную семью. Но она так сильно любила своего мужа, что отправилась бы с ним даже к папуасам. Когда не чуждая колдовским чарам бабушка устремляла жгучий взгляд черных глаз на невестку, она встречалась со взором ясных голубых глаз, в которых отражалось само небо.
Итак, мама венчалась в белоснежном платье. Она не собиралась никому пускать пыль в глаза. Просто такова была традиция. И ее придерживались обе: невестка с Севера и свекровь с Юга. Замуж выходят один раз — и на всю жизнь.
— Белоснежное платье не менее священно, чем монашеское одеяние, — считала моя мама.
Она вступала в брак, как другие поступают в монастырь. И хотя сама бабушка уже не жила больше с дедушкой, она одобряла взгляды своей невестки. Я так никогда в точности и не узнала, что именно произошло между стариками. Они жили порознь, хотя и не разводились. В семействе Матье разводов не признавали. А так как их дочь (моя тетя Ирен, которой предстояло сыграть огромную роль в моей жизни) вышла замуж и стала матерью семейства, наша бабуля стала жить в доме своего сына.
Согласно традиции — во избежание беды — жених не должен был заранее видеть подвенечное платье. Он получал право на это только в день свадьбы.
Надо сказать, что я унаследовала от бабушки ее суеверие: если бы мне вдруг пришлось в какой-нибудь телевизионной передаче появиться в подвенечном платье, я бы почувствовала себя совсем несчастной. К счастью, такого случая не представилось.
Итак, в апреле 1946 года те, кому вскоре предстояло стать моими родителями, дружно ответили «да» перед лицом мэра и священника, и произошло это даже позже, чем следовало, потому что, как говорят у нас, «передник у нее вздымался».
Я не замедлила появиться на свет: родилась 22 июля.
— Малышке повезло, она родилась под созвездием Рака, — изрекла бабуля, она хорошо разбиралась в истолковании знаков Зодиака.
Мне выбрали имя «Мирей», иначе и быть не могло. Так единодушно решили папа и дедушка. Папа был страстный поклонник оперы, а дедуля преклонялся перед Мистралем.
Один декламировал по-провансальски:
Cante uno chato de Prouvenco
Dins lis amour de sa jouvenco.
(О деве из Прованса я пою,
Впервые встретившей любовь свою.)
Другой пел: «О, ангелы в раю.»
И оба склонялись над постелью молодой мамы, которая нежно прижимала меня к груди.
— Никак не возьму в толк, как такая хрупкая женщина, которая питается одними анчоусами, сумела произвести на свет ребятенка весом в два кило с лишним!
Мама, и вправду сказать, утратила привычку есть нормально, если у нее такая привычка когда-либо была. Ужин в доме свекра, обожавшего свинину, был для нее сущей мукой. Она съедала анчоус, что, по общему мнению, возбуждает аппетит, брала себе немного риса — и дело с концом!
Дедушка беспокоился: как эта худышка из Фландрии станет рожать ему внуков? В ответ бабуля заявляла, что это не его забота! У нее были свои рецепты. Уж конечно, не в Дюнкерке мама могла узнать, что укроп — на Юге он достигает человеческого роста — прибавляет молока кормящим матерям, что чесночный отвар взбадривает не меньше, чем отвар из хины, а масло из тыквенных семечек укрепляет кости.
— Можете все быть спокойны, она так же крепка, как башня Папского дворца!
А маме необходимо было крепкое здоровье… Война оставила свою отметину на ее муже. В Саарбрюккене он попал под бомбардировку, его отбросило взрывной волной и сильно контузило. Из-за этого у него плохо сгибалась рука и с трудом поворачивалась шея, что одно время ошибочно приписывали карбункулу. Когда у отца уже были жена и ребенок, он вдруг обнаружил, что ему не по силам труд каменотеса. Его охватило уныние, так что маме пришлось в одно и то же время возиться с младенцем, выхаживать мужа и вести хозяйство в доме с островерхой крышей, который комфортом не отличался.
Доктор Моноре утешал ее: Роже выправится, ведь он здоровяк, другой бы на его месте погиб. Нужно только проявить немного терпения и поддерживать в нем бодрость духа. Терпения-то у мамы хватало! А поддерживать в муже бодрость ей помогала безграничная любовь к нему.
Зимой обитателям нашего дома приходилось особенно тяжело: в нем было так сыро, холодно и мрачно. У отца был полный упадок сил, он даже не выходил на улицу. Приближалось Рождество. Первое Рождество в моей жизни, которое, впрочем, в счет не идет, ведь мне было всего полгода. Но мама непременно хотела его отпраздновать, потому что это было первое Рождество в ее семейной жизни.
— Отпраздновать? Но как? — недоумевал отец. — Денег-то у нас нет.
— Положим, немного найдется.
И она продала свои сережки. Только их ей и удалось спасти в Дюнкерке. Эти золотые сережки с крошечными жемчужинами необыкновенно шли ей. Это был подарок ее бабушки к первому причастию.
— На эти деньги, — заявила мама, вытаскивая 500 франков, полученные за сережки, — можно устроить рождественский ужин для всей семьи. Пригласим твоих родителей и сестру Ирен, подадим на стол жаркое с овощами, а на оставшиеся деньги купим глиняные фигурки святых!
Тогда отец, который весь день предавался мрачным мыслям, съежившись на стуле, впервые за долгое время улыбнулся.
— Превосходная мысль! — воскликнул он. — А я смастерю к празднику рождественские
ясли!
И он тут же принялся за работу, забыв и думать о своем фурункуле. Раздобыл картон. Глаз и рука у него были верные — он быстро нарисовал домики, овчарню, мостик, стойло. Вырезал, прилаживал, клеил. До тех пор он только высекал надгробия, но теперь выказал незаурядные способности художника-миниатюриста: из множества кусочков пробковой коры он сложил старые каменные стены. Затем соорудил часовенку, потом мельницу Доде. Целыми часами он трудился, не разгибая спины. Мало-помалу из картона и бумаги возникли холмы.
Мама с восторгом следила, как вырастало под его руками селение. Должно быть, и я с соской во рту следила за происходящим.
— Теперь фигуркам святых будет вольготно!
Папа, уже три месяца не выходивший из дома, отправился в окрестные леса. Он принес оттуда мох и уйму веточек, чтобы сделать игрушечные деревья. Потом купил мыльную стружку, взбил ее, как яичный белок… И получился снег, надо признаться, великолепный снег, который тут же пошел в дело. Высыхая, эти мыльные снежинки твердеют, твердеют все больше. Но к ним лучше не притрагиваться, а то защиплет в носу — и сразу вспомнишь, что они из мыла.
Когда все сооружения были готовы, мои родители любовно разместили внутри купленные фигурки, их было много: пузатый мэр с трехцветным шарфом, барабанщик, рыбак с сетью, торговка пирожками с большим противнем, женщина с арбузом в руках и другая — с кувшином, продавщица морских ежей, цветочница, женщина с миской чесночной похлебки, пряха с прялкой, пастух, опирающийся на посох, арлезианка, вожатый с медведем, цыганка, дородный священник, вытирающий пот со лба. И, разумеется, восхищенная чета: воздев руки, она восторгалась младенцем Иисусом.
С матерью у рождественских ясель, которые смастерил отец, когда Мирей было всего пять месяцев. Рождество в доме Матье всегда было главным семейным праздником
Когда все было закончено, полюбоваться рождественскими яслями собрались родные и соседи: пришел каменщик-облицовщик господин Фоли — в глубине его сада помещался туалет, пришел и торговец домашней птицей господин Вержье. Пришел и дедуля.
— Ну что ж, Роже, видать, ты пошел на поправку!
— Одно дело работать с картоном, а другое дело — с камнем!
Тем не менее, он стал выздоравливать. И уже весной снова взял в руки резцы и молоток.
— Этим чудесным исцелением мы обязаны рождественским яслям, — восклицала мама. — Яслям, связанным с нашей малюткой Мирей! Мы будем их восстанавливать каждый год. В них наша защита.
В прошлом году — через 40 лет — я приехала на Рождество в Авиньон. Здесь многое изменилось. Теперь квартал Круазьер не узнать. Какое счастье, что я в свое время набрела на клевер с четырьмя листочками. Сейчас бы я его не обнаружила. Там, где чуть ли не до самого горизонта тянулись поля, теперь высятся новые дома… Но рождественские ясли сохранились. Все, что сделал некогда отец из картона и бумаги, — на месте. «Его» стойло, «его» мельница, «его» домики по-прежнему приводят в восторг — теперь уже папиных внуков. Мой брат Роже с благоговением, осторожно достает фигурки из коробок, где они хранятся. Их даже прибавилось. Теперь пастух пасет больше баранов, чем 40 лет назад! В игрушечном селении появилось электричество, и крошечные лампочки освещают дома. Но в остальном.
— Знаешь, — как-то сказала мне мама, — наши рождественские ясли и ты — одного возраста. Но только ты изменилась гораздо больше, чем они.
Первые гонорары
Впервые празднование Рождества запомнилось мне в четырехлетнем возрасте. Папа к тому времени совсем поправился, и к нему вернулась обычная веселость. Он пел дома, пел в мастерской дедушки, и, слушая его, я застывала, словно зачарованная, — совсем как змея при звуках дудочки заклинателя. Как только раздавалось папино пение, я вторила ему, точно канарейка. Это приводило его в восторг, и в конце концов он объявил, что в этом году я непременно приму участие в праздничном песнопении.
То была еще одна местная традиция. После торжественной мессы в примыкавшем к церкви Нотр-Дам-де-Франс зале благотворительного общества собирались любители хорового пения, жившие поблизости: надев национальные костюмы, они разыгрывали различные сценки, изображая рождественских персонажей, танцевали и пели по-провансальски. Я почти ничего не понимала в происходящем, но папа упорно настаивал, чтобы я тоже что-нибудь спела.
— Она еще чересчур мала, — возражала мама. — И так робка и боязлива, что ты мне из нее дуреху сделаешь! — прибавляла она, уже настолько усвоив местную манеру говорить, будто никогда и не жила в Дюнкерке.
— Какую еще дуреху! — ворчал отец. — Я не дуреху, а соловья из нее сделаю!
Мне сшили прелестное платьице. На репетиции я пела хорошо, совсем как дома, и не сводила глаз с отца, стоявшего внизу у сцены. Но вечером.
— Что ей лучше дать: настой из розмарина для успокоения или отвар шалфея, чтобы взбодрить немного? — допытывалась мама у бабули, которая не имела готового рецепта для подобного случая.
— Дадим ей, пожалуй, немного меда, чтобы голос получше звучал!
Я была в панике: в зале полно людей, знакомые со мной заговаривали. Я запела, но уже на четвертом такте. осечка. В отчаянии я искала глазами отца. Он стал мне подсказывать, я ничего не понимала, как в омут провалилась. Но он не оставлял своих попыток, и к всеобщей радости я вынырнула на поверхность. И впервые испытала истинное волнение, подлинную тревогу, так как впервые выступала перед публикой и заслужила первые аплодисменты. Папа протянул мне леденец. Никто еще не знал, что это был мой первый гонорар.
А мой второй гонорар. Впрочем, то был не просто гонорар, а чудо. Дело происходило в детском саду, который находился недалеко от дома, у входа рос изумительный розовый куст, быть может, тогда и зародилась во мне любовь к изысканным ароматам. Я не уставала любоваться этими розами. Какое удовольствие наблюдать, как бутоны раскрываются по утрам и снова закрываются вечером, когда уходишь домой! Казалось, они желают мне доброй ночи, и я им отвечала тем же. Само собой понятно, что к розам слетались пчелы, и я говорила себе: как, наверное, приятно быть пчелкой, она может зарываться в душистый цветок и вдыхать его чудесный запах. Встреть я в ту пору какую-нибудь фею, я б непременно сказала ей: «Мадам, мне бы доставило огромное удовольствие жить среди лепестков розы!» Иногда я думаю: вероятно, это наивное детское желание побудило меня выбрать розовый атлас, чтобы украсить им свою комнату, когда я, став известной певицей, обживала свое первое собственное жилище в Нейи!
— Ты что, видела такую комнату в Голливуде? — однажды спросила меня приятельница.
Вовсе нет! Думаю, все дело в воспоминаниях, связанных с детским садом! Кстати, я очень любила нашу заведующую госпожу Обер. Мне нравились и стихи, которые мы все вместе разучивали. В них говорилось о цветах или о животных, их было так легко запоминать:
Маленький цыпленок
Зернышко клюет,
Маленький крольчонок
Под кустом живет.
Курочка-пеструшка
Нам яйцо снесла,
Розовая хрюшка
На траву легла.
А вот другой стишок:
Кролик голову повесил,
Муравей совсем невесел,
У мышонка сто забот…
Кто на помощь им придет?!
Иногда мы пели короткие песенки, и тут я особенно усердствовала — недаром же папа называл меня соловьем! Вот почему на следующее Рождество я распевала уже не детскую считалочку, а настоящую песню:
Как мне куколку унять?
Ни за что не хо-очет спа-а-ть!
Я пела эту песенку для всех детей, собравшихся вокруг елки в нашем детском саду. Разумеется, я, как и другие, получила в подарок игрушку. Но она меня не слишком интересовала, я даже в точности не припомню, что это была за игрушка. Чудо было в другом — это платье, в которое меня нарядили по случаю праздника! Когда его на меня надели и я увидела себя в зеркале. Это платье из тюля было такое легкое, просто воздушное, и. розовое! Я превратилась в цветок! Настоящее диво! На этот раз я не волновалась и не робела. У меня было такое чувство, будто ангелы подхватили меня и уносят на небо!
Перед уходом домой я сняла платье. Да и как я могла оставить его у себя?! Разве можно было хранить подобное платье в нашем доме, где на стенах проступала сырость. Это было бы оскорбительно для такого свежего, красивого, сверкающего платья. Я понимала, что оно не для меня, и потому не испытывала горечи. Мама часто говорила: «Слава добрая дороже позолоченных сережек», а затем прибавляла: «Может, денег у нас и нет, но зато нас все уважают». Позднее, когда я начала изучать историю Франции (она меня так захватывала!), то поняла: по одну сторону — короли, королевы… и разные вельможи, чей удел — необыкновенные приключения, а по другую сторону — народ, чей удел — нищета. Так уж повелось.
В наших краях тоже высился замок. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с замками французского короля, но тех я никогда не видала, и для меня любой замок был настоящим замком. В моем представлении Король-Солнце, Спящая Красавица и владелица нашего замка были существами одного порядка. О ней нам было известно только то, что она богата.
— Туда не нужно ходить! — говорили родители.
Этот запрет лишь побуждал нас как ни в чем не бывало отправляться гулять в ту сторону. Мы брели по дороге, обсаженной шелковицами, добирались до приморской сосны, милой сердцу Мари дю Крузе, важной дамы, которая учила нас катехизису. Это была очень высокая сосна, она виднелась уже издали. Верхушка ее все время гнулась и распрямлялась: ветер не оставлял ее в покое. Возле замка росло множество больших деревьев, за ними было так удобно прятаться. Из своего укрытия мы хорошо различали посыпанную песком аллею, катившие по ней экипажи, из них выходили нарядно одетые дамы.
— О! Погляди на ту, что в белом, до чего она красива! — Нет, мне больше нравится та, что в голубом! — Ах, нет! Прекраснее всех та, что в желтом платье, расшитом цветами!
Никто ни разу не обнаружил, что мы подглядываем за происходящим в замке, хотя внутри мы так и не побывали. Теперь, повидав множество других замков, я по здравому размышлению пришла к выводу, что то была просто небольшая дворянская усадьба. А позднее она перестала быть такой, какой представала нашим глазам, когда мы смотрели на нее, прячась за деревьями, что росли вдоль дороги в Массиарг. Здание преобразилось — стало как будто меньше, его обступили теперь дома с умеренной квартирной платой, похожие друг на друга.
Домами этими застроили все наши поля. А ведь поля служили не просто местом для игр, там было наше королевство.
В домах, где мы жили, было сумрачно и тесно. А бескрайние поля манили к себе свободой и светом. И сулили нам новое удовольствие: здесь росли самые разные цветы (ведь возле детского сада были одни только розы) — васильки, нарциссы, цвел боярышник. Тут всегда можно было сорвать что-либо полезное для бабули и, как она говорила, «для нашего доброго здоровья».
Оттуда нам случалось приносить домой головастиков. Мы сажали их в банки и спорили, чей головастик вырастет быстрее. Старались ловить кузнечиков, что было совсем нелегко; потом кузнечика зажимали в кулаке и подносили к уху, чтобы послушать, как он стрекочет.