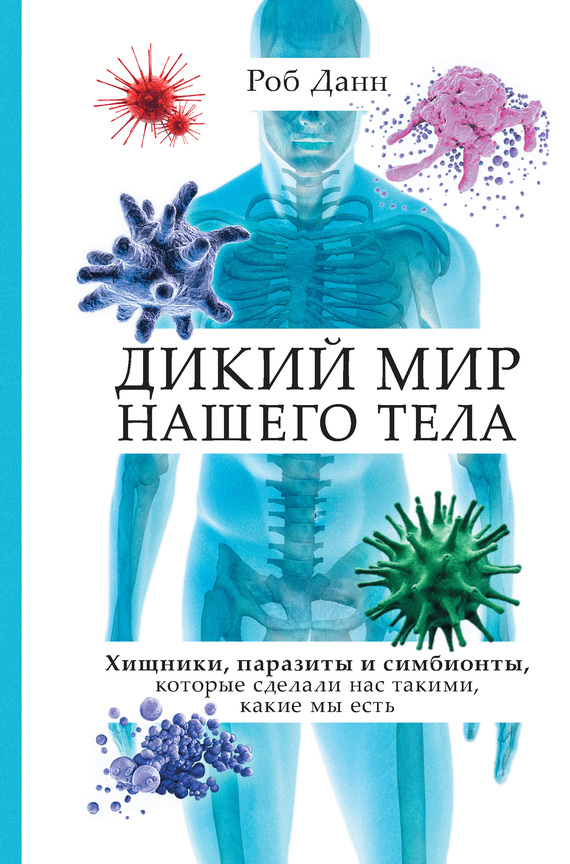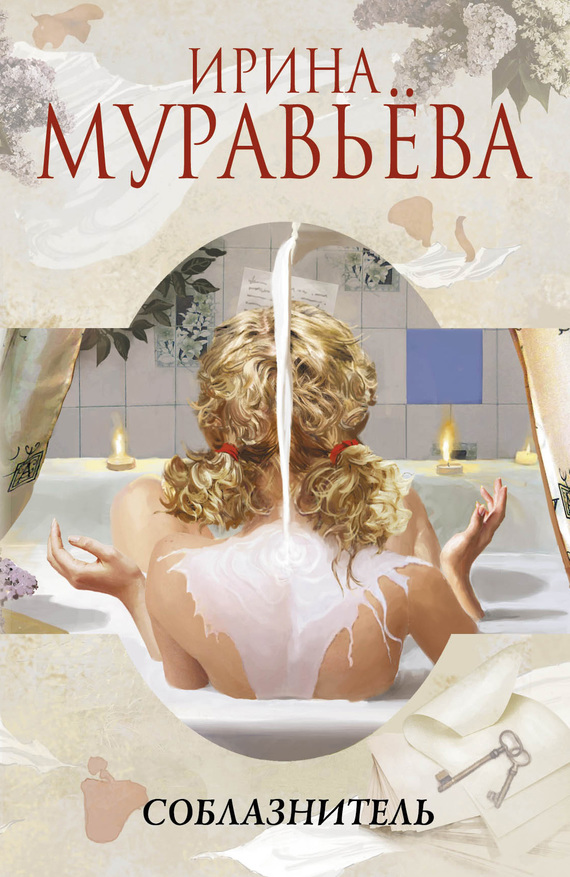Одиночество мужчин Рублева Юлия

На моей кредитной карте были деньги. И у меня были наличные. Я могла покупать все, что захочу. Но я не покупала, примеряя себя к новой жизни, где Жиль по утрам говорит: «Жюли, экономим!» и где у меня нет собственных средств. Я познакомилась с петербурженкой Алисой Лешартье, которая зазывала меня в «Самаритен» съесть какие-то необыкновенные пирожные. Ее муж был программистом, и они мотались между тремя странами – Швейцарией, Францией и Россией. Ее двое малышей разговаривали на трех языках. Я чувствовала, что, живя с Жилем, я не увижу никаких пирожных и посиделок с подружками.
Я не знаю, как это сказать точно, но от него веяло какой-то беспредельной патриархатщиной. Я совсем не феминистка, мой муж мне говорил, что со мной очень уютно жить, но тут пахло опасностью. Я им не восхищалась и мне не хотелось его слушаться. Поэтому в любой момент я могла превратиться в разъяренную стерву, испортив жизнь и себе, и ему. Для меня это был однозначный мезальянс, неравный брак. Но я все-таки колебалась.
Он так заботливо укрывал меня в машине пледом, так терпеливо сносил все мои капризы, так ничего не требовал – лишь бы я была! Он ходил за мной по пятам и все время меня нюхал, целовал, тискал. Он говорил, что любит мой запах и мой смех.
Мы поехали в Версаль с его братом, его женой и детьми. Их маленькая дочка с необычным именем Киян, лет шести, почему-то меня полюбила. В ресторане за обедом она подошла ко мне и молча поцеловала в щеку. Все чуть не зарыдали от умиления. У меня просто сжалось сердце. Жиль везде представлял меня как будущую жену. А я именно тогда, в Версале, замыслила побег. Я знала, что вряд ли увижу когда-нибудь еще Киян и ее сестру. Я еле улыбалась окружающим и с трудом понимала, о чем они говорят. Мне было уже все равно. Я хотела домой. В Россию, где хамят и не говорят «пардон». Но где все разговаривают на русском и где ты своя.
И все же я мучительно размышляла, что в России у меня есть только любимая работа и дочь. Я редактор и мама. Меня уже давно нет как женщины, жены, любовницы. И я снова колебалась. Прилетев в Москву, я думала несколько дней. Меня все спрашивали – ну что ты решила? И я не могла ответить.
Ответ, ясный и понятный, пришел ко мне однажды серым московским утром, когда я на такси ехала на работу. И это было «нет». И огромное облегчение. Словно гора с плеч упала.
Ну в общем-то и все. На этом история закончилась. Жиль звонит мне и пишет до сих пор. Редко, но регулярно. Мне было трудно ему сказать, что я не приеду, но я сказала. Это было мучительно, я чувствовала себя сукой и стервой. У меня осталось уважение к нему и благодарность. Он на редкость добрый и достойный человек, и возможно, будь он понастойчивее и живи он в России, я бы сдалась. Я не исключаю, что мы еще будем видеться, если захочу, в Париже – вот в него я слегка влюблена.
Больше всего мне жалко моего французского языка. Язык прекрасный, легкий, а для русского человека вообще второй родной. Девятнадцатый век оставил нам в наследство огромное количество французских слов, я даже не подозревала – сколько.
За два года до этого в один журнал я написала колонку про французскую песенку. Интересно, что в ее «французской» части все сбылось почти дословно. Вот она:
«…Я хотела бы жить во французской песенке. Знаете, такой легкий шансон – любовь, ля-ля, завтрак в отеле с видом на Лазурный берег, кофе, горячий рогалик, поцелуи в шею, роза и ревность. Он ее целует везде-везде, она надувает губки и строит глазки официанту. Или – она на него глядит нежным и глубоким взглядом, а он сидит в профиль и чистит апельсин, девочка моя, так-то. Потом все друг друга бросают. Такая любовная историйка. На историю не тянет.
Хотите историю – полезайте жить в русский романс. Вот где вы увязнете в речном песке, под луной, в сумасшедшем одиночестве. Там все – невозможно, не спрашивайте, почему. Никаких поцелуев, роз и апельсинов. Одна тоска и надрыв. Скомканный платочек, сухие глаза: рыдать нельзя, это из оперы. Бракосочетаться тоже нельзя, это загубит все на корню, и вообще, желателен трагический конец, чтобы один разлюбил или, на худой конец, умер.
В общем, похоже, самый смак – это водевиль. Там можно нормально обглодать куриную ножку, а твоя любовь, не стесняясь, будет хлестать пиво. В этой любовной истории вы растолстеете и поздоровеете, научитесь напевать дурацким голосом и щипать друг друга за ушко.
Есть еще испанская гитара, но там вас непременно задушат из ревности. Еще можно жить, жуя жвачку, в попсе, но лучше – в русском роке, только вы должны быть спимшись. Главное – не лезть в военный марш и государственный гимн.
Ну а все-таки французская песенка – это хорошо. Поцелуи в шею, роза, ревность и главное – все как-то обходится».
Про Алису, меня и Израиль
Однажды я познакомилась в Интернете с одной девицей по имени Алиса, к которой прилагается достопримечательная грудь пятого (ну восьмого, восьмого!) размера. Девица нервная, а ресницы у нее загибаются ввысь. На почве нервности и похожих любовных историй мы с ней сошлись как вода и пламень. Я с ней переживала всякое – и умирала от смеха, и ненавидела ее жутко, и ругала ее за то, что она одобрила дочери моей пирсинг в языке, и кошку ее видела, Тушку. Происходило это общение у нас по скайпу. В камере девица казалась вредной, противной и все время покупала новые туфли.
Ну, год прошел, решила я к ней в гости съездить. В Иерусалим. За тот год чего только не произошло. Я первую книгу написала и кота завела, например. И вот в ночь перед отлетом пошла я с другой девицей в секс-шоп, покупать этой Алисе какие-то там вагинальные шарики в подарок. Мы с другой девицей шарики купили, купили еще какой-то гель тоже в качестве гостинца и еще купили мне юбочку специальную перчатки лиловые, но это уже не в секс-шопе. Потом в ночном киоске купили себе огненные бутерброды с жареным луком и соусом и съели в машине. Подруга меня спрашивала все время: «Может, тебя в аэропорт отвезти? У тебя когда рейс?» Но я говорила: «Ах, рейс у меня в два часа дня, я успею выспаться и успею везде, не забыть бы шарики, а то меня на порог не пустят».
А утром я открыла глаза и увидела лиловенькое. Это были останки моей новой перчатки. Кот ее растерзал. Накануне он в воспитательных целях был нащелкан по носу, а так как я этому нащелкиванию попустительствовала, он, я думаю, отомстил. Я обозвала его страшным словом. И поехала в аэропорт Домодедово вместе с чемоданом.
Приехала, а там еще даже регистрация не началась. О, думаю, какая я пунктуальная. Но как-то не по себе все равно. Подошла с электронным билетом к тетеньке, а тетенька говорит: «А ваш рейс компании “Эль-Аль” уже улетел. Потому что он у вас не в четырнадцать ноль пять, как вы думали, а в одиннадцать ноль пять. И если вам повезет, – говорит тетенька, – то вас посадят на рейс этой же компании в полночь и бесплатно. Но придется ждать регистрации, чтобы понять, будут ли места».
Я растерялась неимоверно и сразу заплакала. Плакала сразу обо всем: и о своей бестолковости, что перепутала время вылета с временем прилета, и о том, что поездку эту ждала, а сама на нее не попала, и главное – очень хотелось, чтобы кто-то как-то спас, но от чего и как – непонятно, и было почему-то страшно и хотелось, чтобы прикрыли спину.
Я позвонила по очереди нескольким людям. Ночной подруге, которая расстроилась, израильской подруге, которая обрадовалась, и разумному человеку N, который объяснил, что бояться ничего не надо, потому что мне ничего не грозит прямо сейчас, никакая опасность, а вечером он меня заберет, если что.
А подруга из скайпа почему обрадовалась? Потому что побежала писать в свой ЖЖ, что я опоздала на рейс. И не только про это. Она еще там про секс-шоп написала и вообще все мои тайны выдала. Но я же об этом пока не знала и в неведении сидела, сложив ноги на кресло, и пыталась спать, потому что ждала следующий самолет уже поздно ночью.
И вот я так спала, ела, пила кофе, и время от времени мне приходили эсэмэски от незнакомых людей.
Содержание было таким:
«Держитесь! Мы с вами! Мировой враг не пройдет! Ваши израильские друзья». От незнакомцев.
«Мы о вас думаем! Не исключено, что вы все-таки прилетите! Ваши израильские друзья». Опять от незнакомцев.
«Всегда знал, что ты бестолочь! А я сижу в кино!» Бывший муж.
«Мы ужасно ржем! Ха-ха!» Савина.
«Будешь ночевать у меня, если не улетишь!» Катя.
«Да, мама, я поела и тепло одета, а ты уже в Израиле?» Дочь.
«Зато я перепутала месяц улета и приехала со всеми домочадцами на месяц позже! Пропало двенадцать билетов, это тебя поддержит!» Подруга из Екатеринбурга.
«Мужайтесь!» Израильские друзья.
«Юля! Волнением слежу событиями из Лондона!» Подруга из Лондона.
«Тут пишут, ты ходила в секс-шоп…» От N.
Последнюю эсэмэску я получила уже в самолете. Меня посадили-таки в него и помахали ручкой израильские спецслужбы, у которых я проходила с красной пометкой на билете, и меня очень, очень обыскивали.
Я сидела в самолете и прижимала к груди бутылку коньяку. И напоследок снова всплакивала. Потому что одиннадцать часов в аэропорту, где я успешно обжила служебный туалет, накрасилась в парфюмерном магазине и выпила все прилегающее кофе, – все-таки эти одиннадцать часов были очень нервными, потому что я до последнего не знала, улечу ли я.
А уже когда мы почти взлетели, мне позвонила Алиса и сказала:
– Слушай меня, бестолочь! Хоть ты и прилетаешь в три часа ночи, но тебя встретит Рома из Тель-Авива! Весь город бурлит! Два города! Я Рому не знаю, но деваться некуда и придется тобой рискнуть! Везешь ли ты мне ша…
И тут телефон мой наглухо отключился, разрядившись.
Так я приземлилась глубокой ночью в аэропорту Бен-Гурион с разряженным мобильником, понятия не имея, как выглядит неизвестный мне Рома, и не зная, конечно, ни одного телефона наизусть.
Итак, я приземлилась в аэропорту Бен-Гурион, не зная в лицо Рому, не имея мобильной связи и не помня никакого телефона. Где-то там ждала меня Алиса.
А в огромном полупустом ночном аэропорту везде были наши и пели птицы. В багажном отделении вставал рассвет, а за окном на фоне темного неба нагло маячила пальма. Именно такой микс я получила в качестве первого впечатления.
Я не знаю, откуда я взяла птиц, в багажном отделении было пусто и освещено так, что казалось – солнечно, про наших вы, наверное, и сами догадывались, а на пальму я пошла-пошла и вышла на улицу. Ну, я повсматривалась во встречающих, но ни у кого не увидела ищущих глаз, никто не бросался никуда с криком: «Юля! Это вы?!» и встречающего меня незнакомого Рому я как-то профукала.
Все это время я улыбалась, а к груди прижимала так и непочатую бутылку коньяку.
Сказать, что мне было весело, – не сказать ничего. Мне было хорошо так, что не с чем сравнить.
Я оставила в Москве серую погоду, плохое настроение и вредного кота, а также годичной давности напряженность и усталость. Прямо вот впервые в жизни мне удалось улететь от самой себя и одновременно прилететь к самой себе.
Поэтому я почти приплясывала, когда вышла из аэропорта на улицу. Тот факт, что я тут затерялась, делал меня еще более свободной. Ну и невидимой.
«Хочу – уеду не туда и заблужусь еще больше, – подумала я. – И может быть, обнаружусь у моря».
Коньяк в бутылке плеснул, чемодан наехал на ногу, и в кустах возле входа я обнаружила седовласого мужчину, который что-то делал с ноутбуком.
– Вы не могли бы мне помочь? – нисколько ни в чем не сомневаясь, сказала я по-русски.
– Мог бы, – сказал он тут же и представился: – Миша.
– Юля. У меня не работает телефон. Совсем. И меня ждет подруга в Иерусалиме. Я не помню ее номер. Что мне делать?
– Дайте вашу сим-карту, – сказал Миша, будто всю жизнь тренировался, – сейчас мы все решим.
Я вот сейчас, когда писала, только что поняла, какое у меня тогда было состояние. Я вообще ни о чем не думала. Впервые в жизни.
Миша вставил сим-карту, в набранных номерах высветился Алискин телефон, и я закричала в трубку:
– Я приехала! Звоню с чужого номера! Мой мобильный не работает! Пусть Рома ищет меня в кустах возле аэропорта!
– Ты одна в кустах? – помолчав, сурово спросила Алиса.
– Я не одна! – закричала я.
– Я так и знала, – помолчав, сурово сказала Алиса. – Стой там и не двигайся.
Я зачем-то быстро отключилась, а Миша зачем-то быстро вытащил мою симку, вставил свою и запричитал:
– Ой! Я забыл свой пин-код! Теперь я тоже не могу включить телефон!
После этого мы с ним немедленно сели рядышком, закинули ногу на ногу и закурили.
– Я из Натании, – сказал он, и мы пожали друг другу руки, – приезжайте ко мне в гости, я покажу вам море.
В этот приятный момент на меня из кустов вышел Рома.
В руках он держал охренительный кусок картонки, на котором было бледно, но крупно написано «ЮЛЯ», и воздушный шарик с ушами, вздымающийся ввысь.
– Как ты могла пройти мимо такого? – не здороваясь и даже не знакомясь, закричал он, потрясая картонкой и шариком.
– Рома! – закричала я, и вскочила, и бросилась ему на грудь, отпихнув картонку. – Это ты?
Вы не думайте, я не просто так кричала. Я его случайно добавила в друзья сутки назад, перед отлетом и полночи, покатываясь от смеха, читала его Живой Журнал. На юзерпике был он собственной персоной. Вернее, в кустах возле Бен-Гуриона я обнаружила знакомый оживленный и ругающийся юзерпик. Так будет точнее.
Я хватала его за руки, а он потащил мой чемодан прочь из кустов, и я обернулась и помахала Мише из Натании, и мы снова пошли в аэропорт, и я хихикала, потому что Рома говорил:
– Юль, ты не знаешь, где я оставил свою машину? Я вот ни черта не помню! О, лифт, заходи, заходи! Кажется, нам надо куда-то подняться, но не исключено, что и не надо!
Я зашла, мы поехали вверх, в лифте из динамиков что-то сказали строго женским голосом на иврите, Рома спрашивал:
– Что она сказала? Ты не расслышала? Черт, я совсем не помню, где моя машина! Ты не против, если мы ее поищем? Выходи! Нет, не здесь! Вот здесь! Или здесь? Прямо! Нет, не помню… Юль, ты не помнишь? Все-таки направо! Я не помню, как она выглядит! О, вот она!
Я сгибалась пополам от смеха. Коньяк булькал. Рома катил чемодан. Я была не против еще заблудиться. Меня должен был встретить именно вот такой Рома – с ним я могла не притворяться разумной девушкой, а просто хихикать и продолжать быть ужасно расслабленной.
Мы сели в машину и поехали под его ворчание:
– Я не помню, как отсюда выезжать! Направо? Налево? А ты не помнишь?
На дороге он разогнался. Мы ехали между холмами. По пути нам встречались большие синие указатели, надписи на которых были заклеены огромными кусками коричневого скотча. Указатели стояли на каких-то недостроенных дорогах.
– Рома, почему они заклеены?
– Юль, они еще сами не решили, куда будут строить дорогу. Решат – напишут. Что ты будешь слушать из музыки? Французский шансон? А ничего, если я включу джи-пи-эс? Ничего? Он у меня матерится…
– Куда ты херачишь, мудак?! – темпераментно ругался Ромин навигатор. – Тебе прямо сейчас, прямо, я сказал! Через триста метров фигачь налево!
– Налево? – кипятился Рома. – Налево нет дороги, идиот!
Так они ругались всю дорогу.
Мы приехали в Иерусалим прямо к резиденции премьер-министра. Я настаивала на том, что нам надо въехать за шлагбаум, но за шлагбаум нас не пустили. Как потом выяснилось, Рома спросил у охраны на иврите, здесь ли живет Тушка. Как на иврите «Тушка» (это Алисино прозвище в Интернете, в честь имени ее кошки), он не знал и говорил «тельце».
Охранники не знали, здесь ли живет еще чье-то тельце, кроме тельца премьер-министра, а я не знала иврита, а Алиса быстро-быстро, непонятно на что надеясь, легла спать, и мы, тыча пальцем в темные дворы и споря, едва нашли ее дом, и пошли вверх по ступенькам, и позвонили, и Алиса проснулась, и открыла нам дверь, и долго подозрительно разглядывала меня, но я быстро пробежала мимо нее на кухню и плотно умостилась, и наконец-то налила себе коньяку.
Сказать, что я чувствовала себя как дома, – ничего не сказать, мне непонятно было другое – где я шлялась все это время?
И у нас завязался разговор, во время которого мы всхохатывали и ели шоколад, и Алиса была в порнографических девчачьих гольфах чуть выше колена, и, если бы я ее не знала, я бы подумала, что она коварная соблазнительница, но я ее знала и знала, что она это для тепла, и сверху гольф у нее были валенки, но эту подробность мы опустим.
Рома сидел между нами, и у меня было ощущение, что я как-то его тоже давно знаю, и я даже тыкала его в плечо в особо смешных местах, и он несколько раз тихо спрашивал в никуда: «А где у тебя туалет, Алиса?» – но мы так хохотали, что плохо реагировали и не отвечали.
В какой-то момент мы обсуждали города и древнюю архитектуру, Париж, Рим, Иерусалим, и Рома громче спросил:
– А что ты скажешь про туалет, Алиса?
И Алиса наконец-то услышала и задумчиво сказала:
– В Древнем Риме была неплохая канализационная сеть.
Я сползла со стула от смеха, а Рома таки пошел и сгинул во тьмах Алискиной квартиры, а потом вернулся, и мы допили вино, он уехал, а мы с Алиской посмотрели друг на друга, и я угрожающе сказала:
– Но-но! По утрам мы будем бегать, ясно? И покажи своих двойняшек!
Она повела меня в детскую комнату и тихонько показала двух своих маленьких дочерей, уже спящих.
И потом она мне дала старую уютную пижаму, провела в мою комнату, я разделась, надела пижаму, положила рядом молчащий мобильник и мгновенно уснула. Проснулась днем, светило яркое солнце, за окном действительно вовсю пели птицы, и это было мое первое утро в Иерусалиме.
А на следующее утро я проснулась рано (ну, это уже было следующее утро, после утра прилета, вечера и ночи) и счастливая, потому что снова пели птицы и снова было солнце.
Встала и прокралась к Алисе в комнату. Было восемь утра. Думала – она спит, сейчас я ее напугаю. Закричу или спою.
А она сидит, закутавшись с головой в одеяло, спиной ко мне, сверху из одеяла торчит только хохолок встрепанных волос, и быстро-быстро что-то шпарит по клавиатуре.
Я затаила дыхание и вытянула шею. Все ясно – ябедничает в Интернете в надежде, что ее спасут.
«Она пока спит, – быстро-быстро пишет Алиса, – и я надеюсь, что так и будет спать. Но она сказала, что мы будем бегать по утрам. Я вся преисполнена надежд, что она не проснется. И что она пошутила. Потому что я летом купила себе специальный спортивный лифчик за шекель, от жадности, цвета бирюзы. Ну и что? Из спортивного у меня еще ласты есть. И противогаз. Но это не повод, чтобы я вдруг стала бегать по утрам. Щас, – пишет Алиса быстро-быстро, – щас, прям побежала! Не дождетесь!»
И тут она как взвизгнет. Потому что я ей положила тяжелую длань на плечо.
– Перепиши, чтоб не позориться потом, – тоном Медного всадника сказала я. – Так и пиши: «Я встала в восемь утра, и сейчас мы с Юлькой побежим по солнечным улицам города, легкие как лани, потому что мы ведем спортивный образ жизни». Вычеркни «спортивный», потому что ты куришь. Напиши «здоровый». Нет, «здоровый» тоже вычеркни, напиши «активный». Вычеркни «ведем», напиши «будем вести», а то вдруг мы завтра проспим. Вычеркни «побежим», напиши «окажемся», а то вдруг ты будешь ковылять, а не бегать. Вычеркни «легкие», потому что вычеркни. «Лани» тоже вычеркни, не будем утяжелять текст метафорами.
Я просто передам вам суть, что осталось. Ну, может, навру в деталях, но суть правдива. Там было что-то вроде: «Она спит. Я не побегу. Она проснулась. Я побежала».
Да. Она надела на свой восьмой размер эту бирюзу за шекель, кроссовки, я надела кроссовки.
И мы побежали.
Потом мы в комментариях к этой кляузе прочли, что люди говорили: «Держись, мы с тобой!» и «Ваши израильские друзья», а также предлагали одну машину сопровождения из Тель-Авива, и публикации процесса в Tatler и «Новостях Иудейской пустыни».
Но было уже поздно. Мы бежали, как одинокие бизоны, вверх и вниз по узким улочкам Иерусалима.
Сначала Алиса, как гид, говорила на бегу. Я только успевала крутить головой.
– Посмотри налево, это бельгийское посольство, посмотри направо, это монастырь шестнадцатого века.
Потом она выдохлась. Бежали мы размеренно. И молча. Потом она стала меня обгонять.
Иерусалим солнечный. И светится. Зеленый. В Старом городе – там, где храм Гроба Господня с Голгофой, Стена Плача, – я была десять лет назад. И в этот раз мы там не были. В этот раз мне достался Иерусалим не туристический, а домашний. Самый его центр. Район, который называется Рехавия. И я его люблю теперь всей душой.
Итак, мы бежали, и я заметно отставала от Алисы. Вверх-вниз по узким улочкам с маленькими светлыми домами. Мимо фигурных решеток садов, в которых растут лимоны и гранаты. Алисе было не привыкать то подниматься, то спускаться, а я едва была жива и, высунув язык, плелась за ней. Было тепло и солнечно.
– Если ты добежишь вон до того угла, – сказала она, – мы попьем там сок. Это мое любимое кафе, очень маленькое.
Я добежала до угла, мы сели за столик в крошечном кафе, выпили по стакану свежевыжатого сока и побежали дальше.
– Сейчас я покажу тебе могилу макеев, – сказала Алиса, и мы свернули с ней в какой-то ничем не примечательный дворик.
Там она показала мне две большие дырки в стене. Я просунула туда голову и понюхала воздух. Пахло камнем, свежестью и пылью одновременно.
Я не знаю, кто такие эти на «м», чьи могилы я так доверчиво оглядела, но теперь в моем культурном багаже эти две подозрительные дыры.
Так мы с ней бегали в первое утро.
Но второе утро было лучше. На этот раз я пряталась под одеялом. Алиса с криком: «Потрогай, какие у меня теперь икры – железные!» – ворвалась ко мне в комнату в восемь тридцать, я понуро напялила кроссовки, и мы побежали снова.
На этот раз она уверенно побежала в другую сторону, и мы прибежали к обрыву. Там, вдалеке, светились купола церкви. Над нею развевались два флага – грузинский и израильский. Это была грузинская церковь, и там был похоронен Шота Руставели. Я робко выразила надежду, что на этот раз не нужно осматривать могилу, я и так верю. Потому что я потом поднимусь обратно только на фуникулере, а его тут нет. И что у меня уже тоже железные икры, но у Алисы, несомненно, железнее.
И она смилостивилась, и убежала далеко вперед и вверх, и кричала оттуда, что если я буду молодец и не буду ее при всех позорить, плетясь нога за ногу, то мы пойдем в «Шоколадницу». От пережитого стресса и отсутствующего дыхания я покорно подумала, что я там съем свой любимый трюфельный торт, пусть мне будет хуже. Потом я поняла, что московской «Шоколадницы» тут быть не может.
«Шоколадницей» Алиса называла маленькую лавочку сластей, чая и кофе, где продавались конфеты ручной работы и прочее ужасное для спортсменок.
Я, облизываясь, с ощущением, что жизнь наладилась, купила штук шесть конфеток и чайничек чаю. Мы вышли из лавки на улицу и сели за маленький единственный столик.
И так мы сидели и болтали. Я столько раз за весь прошедший год спохватывалась, гуляя по Москве, что Алисе нельзя позвонить и сказать: «Я сейчас вот здесь пью кофе на Покровке, приходи», – и вот мы с ней сидели на солнце, в темных очках, пили чай, и чашки были тонкие и маленькие, и чайничек был глиняный и тяжелый, и конфеты были вкусные, и вокруг были красота и солнце, и птицы щебетали, и дул теплый ветерок, и мы были красивые, с железными икрами.
А на третье утро… Что теперь поделаешь – придется сказать. На третье утро мы обе очень крепко и тихо спали почти до полудня в надежде, что ни одна из нас не проснется рано и не станет будить вторую ради этой ужасной экзекуции – бега по утрам.
Надежды наши оправдались, и мы радостно пили кофе на светлой Алискиной кухне, и было уже двенадцать часов дня, а в полдень кто же бегает? Позор один, никто не бегает в полдень. Вот и мы не побежали.
Забегая вперед, скажу, что одна из нас все-таки бегала потом один раз, когда вторая уехала. Но у меня есть подозрение, что это был латентный шопинг в надежде купить еще что-нибудь спортивное за один шекель. Эта одна не признается, и поэтому я верю ей на слово, тем более что с бега вернулась она поздно, почти к вечеру, и бег включал еще и чай у двух подруг по дороге. Но я ей верю – как легкая лань легкой лани.
С Алисой мы друг друга нежно любим и часто страшно раздражаем. Ну куда мне деваться, если у нее в доме нет ни одной пилки? Как вообще жить с женщиной, у которой в доме нет ни одной пилки для ногтей? И я вынуждена была почти отдать ей свою круглую расческу для укладки, но в последний момент прокралась обратно в дом и забрала.
Про пилки Алиса мне что-то вкручивала, типа они есть, но невидимые обычным глазом и находятся только тогда, когда надо подвинтить винтик.
Зато у нее есть дрель. Она насильственно мне ее показывала, но я зажмурилась. Я боюсь дрелей.
Ну и потом. Алиса вообще странная. Например, очень неприятно на ее фоне осознавать, что я обжора. Зато она пальцем быстро выела сыр из коробки и натрескалась в гостях так, что я её стеснялась. А она благодарила хозяйку. Будто ее дома не кормят! Больше за всю неделю я ни разу не видела, как она ест. Только кофе пьет. Без сахара. И это тоже неприятно, потому что меня один приятель научил в детстве, когда мне было двадцать три, что кофе хорош с шестью ложками сахара. Я этого не писала, а вы этого не читали! Оставим эту тему вообще.
Ну так вот, из-за нашего взаимного раздражения мы друг друга называли всегда «она» и «эта». При людях. Как мы называем друг друга без свидетелей, я говорить не буду, это интимно и нецензурно.
– Она вообще мне не кажет никаких достопримечательностей вашего города! – жаловалась я приходящим к Алисе гостям. – Кажет только дыры в стене или издалека что-то невнятное. А еще она заставила меня съесть какую-то экзотическую гадость цвета фуксии – экспериментировала, не пойду ли я пятнами! Я не пошла, а эта, понимаете, двадцать лет тут прожила, а гадость попробовать – дожидалась меня!
– Эта тут прижилась, – подозрительно щуря глаз и цыкая зубом, говорила Алиска, наблюдая, как я варю картошку у нее на кухне и кормлю её же гостей. – Смотрите, как она бегает по кухне и знает, где что лежит! Н-да… как-то, блин, прижилась… и что же теперь с ней делать…
Я ябедничала на нее всем входящим и исходящим. А каково? Едем куда-то, она говорит:
– О, смотри, ты хотела канал, чтобы на него ходить и плакать, если я тебя выгоню в ночь – вон что-то типа ручейка, запомнила, где?
Я начинала волноваться и нервно вглядываться в пустыню. А ну как выгонит? Но нет, не выгнала. Хоть я у нее и затопила ванную. В смысле водой. И съела всю редиску. И вообще все съела. И плов она мне дала приготовить, хладнокровно наблюдая, как я засыпаю в казан курагу, изюм и… э… я думала, что это рис. Я его быстро купила на рынке, много, из большого мешка, и на мешке была надпись на иврите, а Алиса недосмотрела, она в это время рассказывала продавцу фиников всю мою биографию.
Но это, которое то ли рис, то ли не рис, варили четыре дня. Варила я сначала три часа. Потом на следующий день варила няня Алискиных детей. Она не опознала, что это за таинственная крупа. Потом варила ее подруга. Она тоже не знала, что это такое. Потом тайно снова варила я. Ночью. Оставим эту тему.
Ну то есть она даже была ко мне добра.
Мой день рождения в Иерусалиме десятое января выпал на субботу, шаббат. И мы его решили праздновать в ночь с девятого на десятое января, чтобы все работало. Дали клич в Интернете и договорились о двух встречах – в полдень в Иерусалиме в «Ресто-баре» и практически в полночь – в Тель-Авиве.
И вот утром девятого января я встала, пошла в ванную, и там как-то все вытекло не оттуда… и получилась лужа. Лужа дотекла до Алискиной комнаты и стала биться волнами в дверь.
Она не ругалась. Она сказала:
– Быстро иди, тебя люди ждут.
И я ушла.
Я пришла и села спокойно на диване в том баре, который посещает Николя Саркози, и на время его визита оттуда обычно выгоняют Алису, которая тоже любит посещать этот бар. Но на этот раз Николя там не было, а была я. Я сидела в зальчике возле камина и стеснялась. На меня должны были набежать люди, по словам Алисы.
Я все время боюсь, когда на меня набегают люди знакомиться. Я вечно, конечно, толще и хуже, чем кажется на моих фото в Сети. Ну так вот, я сижу и заказала себе апельсиновый сок. И было солнце. И тепло. И гомон в этом кафе. И ни-ко-го. Никто на меня не набегает, и я сижу одна.
И тут передо мной возникает очень большой и улыбчивый мужчина. И говорит: «Вы Юля?» Он узнал! Он оказался Зямой Кренделем. Сам по себе его ник – Зяма Крендель – уже такой вкусный, что если бы он был на вид ужасным, я бы все равно была рада. Но он был прекрасным. И говорил, что специально приехал. И это очень грело мне душу. И он с любовью говорил о своей семье, а на столах лежали солнечные пятна, и мне принесли сладкий латте.
С Зямой я видела, что есть любовь. В нем была любовь к своей жене и детям. И вообще в этой стране я видела много людей, у кого она есть. Простая человеческая любовь, без трагедий, надрыва и ненужных искусственных препятствий. Я уже устала ее нигде не видеть и просто отдыхала душой.
А потом пришла Олечка – Алисина подружка, а Зяму я сняла на телефон, и он ушел, поцеловавшись со мной в щеки и улыбаясь. Я так ему благодарна за этот час в кафе.
С Олечкой мы заказали завтрак на двоих. Она тихая и светлая. Мы с ней пили кофе и сок, болтали и смеялись, она поздравляла меня с днем рождения, а потом в «Ресто-баре» сделалось явление Алисы народу.
Алиса вошла в бар, где любит пить кофе Николя Саркози, с ведром и шваброй. Швабру она держала на плече, и швабрины тряпочки реяли за ней по ветру. За Алисой семенил официант, с трудом уклоняясь от тряпочек. Алиса подошла к нам, плюхнула ведро возле меня, швабру поставила рядом, выдохнула и упала в кресло.
– Твою мать! – сказала Алиса, и закурила, и перекинула ноги через подлокотник кресла. – Вот, ты ушла, именинница, а я что? А я на карачках подтирала пол! Я не смогла найти швабру! Ну так я ее купила! И на ней, можно сказать, прилетела! Мне кофе, пожалуйста!
– Алиса, – бормотала я, трогая ногой ведро, – а почему ведро такое тяжелое? Что это в нем в пакетике?
– Соляная кислота, – сказала Алиса и захохотала. – Для пыток. Шутка. Я ею буду прочищать сток.
У Алисы есть текст, в котором она спрашивает читателей – что делает красивая молодая женщина в субботний вечер? И отвечает: она стоит в черном диоровском платье на шпильках, в руках клизма, и этой клизмой она чистит сток в раковине.
Конечно, для ее субботнего хобби ей лучше подойдет соляная кислота. Я вежливо ей это заметила. Мы выпили за соляную кислоту и за швабру. Потом за меня. Потом нам бесплатно принесли шампанское с клубникой, и Алиса выпила свое и наше. Потом пришла еще одна ее подруга, Лейка, красивая хохотушка и болтушка. Мы хохотали и болтали. В баре прибавилось народу. Нам предстояла часть вторая. Меня, как слона, вечером везли в Тель-Авив, чтобы там тоже показывать людям.
Поэтому мы вышли из «Ресто-бара», сфотографировались на фоне швабры (ну и рожи у нас там) и пошли домой. Готовиться к основной вечерне-ночной части. В Тель-Авиве на меня должна была набежать еще куча народу, в том числе и израильская военщина.
…Мне так и не удалось потрогать израильскую военщину за бицепс. Военщина была в образе красивого волосатого басиста. Я его немного боялась. Была всеобщая мобилизация. Шла война в Газе. Через сутки нашего спутника забирали воевать, а пока мы с ним сидели в пивном баре втроем, и на улицах Тель-Авива было тепло и пахло ночным морем. Мы пили пиво, и кажется, я никогда так не смеялась. Алиска притихла и хлопала ресницами, которые у нее вдруг внезапно наросли в сторону спутника. Я не смогу вам пересказать все темы, которые мы обсуждали, потому что они все оказались неприличными. Я не знаю, как мы так все время туда съезжали, но в какой-то момент у меня от смеха заболели скулы и я сомлела. Так, сомлевшую, Алиса меня и перетащила в следующий бар, где на меня снова набежали, и снова розы – красные, солнечные, желтые от совершенно незнакомых мне людей…
Которые просто меня читали и пришли сказать спасибо. И я им говорю сейчас – спасибо еще раз за тот вечер.
А в три часа ночи мы поехали на берег Средиземного моря, в Яффо, старинный город, с которого начался когда-то Тель-Авив. Было тепло, и мы долго шли по старинным мостовым, и одна наша спутница вела нас к мосту Желаний и к какой-то волшебной арке.
До сих пор мне часто снится эта ночь, как, пожалуй, самая сказочная в моей жизни. Луна висела в небе, моря не было слышно, но чувствовался его запах, и мы – совершенно одни, количеством пять человек, на берегу, в древнем парке, освещенном круглыми желтыми фонарями. Тихо и хорошо. Мы смеемся, как школьники, встаем под эту арку, и каждый из нас стоит там минуту-две молча. У всех есть желания. Самые сокровенные. Потом мы идем на мост, где опять можно загадывать желания. Там на кованых перилах – знаки зодиака. Я нахожу своего Каприкорна, глажу его и что-то ему шепчу – я почему-то не помню, что.
А потом нас отвезли в Иерусалим.
…Мы проезжаем Старый город, огромная луна молча светит на его стены и кипарисы, царит тишина. Возле Алисиного дома от луны светло и едва слышно пахнет розмарином из палисадника. Мы с ней остаемся одни, садимся на скамейку. Я держу в руках тяжелые букеты. Мы тихонько разговариваем, и я чувствую себя совсем юной, как на каникулах, когда прокрадываешься домой под утро. Я не знаю, сколько мне лет исполнилось только что, и не могу вспомнить еще такого счастливого дня рождения. Я закрываю глаза и опускаю лицо в розы – они тоненько пахнут.
Мы на цыпочках поднимаемся к Алисе – спят ее девочки-близнецы, спит их няня, в квартире тишина и сумрак. Мы ставим цветы в ведра с водой. Я ложусь и мгновенно засыпаю.
А просыпаюсь от солнца и запаха пирожков, как в детстве, но это уже другая история…В центре Иерусалима лил дождь, мы бежали по мокрой улице, прижимаясь к стенке, и потом обсыхали в какой-то лавочке сладостей. Начинался вечер, воздух стал лиловым, вдоль улицы один за другим зажигались огни. И в конце концов дождь перестал, мы сели за столики под открытым небом, там, где кресла остались сухими под навесом, нам принесли пирожные и кофе, и разговор вдруг свернул на первую любовь.
Нас было трое – я, Алиса и Маня, Алисина подружка. У Манечки шестеро дочерей, и она моя ровесница. Я любовалась на нее – она была нежной, красивой и веселой, и я с облегчением думала, что в ее возрасте я буду такой же… Потом мысль спотыкалась, и я понимала, что я уже один день как в ее возрасте. Люди вокруг перестали быть взрослыми, они стремительно превращались в ровесников, и я знаю, еще долго мне потребуются усилия, чтобы сообразить, что «взрослые – это мы», как сказала одна моя знакомая…
А тогда, одиннадцатого января 2009 года, мы сидели за столиком в вечернем кафе, вокруг была маленькая пешеходная улочка, вымощенная булыжниками, и двери всех лавочек и магазинов были открыты. Алиса пила апельсиновый сок, мы с Маней надкусывали какие-то твердые пирожные и хохотали. Открыв рот, я слушала истории первой роковой любви своих подруг, замирая сердцем на невероятных местах, где из-за этих красоток их несчастные мальчики так отчаянно страдают, и рассказывала свою, не менее невероятную, со счастливым и печальным финалом спустя пятнадцать лет.
На свободное кресло были навалены наши сумки и пакеты – у нас в этот день произошел умопомрачительный шопинг, я чуть не купила пионерскую юбочку клеш, а Маня со слегка невменяемым лицом унесла из парфюмерной лавки пустую красивую коробку с «людьми» – она собирает коробки и банки с изображением людей, и, если она такую видит, ее нельзя остановить. У нас с ней шли дни рождения один за другим, и настала пора мне делать ей подарок – я заплатила за коробку, которая никак, конечно, не могла сравниться с тем, какой подарок сделала Манечка мне.
Она повезла нас на гору Иродион.
…Утром этого дня в Алисину квартиру внесли большущую корзину с красными розами – это были цветы от совершенно незнакомого мне человека, с которым мы до того не перемолвились и двумя словами. Он просто мне написал и попросил адрес, я, пожав плечами и спросив у Алисы, дала – я не верила почему-то, что цветы доставят в Иерусалим. И вообще, я так всю жизнь мечтала о корзине с розами – вот я сижу, а ее вносят, мне! Но мечта не сбывалась, а когда сбылась, то, как водится в моей жизни, перехлестнула все то, что я себе представляла как несбыточное.
Я много раз слышала, что когда что-то долгожданное происходит, то иногда наступает разочарование. Но у меня никогда не наступает. Я бываю ошеломлена, трогаю, нюхаю и смотрю. Алиса поставила тяжелую корзину на пол у меня перед носом, заявила, что она чувствует себя как на похоронах Эдит Пиаф – кругом в ведрах стояли букеты, подаренные мне накануне, и ушла, развевая полами теплого халата, – было раннее утро.
Я сползла с кровати на пол, понюхала и потрогала розы, нашла в ветвях открытку с чудесными словами, и узнала наконец-то, как зовут неизвестного мне дарителя. Розы были ошеломительные, красные и крупные, и их было много.
А через три часа, когда мы с Алисой едва выползали из постелей, приехала Манечка. Мы повели ее смотреть корзину, а потом она усадила нас в машину и повезла в Иудейскую пустыню. Это был последний мой день в Израиле.
Мы ехали по дороге, вдоль которой примостились темные арабские деревушки, и девочки говорили, что иногда дорогу обстреливают. Все это я читала у Дины Рубиной, но никогда даже не думала, что увижу это своими глазами. Маня гнала машину, кругом было солнечное, охряное и просто желтое, а вверху – синее.
Мы приехали к ней в гости, были накормлены, и я утащила из вазы несколько полосатых игл дикобраза, который обронил их, шляясь по окрестной пустыне. Потом мы надели кроссовки и поехали на гору, на вершине которой был спрятан когда-то дворец царя Ирода.
Мы поднялись наверх на машине, было безлюдно, в будке сидел русский дядька, продавший нам билеты во дворец. Мы пошли-пошли, спустились в какие-то катакомбы; внутри раскопанного относительно недавно дворца было светло, светились стены и ступени дворца мягким желтоватым светом, мы заворачивали, заворачивали и потом пошли наверх, наружу, к самой макушке горы, где был, наверное, тронный зал.
Я никогда так не мучилась физически, взбираясь на огромные гладкие светлые ступени, которые с каждым шагом, с каждым поворотом становились все круче и круче, и вот они уже каждая мне по колено, а потом и выше, я плетусь за девчонками последняя, кроме нас – никого, и я, плюнув на гордость, в конце концов становлюсь на четвереньки и лезу вверх, помогая себе руками, мне было невмочь издавать какие-то звуки. К тому времени, когда мы поднялись, я просто пыталась дышать. Говорят, когда-то по этим ступеням взбирались водоносы, доставляя царю кувшины с водой, – я страшно зауважала и пожалела неведомых водоносов.
Наверху било солнце, а вокруг волнами лежала пустыня, цветом похожая на овсяное печенье. На обзорной площадке стояли скамейки и топталась какая-то иностранная съемочная группа. Я очутилась на скамейке и отказалась с нее вставать.
Мои подруги были при этом вполне живыми и даже могли разговаривать.
– Посмотри, – сказала Алиса, – видишь – Иерусалим?
И тогда я своими глазами увидела то, о чем раньше только читала: маленький город вдалеке светился. Над горой стояли облака, бросая гигантскую тень на пустыню, вокруг нас внизу простиралась тень от самой горы, и только Иерусалим вдали на холмах купался в солнце, как заговоренный, светясь бело-розовым нежным светом. Тень от облаков обтекала его со всех сторон, не трогая. Я навсегда это запомнила…
Я подобрала на горе два светловатых камня – на память, они у меня лежат на столе.
А потом мы спустились, уехали обратно в Иерусалим, попали там под дождь, бегали по лавочкам, обсуждали косметику и юбки, я мерила платья, мы говорили о мужчинах и мальчиках. Это был самый девчачий день в моей жизни. Я так и вижу – оживленная, смеющаяся Манечка напротив, рядом свалены пакеты-пакеты-пакеты, внутри блузки, платья и кремы, слева от меня Алиса потягивает прохладный сок через трубочку, передо мной на блюдце лежит темное печенье цвета вечерней пустыни, в чашке дымится кофе с корицей, пахнет недавним дождем и светятся витрины кофейни.
– А он!.. – рассказывает Маня.
– И тут он… – говорит Алиса.
– Он такой… – говорю я, и мы говорим, конечно, о любви.
На следующий день я улетела в Москву. И впервые в жизни при возвращении домой заплакала, неожиданно для себя самой, в тот момент, когда самолет коснулся холодной взлетной полосы в Домодедове.
Просто так
Крокодиловые сапоги
Я приезжаю в Иерусалим как в деревню к бабушке в детстве – отоспаться и погулять на свежем воздухе. В этот раз я выспалась довольно быстро и в субботу пошла гулять по Кинг-Джордж, по Яффо и прочему центру.
Дул ветер и мел бумажки, все лавочки и магазинчики были уже закрыты, на пустынных улицах время от времени встречались семьи с многочисленными детьми, идущие в гости с гостинцами и свежеиспеченными халами. Был шаббат: время отдыха от трудов. У своих друзей в этом городе я учусь безмятежности: невзирая на взрывы, они живут вовсе не в ожидании Мессии. У израильских тетушек можно перенять умение заполнять свою жизнь уютной мелочевкой:
– Алиса, Гришенька ел селедку под шубой? Ел? Я там вам послала два вида: с яйцом и без. Пусть он скажет, какая ему больше понравилась.
Многие люди, я знаю, живут в ожидании грандиозных событий, и, прожив какую-то часть жизни, страшно разочаровываются: «Оскара» не дали, на обложку «Форбса» не поместили, принц или принцесса предложение руки и сердца не сделали, а жениться пришлось с одноклассником Трубачевым, который к сорока обрюзг, поплыл и обленился. И «бентли» не купили. «Хаммер» осилили, а «бентли» нет. И в этом разочаровании можно так и доживать, если не ввести в свою жизнь череду крошечных удовольствий. Ведь смыслы в нашей жизни мы не можем отыскать раз и навсегда: их приходится придумывать на каждом этапе. Иногда, если ничего не происходит, смыслы бывают совсем маленькие.
А иногда эти маленькие смыслы превращаются в очень большие. Мама моей иерусалимской подруги болеет одной из тяжелых форм рака. Более жизнерадостной женщины я не встречала. Она отлично выглядит, всегда при макияже, а волосы уже отросли после химиотерапии, и она их всегда, всегда укладывает. Мы говорим с ней о сексе, мужчинах, кулинарии и шопинге.
Более грандиозного события, чем собственная смерть, сложно себе представить. Ей приходится делать химиотерапию, очень много и часто, и она на обезболивающих. Иногда ее мужество и жизнелюбие ей отказывают, и она начинает упрямиться и говорить, что, пожалуй, сдастся, что больше никуда не поедет и не ляжет ни под какие капельницы, и в последний раз моя отчаявшаяся подруга пожаловалась своей кузине в Москве, что у нее опускаются руки.
На том конце провода потребовали к телефону бунтующую маму и томно сказали:
– Вера, я слышала, что ты собралась в скором времени помереть, потому что тебе все надоело. Очень жаль, я как раз купила крокодиловые сапоги от Донны Каран, и они мне малы. Собралась подарить тебе, но раз уж так выходит, придется кому-то отдать.
Упрямая Вера помолчала ровно две секунды и сказала:
– Крокодиловые? Придется жить.Сны и секреты
Мы завтракаем с приятелем в кофейне, обычный почти деловой завтрак, просто потому, что больше нет времени увидеться и поболтать, кроме как утро буднего дня. За это время ему ровно пять раз звонит жена, и от звонка к звонку его лицо мрачнеет. После последнего раза он раздраженно говорит: