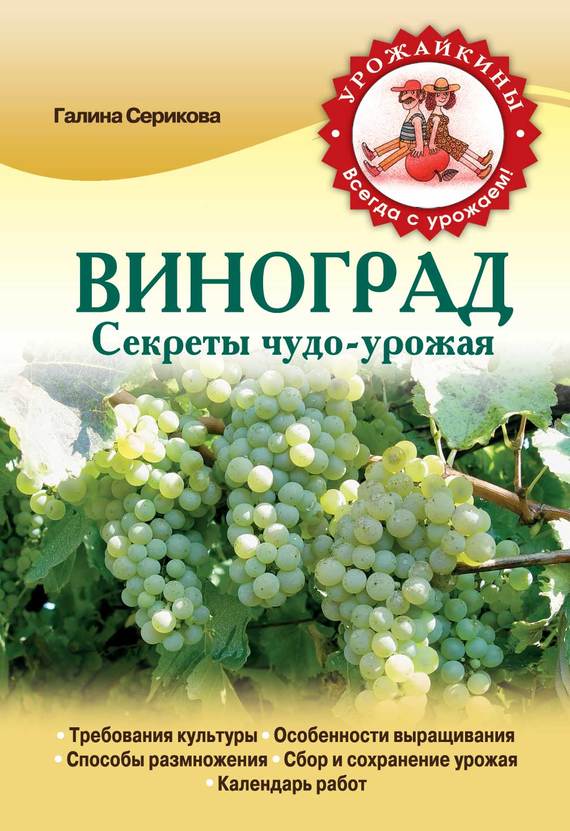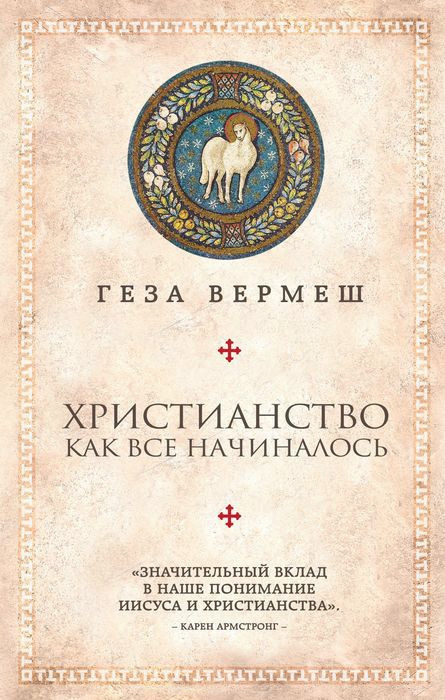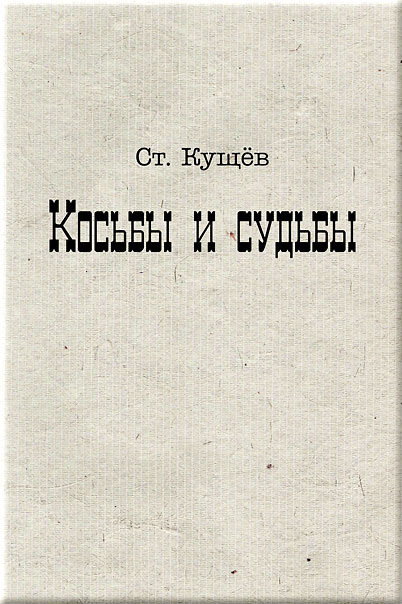Неторопливый рассвет Брекар Анна

– Мне надо подышать воздухом, – сказала я.
– Подождите меня, я выйду с вами. Она сейчас спит. Я могу оставить ее на десять минут одну.
Небо было лиловое, гуляющие прохаживались по дороге под дубами. Вышагивали парочки с собаками, женщины в спортивных костюмах шли быстрым шагом, оживленно разговаривая. Городской шум журчаньем доносился издали.
– Очень редко люди стараются оставить своих родителей дома. Ваши усилия достойны всяческих похвал.
Я ничего не ответила, он говорил, без сомнения, о ком-то другом. О ком-то, встреченном в какой-нибудь другой «миссии», как говорила директриса агентства. От этого пришедшего в голову слова мне стало смешно. Он посмотрел на меня, улыбаясь:
– Вам, кажется, лучше.
Мы миновали несколько домов, две или три большие фермы, и свернули на дорогу вдоль поля. Чернела вспаханная земля, комья острыми углами напоминали о лезвиях плуга. Я чувствовала себя одинокой и потерянной, жизнь вокруг стала зыбкой, деревья могли взметнуть свои корни в небо и врасти кронами в землю, как уже однажды случилось, – меня бы это не удивило.
– Хотела бы я знать, где сейчас моя мать, – сказала я Эрве.
– Она не здесь.
– Когда я слышу этот безумный шепот по телефону, я просто не знаю, как можно это выслушивать, как с этим смириться. Для меня это слишком, я больше не могу.
– Скажите себе, что она не здесь, в каком-то другом мире, с другими правилами, с другими горестями и радостями.
– Да, это верно, она в другом мире, хотя и рядом с нами. А ведь она всегда все знала, она учила меня, где лицо, где изнанка…
– Пробиться к ней невозможно, не надо и пробовать, это опасно.
– Да, я думаю, что понимаю, это опасно, потому что мы не знаем, где граница нормального. В школе, в которой я работаю, от меня ждут прозрачности, ясности, благоразумия, от меня этого требуют, и все как будто знают, о чем идет речь, но я теперь, когда видела мать в таком состоянии, уже не знаю, что это такое – прозрачность и ясность. Просто не знаю.
Мне хотелось плакать, но Эрве не дал сбить себя с толку.
– Знаете, я много видел таких, как ваша мать. Я знаю, как это бывает, когда все мутится. Но всегда что-то остается от человека, даже в конце жизни, что-то очень сильное. Благодаря вам она удержится за этот духовный хребет. Вы поможете ей вновь обрести связь с нормальным миром. Знаете, в конечном счете реальность – это что-то довольно зыбкое. Вот вы с ней и договоритесь о том, что реально, а что нет.
Я раздавила своим черным сапогом слова, которые он уронил к нашим ногам. На изломе они были белые, мягкие и пахли чем-то кислым. Мне требовалось время, чтобы понять, что он говорит. Та, что научила меня отличать обычное от странного, норму от безумия, теперь нуждалась во мне, чтобы найти нить своего рассудка? Прежде я представляла себе рассудок как обширную территорию, по которой можно ходить из конца в конец, чувствуя себя в безопасности. Теперь он виделся мне тонкой нитью, за которую надо уцепиться, чтобы не пойти ко дну.
Мы довольно долго шли, ничего не говоря. Вдоль проселочной дороги зажглись чугунные фонари. Было тепло, словно лето никак не хотело уходить. Горы вдали были черней темноты. Отрадно было шагать рядом, вместе топтать сухие листья. Их шелковистый шорох и запах окутывали нас, сближая, словно у нас была общая тайна.
– Обещают снег к концу недели, – проговорил Эрве тихо, как будто речь шла о чем-то очень личном, касающемся меня.
Не глядя на него, лишь напрягая до крайности какое-то шестое чувство, которое я неожиданно в себе открыла, я могла ощущать его присутствие рядом, его литое тело, я представляла себе игру мускулов его бедра под моей рукой, и очень ласковая сила, которой я могла довериться, исходила от этого образа. Мне вдруг захотелось оказаться в его объятиях, я склонила бы голову ему на плечо, она бы как раз уместилась во впадинке под ключицей, а он сомкнул бы руки вокруг меня, и я почувствовала бы себя полностью защищенной. Продолжая идти с ним рядом, я видела нас в ночи, рука в руке, два силуэта, удаляющиеся в сторону темной массы гор.
Чтобы отвлечься от своих мыслей, я спросила:
– Вы любите снег?
– Я забываю его от зимы до зимы, но да, думаю, снег я очень люблю. – И он добавил, словно знал, что скрывалось за моим невинным вопросом: – Вы не должны бояться, все будет хорошо.
Я с облегчением вернулась в дом, окружавший мою мать, точно кокон. Не было теперь другого места, где бы мне хотелось находиться. Я хотела остаться здесь, рядом с ней, в тишине ее спальни, сидеть, вслушиваясь в ее прерывистое дыхание, как будто каждый ее вздох был событием. Ничто больше, по правде говоря, меня не интересовало, и мне казалось, что я никогда не покидала эту женщину. На пороге разлуки я наконец-то все поняла. Что бы я ни делала, что бы ни говорила, мы с ней всегда жили вместе и никогда не расставались. Пусть я разделила нас целым Атлантическим океаном, пусть старалась освободиться от нее любой ценой – теперь я знала, что всегда и во всех людях искала ее. Я думала, что обрела свободу и независимость, следуя своим желаниям, – а на самом деле я вновь и вновь обретала ее. Она была Марикой и Каримом, она была встречей с Ингрид, и конечно же истоком моей дружбы с Альмой тоже была она. Но насколько я хотела уйти от нее все эти годы, настолько же теперь ничего другого не желала, лишь бы держать ее за руку, быть с ней на всем этом пути с одного берега на другой, в который она уже пустилась с тяжелым дыханием и распухшими от водянки ногами.
Когда я вошла, она сидела в постели, прислонившись спиной к стене. Глаза ее были устремлены в одну точку, как будто там, в темноте, происходило что-то, чего я не видела.
Ее внимание так и вибрировало в комнате, держа в напряжении тишину. Она ждала чего-то очень важного. Окно в любую минуту могло открыться и впустить нечто, чему нет имени. Здесь могло произойти все. И лучшее, и худшее. Я взяла было ее за руку, но она не дала ее мне. В ее жесте не было ничего агрессивного, но он напомнил мне, как я, маленькая, мешала ей, когда она занималась счетами. Ее это раздражало, она не хотела отвлекаться и просила меня посидеть рядом и не шуметь, пока она не закончит. Сегодня я снова была маленькой девочкой – в последний раз. Я села рядом и стала ждать, когда она закончит.
Было приятно ждать, не иметь других дел, кроме как слушать тишину и еще что-то, приближавшееся к ней в шорохе сухих листьев, по которым кто-то идет.
Мне просто хотелось быть подле нее. Впервые за долгое-долгое время хотелось сидеть рядом с ней, не двигаясь, и ничего другого не желать, только слышать ее дыхание, – как сидят обычно рядом с новорожденным.
Она многому меня научила. Например, тому, что нельзя принимать мужчин всерьез. Они, словно большие дети, не любят, чтобы им перечили, но, если за них «взяться с умом», как она говорила, они оказываются не лишенными приятности.
Так и она сама прожила жизнь с моим отцом. Зная, что он мало смыслил в том, что интересовало ее, – в музыке, искусстве, литературе. Но ей была ведома и таинственная связь между «сейчас» и «всегда». Она не жила в вечном ожидании, как можно было бы предположить, наоборот, она любила его долгие отлучки. Дела призывали его то в один конец мира, то в другой, и он послушно уезжал.
Она с удовольствием пользовалась свободой – ходила одна на концерты, водила машину на большой скорости, встречалась с подругами. Когда он погиб в автомобильной аварии, она легко приняла это самое долгое его отсутствие. Дело привычки, не так ли? Она всегда была готова окружать своего мужчину заботой, уместной по отношению к тому, кого надо оберегать. Приготовленная и разогретая к его приходу еда, долгие вечера, когда она не спала, поджидая его, чтобы он не возвращался в темный дом, – все эти знаки внимания она оказывала ему с материнским удовольствием. Ее это не стесняло, не возмущало, она служила ему, ну так что ж – в ее глазах это была дань вежливости, которую она с удовольствием ему отдавала.
А когда он разбился, она увидела в этом подтверждение его хрупкости и пожалела его за то, что он оказался не так силен, как она, его пережившая.
Она была так уверена в своем над ним превосходстве, что ей никогда и в голову не приходило сравнивать себя с ним. Конечно, он делал карьеру, зарабатывал деньги, много путешествовал и был уважаем в профессии, но она ни в чем ему не завидовала, потому что была убеждена, что лучшее досталось ей и что в ее руках истинная власть. У нее были цветы в ее саду, солнечный свет, возможность провести целый день дома, слушая музыку, если хочется, или прогуляться по окрестным полям. Она была благодарна ему за его заботу о ней, о нас, и продолжала думать, что он оберегает ее даже за порогом смерти.
На следующий день ее навестили три подруги. Три милейшие старые дамы. Я не помню в точности, как они были одеты, но у каждой мне бросилась в глаза одна деталь. На первой была косынка с леопардовым принтом. Легкий макияж подчеркивал красивые голубые глаза второй, а на третьей я отметила крепкие ботинки, говорившие о том, что она еще способна совершать долгие прогулки по городу.
При виде их я впервые поняла, что моя мать уже пересекла грань. Три женщины суетились, вручали букет цветов, снимали пальто, придвигали стулья, чтобы сесть у кровати. Все это с тем деланым оживлением, которое выказывают людям, когда не хотят дать им понять, что дела их плохи.
– Ваша мама уже не совсем в себе, – сказала мне Брижит, сделав жест руками, словно держала полную пригоршню песка, который сыпался между пальцами.
У нее было личико фарфоровой куклы, седые волосы казались напудренными. Все три кружили вокруг кровати, присаживались, снова вставали, изо всех сил стараясь выглядеть веселыми и бодрыми. А мама смотрела на них с саркастическим выражением лица, как будто все понимала и в глубине души посмеивалась над ними.
Я открыла окно. На улице было холодно и пахло близким снегом, такой свежий и чистый запах.
– Мы считаем очень важным навещать ее, – прошелестело мне фарфоровое личико.
Потом они надели пальто и упорхнули, точно голубки, склевавшие все зерно.
Я посмотрела, как они садятся в машину, возвращаются, как ни в чем не бывало, в свою обыденную жизнь, и у меня потемнело в глазах. Неужели еще возможно вернуться в нормальный мир, ехать по городу в потоке машин, бегать по магазинам:, ходить на работу или в кино? Неужели все это еще возможно?
Я поднялась в спальню, села рядом с матерью и спросила, что она думает о своих подругах.
– О, они меня очень огорчили. Они неважно выглядят.
– Вот как, а мне, наоборот, показалось, что они в отличной форме. Почему ты так говоришь?
– Потому что они не изменились.
Она смотрела на меня, сокрушенно качая головой. Нет, она, похоже, совсем не завидовала их здоровью, их активности, тому, как они сели в машину и упорхнули в жизнь. Наоборот, она давала мне понять все свое превосходство над этими женщинами, которым: было до нее далеко, которые ничего пока не знали и: которым: еще предстояло проделать долгий-долгий путь, ею уже пройденный. Болезнь была путешествием, в котором она накопила опыт, позволявший ей теперь смотреть на своих подруг, как на наивных детей, и ничего к ним не испытывать, кроме жалости.
Она откинулась на подушки, закрыла глаза, потом, открыв их, сказала мне, что ей хорошо здесь, в этой спальне с обоями в цветочек, с небом, которое ласково смотрит на нее из окна своим огромным серым глазом. Тишина комнаты вновь нарушалась странными: шорохами, она была со мной, и ее присутствие словно вызывало из далекого далека другие тени.
От свадебной фотографии у ее кровати еще веяло холодным воздухом и этим свежим горным запахом снега и чистоты. За окнами сгустились сумерки, но, когда я хотела зажечь свет, она жестом: остановила меня. Я села на один из оставленных подругами стульев и стала внимательно слушать тишину, как будто должна была расслышать каждый ее оттенок. Ничего не происходило, мы молчали, но каждая: секунда была плотной и: наполненной. Я не спрашивала себя, что мне надо делать, что-то большое и сильное, казалось, уносило меня; дом снялся с якоря и медленно плыл в свете зимних сумерек.
В этот вечер пошел снег мелкими: частыми хлопьями, и они быстро укрыли сад белым покрывалом.
Мы с Эрве поужинали в кухне, и между нами повисло долгое молчание. Эрве сидел в нескольких сантиметрах от меня, я чувствовала, как окутывает меня его тепло, и даже не хотела, чтобы он: ко мне прикоснулся. Было так отрадно сидеть подле него, когда за окнами легко и грациозно падал снег.
Эрве принес с собой бадминтонную ракетку в черном чехле. Она стояла у застекленной двери кухни, и время от времени он бросал в ее сторону взгляд, быстрый и словно заговорщический.
– Вы часто играете в бадминтон? – решилась я.
– Регулярно, два-три раза в неделю. Мне нравится легкость волана, нравится, как он рассекает воздух, как воздух тормозит его и несет. Играя в бадминтон, мы не навязываем воздуху свою силу, но играем с ним, как с третьим партнером. Меня научил отец, когда я был ребенком. Он был человеком строгим и неразговорчивым, работал садовником. У него было очень плотное расписание, и отдыхать он позволял себе только по воскресеньям. Под вечер мы шли в парк, где была большая засыпанная гравием площадка, и играли часами. Он почти ничего не говорил, всегда был молчалив, но играл с такой страстью, что было видно, как ему хорошо. Всю жизнь он склонялся к земле и любил эти часы, потому что мог смотреть только в небо.
Я очень любил весну, – продолжил он, встав и прислушавшись к тишине в доме. – В конце июня зацветали липы. Мы с отцом играли в их пьянящем аромате. Я немного стеснялся этого большого, тяжелого человека, который бегал, как мальчишка.
Летом, когда было очень жарко, он возил меня по воскресеньям в окрестные замки. В той местности, где мы жили, в Средние века было построено бесчисленное множество замков и крепостей. Они были открыты для публики по воскресеньям, как и их парки, где работал коллега моего отца. Отец держал меня за руку, когда мы входили во двор, воркование горлиц нас убаюкивало, в тени каштанов прогуливались павлины. Я скучал, пока отец осматривал клумбы цинний и безупречно подстриженные буксы и беседовал о засухе или о попытках заставить расцвести орхидеи в парке.
О чем думал этот человек, мой отец? Я этого так и не узнал. Наверно, он любил меня, но никак этого не показывал. Даже в часы отдыха он был словно замурован в свою стать и свое молчание. У него были большие шершавые руки, я помню черные бороздки на них – в ладони навсегда въелась земля.
Я внимательно слушала его, глядя на снежные хлопья, которые падали, кружа, точно пьяные бабочки. На подоконнике уже намело толстый слой снега, он искрился в электрическом свете и словно обрамлял темноту. Я отвела глаза от хлопьев и посмотрела на него.
– А ваша мать?
– Моя мать умерла совсем молодой, рак убил ее за полгода.
– Вот и я тоже скоро осиротею, – сказала я.
– Да, как большинство из нас. В конечном счете это не страшно, ведь мы всегда находим замену родителям.
И он немного грустно улыбнулся.
Было бы хорошо, подумала я, чтобы он стал мне вместо отца, удочерил бы меня. Пусть молчит, пусть не выказывает своей любви, лишь бы обнял.
– Странно, – проговорила я после паузы, – я никогда не чувствовала такой близости с матерью. Я ее теперь совсем не понимаю, но, в сущности, так было и раньше, моя мать всегда была очень замкнутой, как и ваш отец. А теперь она говорит без умолку. Я ничего не понимаю, зато между нами появилось доверие, которого раньше не было.
Помедлив, я сказала то, что лежало на сердце:
– Мне кажется, что я только теперь узнаю ее по-настоящему. Раньше она пряталась за своей ролью, а может быть, и не хотела мне довериться.
Под рубашкой я угадывала его торс и, скользя взглядом по груди, довольно отчетливо представляла себе выпуклости его мускулов, его живота и бедер. Но я пыталась представить себе другое – теплоту его тела и нежность кожи. Мне хотелось погрузиться в мягкое тепло и успокаивающий сумрак этого тела. Я представляла себе его соски, пытаясь угадать, какого они цвета – светло-розовые или коричневые? Представляла, как касаюсь и осязаю их под твердыми и гладкими грудными мышцами. Я вздохнула, и Эрве посмотрел на меня ласково.
– Это трудные моменты в жизни, не так ли?
Я слушала едва различимый шелест хлопьев, падающих на снег, и мне казалось, будто насекомые ползут по сухим листьям. Что-то почти неуловимое, и все же я отчетливо слышала это шуршание через закрытые окна. Ночной воздух был полон этого живого кружения.
Я представляла себе снег на крышах города, на виноградниках, на футбольных полях, на оживленных улицах, где он быстро покрывался черными пятнами, зато на улицах потише ложился толстым одеялом, поглощая все шумы и вынуждая машины еле ползти или вовсе не ехать. Я представляла, что весь город парализован и люди не выходят из дому, а если и выходят, то передвигаются черепашьим шагом. Снег окутывал все, сглаживал пейзаж, смягчал контрасты. Все были одинаково беззащитны перед тихим и непрерывным снегопадом, он по-матерински укрывал большие дома и маленькие, многоэтажные здания и кладбища, сады и поля. Он нес с собою тишину Великого Севера и воцарял ее повсюду, и над городом, и за его пределами. И города, деревни, дороги исчезали на лоне природы, становились крошечными и едва заметными под белым ковром.
Чуть позже Эрве вышел поиграть в бадминтон, оставив меня одну с больной. Она опять сидела очень прямо, опираясь на подушки. Дышала с трудом и жаловалась на ночную рубашку – давит. Я уже привыкла, что она говорит загадками. Она делилась со мной своими профессиональными заботами, хотя никогда в жизни не работала, разве что подсчитывала расходы и сопоставляла их со своей вдовьей рентой. Потом вдруг без перехода она снова заговорила о красивых картинках, которые боялась потерять. А когда я спросила, идет ли речь о ящике в подвале, она ответила, что вовсе нет, картины, о которых она говорит, здесь, перед ее глазами, стоит только их закрыть.
Помолчав, она добавила очень доверительно:
– Я подумала, что мне остался еще год жизни, и этот год я хочу порадоваться на эти красивые картинки, которые снова со мной.
Она не сомневалась в том, что ей самой решать, когда она умрет. Я смотрела на нее, на ее брови дугой, на карие глаза, устремленные не на меня, словно видевшие что-то за моей спиной. Я так привыкла верить ей и во всем повиноваться, что была счастлива при мысли, что мы еще столько времени будем вместе – по-настоящему вместе. Я поклялась себе, что останусь с ней так долго, как только смогу. Этот год, который я проведу с ней рядом, будет лучшим. Я видела нас с ней на этих разных картинах, которые она носила в себе. Среди них наверняка есть картина с домом и садом в импрессионистской манере. Туда будет очень легко войти, мне достаточно взять ее за руку, и мы ощутим тепло, услышим песню кузнечиков, вдохнем опьяняющий запах скошенной травы. Наверно, будет душно, как перед грозой, и откуда-то издалека донесутся обрывки сонаты Шопена в фортепьянном исполнении.
Я снова думала о том, что сказал мне Эрве о своем сиротстве. Наверно, поэтому меня так к нему тянуло. Этот надлом он носил в себе естественно и отстраненно. Не скрывал его и не выпячивал, просто жил с этой раной, как со старым шрамом, порой напоминавшим о себе, и меня это отношение как-то успокаивало. Он знал, что меня ждет, я это чувствовала, он сам это пережил, так почему же не переживу и я? До встречи с ним я сомневалась, что смогу жить, когда не станет этого маленького тела, так хорошо мне знакомого, которое всегда было со мной. Его не станет, а мир будет жить дальше – это поначалу казалось мне невозможным.
Я ждала его, лежа на диване, укутавшись в красный клетчатый плед. Услышав, как открывается дверь, я вышла к нему в прихожую. От него пахло чистым снегом и холодом, как будто он долго ходил по улице.
– Хотите чаю, чтобы согреться?
Я достала чашки, ложки, пакетики с вербеновым чаем. Я знала эту кухню так же хорошо, как свою собственную, но с тех пор как Лейла, Эрве, другие сиделки сменяли здесь друг друга, она больше походила на лабораторию или больничную палату.
Мы сели за стол, это уже стало привычкой; лампа висела между нами. Я слышала его дыхание, легкое, ровное, так непохожее на прерывистые вздохи матери. Мне казалось, будто он окружен ореолом умиротворенной тишины. Все вокруг него было прибрано, аккуратно, доступно. Мне хотелось встать и положить голову ему на колени, чтобы он долго гладил мои волосы, и я сказала ему об этом.
Эрве удивленно поднял голову, потом посмотрел на свои руки, как будто читал написанный на них рецепт. Он, казалось, рассматривал мою просьбу с той же нейтральной серьезностью, как если бы речь шла о лекарстве и он не был уверен, пойдет ли оно мне на пользу.
– Идемте, вернемся в гостиную.
Последовав за ним, я еще испытывала страх и отчаяние, но потом, когда я лежала на диване, головой на его бедре, и чувствовала, как его рука ласково гладит мои волосы, меня отпустило, что-то во мне успокоилось, и, тихонько соскальзывая в сон, я успела подумать: наверно, вот так и умирают, совсем просто.
Назавтра снова были гости. Истопник, толстый краснолицый мужчина, зашел запросто, узнать, как она себя чувствует; он сел, пыхтя, в кресло, которое под ним хрустнуло. Ничто в этом доме не было создано для тяжелых людей. Истопник в своей синей спецовке посмотрел на мать с искренне сокрушенным видом и спросил, не холодно ли ей, – он может прибавить жарку. Но она отклонила его предложение грациозным жестом, каким королева отпустила бы своего подданного. Нет-нет, все в порядке, ей пока ничего не нужно. Позже зашла незнакомая мне соседка и с видом плакальщицы театрально спросила:
– Как вы себя чувствуете, соседушка?
И она ответила с насмешливой улыбкой:
– Очень плохо. Я отхожу в лучший мир.
Это столь литературное выражение в ее бедных устах прозвучало одновременно и трогательно. В этом было что-то от нее прежней, всплывшее в водоворотах болезни.
Соседка сочла себя обязанной запротестовать: нет, не может этого быть, ей явно лучше. Но мама осталась непреклонна: ей плохо, очень плохо, и у нее нет никаких шансов на выздоровление.
Соседка смотрела на нее с ужасом, как будто упоминание ее близкой смерти было несказанной грубостью. Истопник покачал головой и наконец решился взять мамину руку. Просияло солнце, в комнате стало так легко, что мне захотелось рассмеяться, и это было безнадежно.
Потом, позже она проснулась после дневного сна. Ей приснились два белых лебедя, которые пролетали в небе, медленно и неслышно взмахивая крыльями. От этого сна, говорила она, ей стало лучше, легче дышится. А потом она снова завела свой непрерывный и невнятный монолог, в котором лишь время от времени я разбирала какое-нибудь слово.
В эту ночь я попросила Эрве обнять меня. Он снова выслушал мою просьбу так, будто мне требовалась таблетка от головной боли или капли для носа. Для него имели значение только факты, и это успокаивало.
– Я хочу, чтобы вы обняли меня и чтобы мы лежали так, не двигаясь, всю ночь.
Он посмотрел на меня очень внимательно, видно, оценивая мой случай. Удивленным он не выглядел, возможно, считал, что это входит в его работу медбрата.
– Да, я могу это сделать. – Таков был его вывод.
Он отвел меня в маленькую комнатку на первом этаже, куда уходил спать. В окно была видна проселочная дорога, вся покрытая снегом, блестевшим в электрическом свете.
Он стал раздеваться, и мне представился орех, у которого раскалывают скорлупу, и появляется светлое ядрышко. Его нагое тело немногим отличалось от одетого, он просто стал как-то ближе и отраднее. Он привлек меня к себе, я ощущала, не видя, твердые выпуклости его грудных мышц и слышала ровные удары его сердца. Мне подумалось, что в этом ритме, наверно, летели лебеди над снежным пейзажем.
Среди ночи я проснулась. Снова шел снег, частые хлопья кружились вокруг фонаря и падали на землю. Они отбрасывали неуловимые тени на безукоризненно белый ковер дороги. Было так спокойно в ночной тишине, усиленной тишиной снега, хлопья касались земли с легким звуком поцелуев. К завтрашнему дню наверняка ляжет несколько десятков сантиметров снега, уличное движение будет парализовано, и мне ничего не останется делать, только сидеть и ждать у ее кровати, когда она проснется, когда откроет глаза, произнесет несколько бессвязных слов и снова устало опустит веки.
Назавтра после обеда она вдруг сказала мне, широко открыв глаза, хотя последние несколько часов, казалось, дремала:
– Лебеди, лебеди, я слышу, как хлопают крылья.
Я вспомнила лебедей, которые весной на озере ломали лед своими большими крыльями. Но сейчас, среди зимы, они не могли прилететь на эти заснеженные поля. Что-то все же заставило меня встать и подойти к окну. Холод кольнул меня, и я глубоко вдохнула ледяную чистоту, влившуюся в горло.
Белые на сером фоне неба, два больших лебедя тяжело летели над деревьями и соседними домами. Взмахи их крыльев были медленными и мощными: за все время, что они пролетали в поле моего зрения, крылья поднялись и опустились лишь три раза. Их полет был почти невидим на серо-белом пейзаже. Мне подумалось, что действительность подстраивается под ее видения, повинуясь ее рассудку, движимая уж не знаю, какой силой. Как будто этот зимний пейзаж с лебедями был пейзажем из ее сна, и я тоже лишь силуэт в ее сновидении.
– Не бойтесь, дайте разгореться пламени безумия, оно ведь и освещает, – сказал мне Эрве, войдя в комнату больной.
В следующие дни я бессчетное множество раз приходила к Эрве в его квартирку в многоэтажном доме за вокзалом. Окна выходили на небо и деревья, и забывался большой бульвар внизу. Лежа на его кровати, я видела только небо да коньки крыш поодаль. Время от времени мы слышали, как объявляют прибытие или отправление поезда. Достаточно было закрыть глаза, чтобы представить, что и мы куда-то уезжаем. Я не рассказывала ему о своих путешествиях с Альмой. В этом не было необходимости, ведь мы с Эрве тоже были единым целым, хотя он и казался неподвижным.
Я уже не знала, что думать об Эрве. Он больше не был скромным и полезным медбратом, которого я попросила о помощи у матери. Он был двумя руками, которые трогали мое тело с потрясавшей меня точностью. Порой он прижимал палец к моему лону, как будто ко рту, которому хотел не дать заговорить. Эрве стал местностью, которую я не могла окинуть одним взглядом. Когда я была одна, без него, мне вдруг вспоминалось его бедро, или запястье, одновременно тонкое и сильное, или его живот в послеполуденном свете. Я могла размышлять о форме его губ, слишком тонких, возле которых узенькой линией залегла морщинка, говорившая о его одиночестве. И на несколько секунд ничего не оставалось в мире, кроме этой мелочи.
Я отдыхала душой, лежа голой на его кровати. Все становилось до невозможности просто, когда мы были рядом. Просто, как изгиб наших тел. Я точно знала, что делаю, когда была с ним. Я проводила указательным пальцем по его бедру, оставляя на коже белую черточку, которая быстро исчезала, как будто ничто из происходившего не оставляло следов. Мне нравилось скользить пальцами по его груди и чувствовать под рукой теплую кожу, упругие ребра. Ничего не было, только два наших тела и это желание умоститься друг в друге, словно каждый стал для другого домом. Когда мы встречались, все было покой и безмятежность, только серое небо да крыши по другую сторону улицы, и минута была такой наполненной, что с мыслью о смерти – моей, его, матери, не важно, – можно было смириться.
Весь декабрь я металась между двух этих комнат, две белые тишины ждали меня. Под ласками ли Эрве, терпеливо лепившего очертания сироты, которой мне предстояло вскоре стать, или в спальне больной, словно одно и то же слепое животное билось в окно. Нечего было сказать обо всей этой тишине, нечего сказать об этой обнаженной и трагической наполненности во мне. Я пересекала призрачный город, точно сомнамбула, и садилась у постели матери с облегчением. Это было единственное реальное место, где вещи и люди были настоящими, где мои руки не проходили сквозь книгу, которую я искала на полке, или тарелку, которую хотела взять со стола.
За два дня до смерти мама стала говорить без умолку, на непонятном языке, где мелькали время от времени слова вроде «лисица», «полная луна» или «фантастический». Как будто близость кончины высвободила слова, которые она так долго держала в себе, как будто вдруг прорвало плотину, и вся ее жизнь вылилась в этом потоке слов, которые текли с ее губ, точно слезы; эти слова облегчения не кончались и складывали часами и часами то, что было ее жизнью, жизнью сокровенной, как жизни тех, кого мы любим, что остаются для нас тайной именно потому, что мы их любим. Мне казалось, что на смертном одре моя мать облекает в слова все переплетения и разветвления, раскинувшиеся под ее зримой жизнью, как корни дерева ветвятся и переплетаются во влажной темноте под землей.
В какой-то момент она села в постели, устремив взгляд в угол комнаты, и я вдруг увидела, что эти слова накрыли ее живой и податливой тканью, что она одета в них, как никогда ни в один наряд не была одета раньше.
Она умерла на рассвете январского дня, когда белое солнце вставало в еще подернутом дымкой небе. Эрве исчез из моей жизни тогда же, но сирота, вылепленная в те часы, что я провела с ним, была готова встретиться с тишиной могилы под елью, где похоронена мама.