Свободное падение Голдинг Уильям
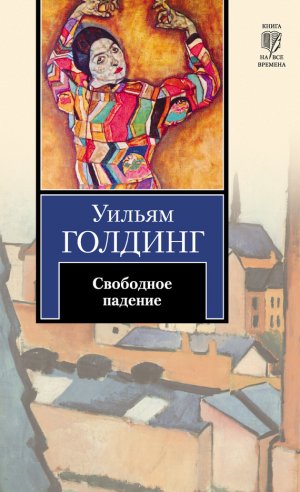
Она не отняла руку — оставила в моей. Впервые в жизни я коснулся ее. И услышал коротенькое «может быть», прошелестевшее, уносимое ветром.
Поворот головы, и ее лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. Я наклонился вперед и нежно, целомудренно поцеловал Беатрис в губы.
Наверно, мы продолжали спуск, и, наверно, я что-то говорил ей. Но слов не помню. Помню только охватившее меня удивление.
И не только это. Помню, я сделал открытие, суть которого сводилась к тому, что этим немым, спровоцированным ею поцелуем я пожалован в статус «ее парня». И это давало мне два преимущества. Первое: я мог располагать ее свободным временем, и она не станет проводить его ни с одним другим мужчиной. Второе: изредка, в особых случаях, а также при вечернем расставании мне полагался такой же сугубо целомудренный поцелуй. Почти уверен, что в тот момент Беатрис отпустила мне его в порядке профилактики. «Мой парень» всегда замечательный парень, а следовательно — так, скорее всего, рассуждала Беатрис, — если Сэмми станет «ее парнем», у него все пойдет замечательно. Войдет в норму. Ах, душечка Беатрис!
О моей приверженности коммунизму я помалкивал. Не давать же фору сопернику. Он, верно, был не менее ревнив, чем я, считая, что каждый, кто водится с исчадиями ада, должен быть заклеймен. По правде сказать, меня Ник попутал со своим социализмом: сам бы я в жизни не полез в политику. Я орал и согласно кивал вместе со всеми, я шел с ними, потому что они хоть куда-то шли. Если бы не племянник мисс Прингл, который теперь уже сильно продвинулся у чернорубашечников, я, пожалуй, надел бы черную рубашку и сам. Правда, в то время с нами со всеми что-то творилось. И хотя Уимбери убеждал и себя, и нас, что войны не будет, мы не питали иллюзий на этот счет. Мир вокруг нас неудержимо сползал в бурлящий хаос, где нравственности, семье, личным обязательствам вообще не было места. В воздухе веяло нордическим духом «заката Европы». И, верно, поэтому нам ничего не стоило переспать с женщиной — никакой ответственности. Только спали мы с теми, кто разделял это чувство безумного бега. Беатрис же была из другого круга. Не из того, где «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Один пролетарий среди нас был. Остальными членами нашей ячейки были учителя, священник или два, несколько библиотекарей, химик, набор учащихся вроде меня и наше сокровище — Дай Рис. Дай работал на газовом заводе: то ли сортировал уголь, то ли его подгребал. Думается, он стремился подняться вверх, а наша ячейка казалась ему обществом джентльменов. Проявлял он себя вовсе не так, как положено истинному пролетарию из учебника. Наша армия, по правде сказать, состояла сплошь из генералов. Дай послушно выполнял все, что ему поручали, а о чем они хлопочут, даже понятия не имел. Но вдруг он взбунтовался, за что и получил взыскание. Уимбери, как и Олсоп, как и другие члены ячейки, был коммунистом тайно. Делать партийную работу публично могли лишь студенты вроде меня и, конечно, наш пролетарий Дай. На него навалили такую гору, что на одном из собраний он разразился речью: «Вы тут, товарищи, всю неделю просиживаете свои жирные зады, а я, добрый человек, должен каждый вечер мерзнуть на улице и продавать ваш поганый „Уоркер“[8]».
В результате он получил взыскание, и я получил взыскание, потому что в тот вечер, не спросясь руководства, привел на собрание Филипа. Мне не хотелось отпускать его: с ним можно было поболтать о Беатрис и Джонни. А так он удрал бы к себе и затерялся в центральной части Лондона. Больше всего меня поразило выражение тревоги на лице Филипа — почти такой, что невольно мелькала мысль: уж не влюблен ли он? И что показательно для моего состояния, я тут же подумал: неужели он тоже жертвует своим будущим делом, чтобы подкатиться к Беатрис? Но пока Филип только вглядывался в лица присутствующих, а подкатился к Даю. Когда собрание закончилось, он настоял, чтобы мы пошли втроем опрокинуть по кружке пива. Даю, который сразу его зауважал, он устроил форменный допрос. А так как Дай был обывателем до мозга костей и вел себя вовсе не в духе голубой мечты о светлом будущем, отвечать на вопросы Филипа принялся я. Я очень к нему потеплел и растрогался, говорил убежденно и с пафосом. Он, однако, держался уклончиво и был чем-то озабочен. А к Даю обращался властным тоном, права на который я пока за ним не признавал. А потом он и вовсе его отшил:
— Еще полпинты, Дай, и марш домой. У меня разговор с мистером Маунтджоем.
Когда мы остались вдвоем, он заказал мне еще, но сам пить не стал.
— Так, Сэмми. Значит, ты знаешь, куда идешь.
Черт бы его побрал! Не дам загнать себя в угол.
— Ну этот парень — Уимбери… Он-то знает? Сколько ему лет?
— Не интересовался.
— Учитель?
— Да.
— И что ему надо?
Я опорожнил кружку и попросил принести еще.
— Он трубит ради революции.
Филип внимательным взглядом следил за тем, как я пил, — за каждым моим движением.
— Да? А куда он дальше шагнет?
Я, видимо, долго думал, потому что Филип добавил:
— Я имел в виду: он что, просто учитель? Рядовой?
— Именно.
— Как коммунист, он в директора не выскочит.
— Ну ты и тип! Зачем ты его так?
— Послушай, Сэмми. Что он с этого имеет? Куда метит?
— Ну, знаешь!
Куда может товарищ Уимбери метить?
— Неужели ты не понимаешь, Филип? Мы не для себя стараемся. Мы…
— Узрели свет!
— Пусть так.
— И чернорубашечники тоже. Ну-ну, послушай… не лезь с кулаками.
— Фашистские ублюдки!
— Я пытаюсь разобраться. На их сходках я тоже побывал. Да не скандаль же, Сэмми. Я — как ты выразился бы — неприсоединившийся.
— Просто ты чересчур буржуа — средний класс, и в этом твоя беда.
Пиво разгорячило меня, придало уверенности в собственной непорочности и правоте. Я шумно и старательно раздувал в себе пожар. А Филип смотрел на меня — только смотрел. Потом поправил сбившийся на сторону галстук и пригладил волосы.
— Эх, Сэмми! Вот начнется война…
— Какая еще война?..
— Та, что ждет нас через неделю.
— Никакой войны не будет.
— Да?
— Ты же слышал Уимбери.
Филип расхохотался. Ни разу еще не видел, чтобы ему было так весело. Наконец он вытер глаза и снова окинул меня серьезным взглядом:
— Сделал бы ты мне одно дело, Сэмми.
— Нарисовать твой портрет?
— Держи меня в курсе. Нет. Речь не о политике. Ваш «Уоркер» я не хуже тебя могу читать и сам. Просто сообщай мне, что у вас в ячейке делается. Чем дышат. Этот второй ваш… с лысым кумполом…
— Олсоп?
— Что он с этого дела имеет?
Я знал, что имеет с этого дела Олсоп, но распространяться не собирался. Любовь, если уж на то пошло, свободна, а частная жизнь человека никого не касается — кроме него самого.
— Почем я знаю? Он старше меня.
— Ты вообще мало что знаешь, да, Сэмми?
— Лучше выпей еще.
— И уважаешь старших.
— Да пошли они, старшие…
Пиво тогда подавалось холодное, и от первых двух кружек я совел, зато потом отпускало, а с третьей за спиной вырастали золотые крылья. Я вперил глаза в Филипа:
— Что тебе надо, Филип? Заявился сюда… чернорубашечники, коммунисты…
Филип возвратил мне взгляд с докторской отрешенностью сквозь окутавший меня туман. И, постукивая белым пальцем по своим лошадиным зубам, выдохнул:
— Слыхал о Диогене?
— Понятия о нем не имею.
— Он ходил с фонарем. Искал честного человека.
— Опять хамишь? Я — честный. И остальные товарищи — тоже. Чернорубашечники — гады.
Филип подался вперед и уставился мне в лицо:
— Даю главное — нахлестаться. А у тебя что главное, Сэмми?
Я промямлил что-то.
Филип придвинулся совсем близко и прозвучал очень громко:
— Клубничка? Клубнички хочется?
— А тебе чего хочется?
Пьяный глаз иногда так же зорок, как и отуманенный наркотиком. В части самого существенного. Филипа выхватил луч яркого света. Сознавая, насколько сам я не тверд на ногах и что веду кособокую, путаную жизнь, которую теперь вроде чуть-чуть выпрямляла стойка паба, я оказался способен увидеть, почему Филип не пьет. Филип, бледный, веснушчатый Филип, которого вселенская скупость обделила в каждой частице тела, берег себя. Что имею — храню. Вот почему его костлявые руки, его не имеющее товарного вида лицо, его срезанный, словно на него не хватило материала, с обеих сторон лоб были надежно защищены от побуждения давать и по самой своей природе не способны к природной щедрости, непроницаемы и настороженны.
Позвольте мне описать его таким, каким видел в тот момент. Он был одет лучше меня, чище и аккуратнее. Рубашка — белоснежная, галстук — безупречно завязан и висит по центру. И сидел он не горбясь, держа спину точно по вертикали. Руки опущены на колени, ноги сдвинуты. Странные у него были волосы — какие-то ни то ни се, растущие вроде бы густо, но такие хилые, что пластались по черепу, как у двери вытертый половичок. И настолько незаметные, что за крупными светлыми веснушками, усыпавшими лоб, невозможно было различить, где они начинались. И глаза казались странными в ярком электрическом свете паба — обнаженными: ни брови, ни ресницы их не прикрывали. Нет, мадам, мы не поставляем их по такой цене. Перед вами производственная модель. Нос был вполне полномерным, но выглядел каким-то стертым, а круговых мышц у рта едва хватало, чтобы держать его закрытым. А что скрывалось внутри? Какой он был человек? Каким был мальчишкой? Когда-то я гонялся вместе с ним за этикетками, дрался в темной церкви — он меня обставлял и бивал, а я все-таки принял его дружбу, когда дружба была мне очень нужна.
Что там скрывалось внутри?
Он, верно, усмехался про себя. И, скорее всего, так оно сейчас и было, выдавал усмешку лишь легкой конвульсией круговой мышцы.
— Что тебе надо, Филип?
— Я сказал что.
Он поднялся и стал натягивать плащ. Я было хотел попросить проводить меня до дому: не чувствовал уверенности, что доберусь сам, но еще прежде, чем эта просьба слетела с моих губ, он ее парировал:
— Не трудись тащиться за мной до метро. Я спешу. Вот конверт — на нем мой адрес. Запомни его. Время от времени, при случае… сообщай, что у вас в ячейке делается, чем товарищи дышат.
— Зачем, черт возьми, тебе это надо?
Он распахнул дверь:
— Надо? Я… интересуюсь, кто чем промышляет в политике.
— Ищешь честного человека… И на нашел такого?
— Нет. Конечно, нет.
— А если найдешь?
Филип задержался на пороге раскрытой двери. На улице было темно, блестели капли дождя. Он оглянулся на меня из глубины своих обнаженных глаз — взгляд издалека, из далекого далека:
— Буду крайне разочарован.
Я скрывал от Беатрис, что люблю выпить, потому что паб был для нее таким же проклятым заведением, как англиканская церковь, — разве что на ступень ниже. В ее поселке — милях в трех от Поганого проулка — все пьющие принадлежали к англиканской церкви, а настоящие парни — к широкой. Англиканская церковь объединяла крайности — верхи и низы, а широкая[9] — средний слой, класс, сурово следивший за тем, чтобы не ступить в грязь. Я много что скрывал от Беатрис. И, как мне сейчас видится, был загнанным, спешащим, взъерошенным, ходил в нечищеных ботинках, в незастегнутой рубашке и куртке, вздутой по бокам от кучи случайных предметов, которые распихивал по карманам, — превращал их в сущие торбы. Я быстро зарастал, а брился, когда шел на свидание с Беатрис. Спасибо партии, одарившей меня красным галстуком и тем самым решившей одну деталь моего гардероба. А уж руки у меня были в табачных пятнах по самые запястья. Ни солнечным простодушием Джонни, ни целеустремленностью Филипа я не обладал, и все же для чего-то я существовал. У меня было предназначение. Когда я делал, что мне велели, когда рисовал и писал красками, как меня учили, я удостаивался умеренных похвал. Из меня должен был выйти хороший учитель; надо думать, человек, знающий, что к чему, и понимающий необходимость каждой вещи. Поставьте задачу, и я сумею найти ей оптимальное академическое решение. И все же иногда я ощущал неотделимость от своего внутреннего источника и тогда срывался. Все мое тело пронизывало чувство веры в себя. Нет, не то — только это! И я опрокидывал мир условностей, выворачивал их наизнанку, безжалостно разрушал и создавал наново — не ради живописи и не ради Искусства с большой буквы, а ради самого творчества как такового. Если, подобно Филипу и Диогену, я искал бы честного человека в моем непосредственном деле, я нашел бы его, и этим человеком был бы я сам. Искусство — частично информация, но лишь частично. Все остальное — открытие. Я всегда был тем, кто жаждет открытия.
Все это я говорю не в извинение себе — или все-таки в извинение? Нельзя иметь две морали: одну — для художника, другую — для прочих. Это ошибочное мнение обеих сторон. Кто бы ни судил меня, пусть судит так же, как судил бы бакалейщика, принадлежащего к широкой церкви. Если я написал несколько стоящих картин — побудил людей по-иному взглянуть на мир, — то, с другой стороны, я не продал им и фунта сахару, не доставил утром к их порогу и бутылки молока. Я говорю все это, чтобы объяснить, какого рода молодым человеком я был, — объяснить себе. Кому же еще! Таков мой портрет — человека из породы открывателей, а не информаторов. Из тех, кто постоянно бросается от ненависти к благодарности. А к Беатрис меня тянуло так, как однажды у меня на глазах тащило течением пришвартованную наглухо лодку. Можно ли винить эту лодку, если, все-таки оторвавшись, она поплывет туда, куда понесет ее вода? Вот и этого молодого человека, хмелевшего сначала от радости, потом от наркотиков, потом от сигарет, пока курение не стало просто жестом, пившего сначала ради фосфорического свечения и чтобы загнать реальность подальше в угол, а потом, чтобы бежать из мира абсурда в мир апокалипсиса, бросившегося в партию, потому что там знали, куда движется мир, — этого молодого человека, необузданного и невежественного, просящего помощи и ее отвергавшего, гордого, любящего, пылкого и одержимого, могу ли я винить его за совершенные им проступки, если все это время он был лишен и намека, даже надежды на свободу?
Но Беатрис надеялась быть мне добрым ангелом. Мы снова ездили за город. Мы писали друг другу записки. Я знал почти наизусть слова, которые она употребляет, но все меньше и меньше разбирался в ней самой. Теперь она стояла прислонившись к дереву, и я обнимал ее. Во мне все трепетало, но она не замечала этого. Я давал себе слово исправиться, подняться на самый верх, покончить раз и навсегда со всеми завиральными идеями. И, наклонившись, прижимался щекой к ее щеке. И смотрел туда, куда смотрела она.
— Беатрис!
— Мм?
— Скажи, что ты чувствуешь? Каково это — быть тобой?
Вполне разумный вопрос; и возникший из моего восхищения перед Иви и маманей, из глубины моих юношеских фантазий, из моей болезненной одержимости желанием открывать и познавать. Совершенно безумный вопрос.
— Как все. Ничего особенного.
Каково это — держать в своей руке ось чужой Вселенной, быть мягкой, милой, нежной и от природы опрятной и чистой, быть желанной до безумия, жить под этой копной волос, за этими огромными, несказанными глазами, чувствовать, как вздымаются эти хорошо охраняемые холмики-близнецы, ложбинка между ними, дорожка к тонкой талии, быть уязвимой и неуязвимой? Какая ты в ванной, в клозете, когда ступаешь по панели нешироким шагом на своих высоких каблучках? Каково это знать, что твое тело источает легкий аромат духов, от которого взрывается мое сердце и голова идет кругом?
— Нет. Скажи мне.
Скажи, чувствуешь ли ты все это, все, что ты есть, все до конца? Знаешь ли, чувствуешь ли, какая прелесть твой впалый животик? Каково это бояться мышей? Каково быть осмотрительной и ясной, опекаемой и спокойной? Какими видятся тебе мужчины? Всегда одетыми — в пиджаках и брюках? Бесполыми, как гипсовые слепки в мастерской художника?
Беатрис чуть шевельнулась — будто хотела оторваться от дерева: мы стояли прислонившись к стволу, а она еще и ко мне, а я обнимал ее за талию. Но я не пустил ее.
И главное, помимо всего прочего, даже помимо мускусных сокровищ твоего белого тела — тела, оказавшегося так близко ко мне, но мне недоступного, — помимо всего прочего — в чем твоя тайна? Нет, я не могу задать тебе этот вопрос: я и сам не умею его выразить. Но свобода воли познается, как вкус картофеля, а то, что я однажды уловил в ее лице, я не способен передать на полотне и вряд ли запомню — нет, я не могу написать с тебя портрет — портрет, хоть отдаленно похожий на живую Беатрис, а потому пожалей меня и допусти до твоей тайны. Я полностью капитулирую. Плыву по течению. Даже если ты не знаешь, что ты есть, все равно допусти меня до себя.
— Где ты обитаешь, Беатрис?
Она вдруг снова попыталась высвободиться.
— Не шевелись. Нет, глупенькая, я не об адресе спрашиваю. Левой стороной головы я касаюсь твоей правой. Ты там есть? Нам нельзя и на дюйм быть врозь. Я обитаю в затылке — ближе к затылку, чем к лобной части. А ты? Ты тоже? Вот я кладу пальцы тебе на шею и веду их вверх. Я найду тебя там? Тепло? Горячо?
Она отстранилась:
— Ты… Не надо, Сэмми!
Как далеко простирается твое я? Или, может, оно лишь черное пятнышко в самой середке и не способно познать себя. Или ты живешь по другой шкале, не мыслимой мною, по которой достигают спокойствия и уверенности.
Но побеждает мускус.
— Сэмми!
— Я сказал: я люблю тебя. О Боже! Разве ты не знаешь, что это значит? Я хочу тебя, хочу тебя всю, не только холодные поцелуи и прогулки. Я хочу быть с тобой, в тебе, на тебе и вокруг тебя, хочу слияния и познания, хочу понимать и быть понимаемым. О Боже! Я люблю тебя, Беатрис. Беатрис, я хочу быть тобой!
Это был момент, когда она могла порвать, забраться подальше, написать мне письмо, а потом избегать меня. По правде сказать, это был ее последний шанс — только она этого не знала. А возможно, мои мужские сильные руки обдавали теплом ее фригидную кожу, вызывали возбуждение в теле.
— Скажи, что любишь меня, или я сойду с ума!
— Сэмми… будь же разумен. Сюда могут…
— К черту всех! Повернись ко мне лицом.
— Я думала…
— Думала — мы друзья? Нет, не друзья. Какие там друзья!
— Я думала…
— Ты не то думала. Мы не друзья, и нам никогда не быть друзьями. Неужели ты этого не чувствуешь? Мы больше, чем друзья, должны быть больше. Поцелуй меня!
— Не хочу. Послушай, Сэмми… ну пожалуйста! Дай мне подумать.
— А ты не думай. Чувствуй. Не умеешь?
— Не знаю.
— Давай поженимся.
— Нам нельзя. Мы оба еще учимся… у нас ни гроша.
— Тогда скажи, что пойдешь за меня. Потом, когда сможем пожениться. Пойдешь?
— Сюда идут.
— Если не пойдешь, я…
— Нас увидят.
— Я убью тебя.
По дорожке приближались мужчина и женщина, рука об руку, — они уже утрясли часть своих проблем. Они смотрели в пространство, минуя взглядом нас, и исчезли из виду.
— Так как?
Начал накрапывать дождь, зашуршал каплями в ветвях. Убийство убийством, а дождь дождем. И мы пошли, я чуть сзади, нависая над ее плечом.
— Так как же?
По ее мокрому, блестящему лицу разлился румянец. Крохотные жемчужины и алмазы гроздьями осели в волосах.
— Давай прибавим шагу, Сэмми. Если мы опоздаем на автобус, следующий придется очень долго ждать.
Я взял ее за кисть и повернул к себе:
— Что и требуется.
Она смотрела на меня по-прежнему ясными, по-прежнему безмятежными глазами. Но блестевшими ярче — ярче от возмущения и триумфа.
— Ты сказал, я тебе небезразлична.
— О Бог мой!
Я окинул взглядом хрупкое тело, оценил, как тонка черепная кость, беззащитна круглая шейка.
— Мы очень долго не сможем пожениться.
— Беатрис!
Она чуть придвинулась ко мне, взглянув на меня сбоку поблескивавшими довольными глазами. И подставила щеку, разрешая поцелуй.
— Так ты пойдешь за меня? Скажи, что пойдешь!
Она улыбнулась и обронила ближайшее из известных ей к «да»:
— Может быть.
5
В «может быть» укладывалось все наше время. Мы ни в чем не были уверены; не Беатрис, а мне следовало произнести «может быть». Чем громче я вопил, плывя в фарватере партии, тем чаще внутренний голос увещевал меня: не будь дураком, никто ни в чем не уверен. В нашей жизни, запутанной, ковылявшей по колено во мгле, все было относительным. И я вполне мог принять ее, Беатрис, «может быть» за «да».
Я был молодой человек, не уверенный ни в чем, кроме соленых радостей секса, уверенный, что если в жизни есть положительная ценность, то лишь вот это несомненное наслаждение. Можно бояться его, проклинать, возвеличивать, но оно есть и ни в ком не вызывает сомнения. И в Искусстве… Разве не утверждалось — что юности предоставлены возможности овладеть всеми человеческими знаниями и лишь недостает времени познать все — разве не утверждалось в пухлых и нечитаемых учебниках, что корни искусства в сексе? И разве могли быть тут сомнения, если сотни умных людей подтверждали, что это так, и, более того, поступали так? А потому это щекотное наслаждение, это истечение, разделенное или причиненное себе самому, не воспринималось ни как предосудительное, ни как греховное, а приносилось на алтарь любого — пусть даже плюгавого — храма, в какой доводилось попасть. Правда, где-то в глубине полученный опыт оценивался и оседал в сознании: если это все, то не слишком ли жалкой была такая плата за рождение, за обиды и разочарования в годы взросления? Тем не менее я сейчас выводил Беатрис на сексуальную орбиту. Даже ей нужно было знать, что замужество и половой акт некоторым образом связаны между собой. При мысли о последнем у меня слабели чресла и из легких вырывалось жаркое дыхание.
— Нет, Сэмми! Нет!
Потому что, конечно, на ее «может быть» существовал лишь один ответ, и я пустил в ход клинч, но она не стала соответствовать. Тогда — я четко это помню — на меня напала дрожь, словно любовь, соитие и страсть были недугом. Меня трясло с головы до ног, как если бы кто-то нажал во мне кнопку. Я стоял в лучах зимнего солнца, среди усеянной дождевыми каплями ржавой листвы и дрожал, дрожал, словно этой трясучке не будет конца, исходя тоской, которую сам не знал, как объяснить: моей природе свойственна потребность поклонения, а этого не было ни в учебниках, ни в поведении тех, кому я следовал, и поэтому по неведению я себя обездолил. Моя тоска казалась беспричинной, а изливаясь из глаз смешного, немужественного, дрожащего существа, только напугала Беатрис. В каком романе обласканный девицей кавалер стал бы дрожать или плакать? Лучшее свойство ее натуры или здравый смысл говорили, что надо пойти на попятный. Может быть, тут же и тогда же, — если бы я, отвернувшись, не употребил сверхусилие, чтобы овладеть собой. Вот это был должный эталон поведения, а потому не пугающий. Дрожь унялась, и меня вдруг ошеломило открытие: здесь было начало конца этого длинного пути. Настанет день, да настоящий день, а не воображаемый, когда я завладею ее великолепным телом. Она благополучнейшим образом станет моей — вне всякого сомнения и без особых хлопот.
Я снова повернулся к Беатрис и от невыносимого возбуждения затараторил. Я вел ее по тому самому пути, тараторя и смеясь, а она молчала и смотрела на меня с удивлением. Теперь я понимаю, какими странными, должно быть, казались ей мои реакции, но тогда я считал их естественными. На самом деле я находился в состоянии неуравновешенности, которое — теперь-то мне ясно — легко могло кончиться безумием, и, пожалуй, ей тогда это тоже было ясно. Но при этом у меня разглаживались старые шрамы. Ненависть преследователя поглощалась благодарностью. Ожоги, нанесенные перекалившимся чувством, затягивались, и я раскрывался, наслаждаясь миром в глубине сердца, овеянного напрочь невидимой радостью.
Мне и на секунду не приходит в голову, будто она любила меня тогда. Если уж заводить об этом речь, то я спросил бы себя: сколько человек вообще способны к полному поглощению и подчинению? Ее куда больше в этом деле прельщал обычай и прецедент. Теперь она была помолвлена, а я, возможно, был необходим еще как невидимый придаток к ее жизни студентки педагогического колледжа, придаток, который она могла себе с легким сердцем позволить, поскольку собиралась быть мне добрым ангелом. Если она и думала о браке, то где-то в далекой перспективе после колледжа, так сказать, под занавес, золотым сиянием поближе к концу. Но у меня были определенные мысли и цель.
Теперь я только поражаюсь своей тогдашней робости и невежеству. После всех страстных картин в постели я едва осмеливался целовать ее и делать кое-какие подобные авансы. И конечно, она их все отмела, а в результате на повестку дня встало главное событие и невозможность ждать долгие годы.
— Девушки чувствуют иначе.
— Но я не девушка.
Вот уж кем я не был. Я, как никогда прежде, чувствовал себя существом противоположного пола. Но она была девицей, которая, как монашка, укрывала в себе чувства и физические реакции. Все то время, что я стучался и барабанил в эту дверь, Беатрис оставалась наглухо запертой изнутри. Мы продолжали встречаться, обмениваться поцелуями и строить планы насчет женитьбы через несколько лет. Я купил ей кольцо, и она почувствовала себя все равно что помолвленной и взрослой. Мне дозволялось держать ладонь на ее левой груди при условии, что моя ладонь остается поверх одежды. А дальше — ни-ни: тут Беатрис становилась крайне решительной. Я так и не сумел проследить ход ее мыслей, руководивших ее реакциями. Пожалуй, и мыслей вообще не было, одни реакции. Лучше вступить в брак, нежели разжигаться[10], сказал святой апостол Павел. Как я был с ним согласен! Но вступить в брак мы не могли. И я целовал ее в холодные уголки губ, держал ладонь на скрытом под одеждой соске и пылал, как стог сена.
Я снял комнату, совмещавшую гостиную и спальню, без услуг, положенных жильцу от хозяйки. Если бы не Беатрис, ни за что не полез бы в эту мрачную дыру, но я облюбовал ее как плацдарм для совращения моей недотроги.
Никаких образцов, кроме кино, у меня не было, а мои обстоятельства не позволяли им следовать. Я не мог окружить Беатрис роскошью, не мог нанять цыгана-скрипача, который наиграл бы ей в ухо нужный мотив. Но и эта комната с диваном-кроватью, узким для двоих, — разве только склеенных воедино или наложенных друг на друга, — с коричневыми панелями и лампой под розовым абажуром нисколько мне не помогла. «Подсолнухи» Ван Гога, кто спорит, выдающееся произведение — но в какой лондонской гостиной-спальне их нет? Заманить Беатрис к себе мне было нечем, кроме как ссылкой на нашу бедность. Сидеть на диване обходилось дешевле, чем пить кофе в соседней забегаловке, дешевле даже поездок за город, куда, вырываясь из дома, приходилось тратиться на поезд или автобус. Поэтому, когда я наконец залучил ее к себе, зная зачем, сама она, возможно, считала, что тут действуют похвальные мотивы экономии.
Она пришла, и в комнате простерлись необъятные пустыни молчания. Это было настолько не похоже на мои лихорадочные фантазии, что в первые минуты я даже несколько поостыл. Беатрис волновала меня своим присутствием, но через бездну молчания я перешагнуть не мог. Она сидела на диване, уперев локти в колени, обхватив обеими ладонями подбородок и глядя перед собой — будто в пустоту. Раз-другой я опускался перед ней на корточки, пытаясь перехватить ее взгляд.
— О чем ты думаешь?
Она слегка улыбалась и качала головой. А если я стоял совсем рядом, выпрямляла спину и снова устремляла взгляд мимо меня. Казалось, ее томила скука, но это было не так: она испытывала странное и неизведанное удовлетворение процессом жизни. На душе у нее было спокойно. За ней стояла широкая церковь с ее гарантиями; что же до всего остального, то Беатрис наслаждалась тем, что накрепко заперта в своем ладном теле. Никто не объяснил ей, что это грех — грех самоуверенно и самовлюбленно наслаждаться собой — своим теплом и гладкостью. Напротив, ее заверили, что это добродетельно и респектабельно. Теперь-то мне ясно, почему она так держалась за свою монашескую невинность — из послушного стремления быть подальше от глубокой и грязной лужи, в которой барахтаются остальные. Где барахтаюсь я. Из этой лужи я тянул к ней руки, и ей было меня жаль. Впрочем, нужные меры она уже приняла, не так ли? Она выйдет за меня замуж — разве не этого жаждут все настоящие парни? — и наша раздвоенность растворится в золотой долине, и все благоглупости сгладятся сами собой.
— О чем ты думаешь?
— О разном.
— О нас?
— Может быть.
За окном длинное зимнее шоссе охватывала тьма. Заалела в небе реклама — квадрат красных букв, вокруг которых плясал желтый ободок; загорелись и замерцали, словно вдруг пробудившись ото сна, уходящие вдаль на целую милю желтые огни. У нас оставались считанные минуты.
— О чем ты думаешь?
Настало время ей уходить. Сейчас она подымется, разрешит мне бережно обнять ее за плечи и упорхнет — женственная, нетронутая.
Интересно, о чем она думала? Она и сейчас для меня загадка, и сейчас непроницаема. Даже если ей нравилось, как молодой кошечке, нежившейся у камина, лелеять свою невинность, к кому-то ее все же тянуло — пусть не ко мне, так к какой-нибудь подружке. Сумели бы достучаться до нее собственные дети? Может быть, прожитая вместе жизнь сделала бы ее сначала прозрачной, а потом открыла в ней сложные очертания замкнутой в себе души. Может быть.
Все же она привыкла к моей комнате — к нашей комнате, как я стал о ней говорить. Я усердно трудился, расчищая подходные пути, неприметные или логичные. И всячески разрушал владевшую нами физическую робость: зарывался лицом в ее волосы и молил ее — не сознавая, пожалуй, возможности узкого дивана, — молил остаться у меня на ночь. Конечно, она не соглашалась, и я разыгрывал новую карту. Мы должны немедленно обвенчаться. Пусть наш брак останется в тайне.
Беатрис не соглашалась. К чему она стремилась? Чего хотела? Помочь мне обрести устойчивость, и только? Может, она вообще не собиралась за меня?
— Поженимся. Сейчас!
— Но мы не можем!
— Почему?
У нас нет денег. Ей нельзя вступать в брак, она подписала что-то вроде обязательства. Это было бы нечестно…
Бедняжка сыграла мне на руку.
— Тогда сойдемся так.
— Нет.
— Почему нет?
— Нельзя. Это было бы…
— Что было бы?.. А заставлять меня страдать можно? Потому что ты — ты же знаешь, каково это для мужчины! — потому что ты подписала какое-то вшивое обязательство стать засушенной школьной мымрой?
— Сэмми! Пожалуйста…
— Я люблю тебя.
— Пусти.
— Как ты не понимаешь? Я люблю тебя. И ты меня любишь. Для тебя должно быть счастьем отдаться мне, для нас — друг другу, отдать всю свою красоту, разделить… Почему ты не допускаешь меня до себя? Ты не любишь меня? Я думал, ты меня любишь!
— Так оно и есть.
— Тогда скажи это.
— Я люблю тебя.
Но она все равно не соглашалась. Мы часами сидели на краю узкого дивана и сражались — кто кого. Смех да и только. Сплошной идиотизм. Постепенно даже желание иссякало, а мы продолжали сидеть бок о бок, пока я вдруг не пускался в пространное описание очередной выставки или картины, которую как раз писал. Иногда возвращался к разговору — если можно назвать монолог разговором, — прерванному четверть часа назад.
Беатрис принадлежала моему единственному сопернику. И телом своим поэтому распоряжаться не могла. Так она думала и, исходя из этого, действовала. Обвенчаться мы пока не могли. Вот так. И она приходила ко мне, время от времени, посидеть со мной на ребрышке моего дивана-кровати. Зачем она это делала? То ли острое любопытство, от которого пересыхало во рту, толкало ее так близко к краю, насколько хватало смелости ступить, то ли что другое?
— Я сойду с ума.
У нее было удивительно податливое тело, готовое подчиниться, где бы его ни коснулись, но стоило мне высказать ей это — какое неприличие! — и ее тело каменело у меня в руках.
— Никогда не говори таких гадостей, Сэмми!
— Я сойду с ума. Слышишь?
— Не смей так говорить!
Сходить с ума было тогда не в моде. Мало кому приходило на ум радостно признаваться, что он невропат или псих. В этом отношении, как и во многих других, я, пожалуй, вправе заявить, что обогнал свое время. Там, где сегодня девица пошла бы навстречу, в те дни Беатрис перепугалась. И сразу опустилась на тот уровень, на который мне требовалось.
— Нет, это верно, я схожу с ума, чуть-чуть…
Стоит человеку утратить свободу, как нет конца виткам жестокости. Я должен, должен, должен. Существует поверье, будто осужденных на адские муки вынуждают мучить невинных живых, насылая на них болезни. Теперь я знаю: жизнь, пожалуй, пострашнее этих невинных средневековых заблуждений. Нас то и дело вынуждают мучить друг друга. Разве мы не наблюдаем, как сами превращаемся в автоматы, и только ужасаемся, когда наши собственные, но вдруг ставшие чужими руки обращают орудия страсти против тех, кого любим? Разве утратившие свободу не помнят, как были вынуждены проделывать это — неловко и неумело — в дневное время, пока уже и не различишь, кто тут мучил кого. Неотступное желание влекло меня к Беатрис.
И конечно, стоило бы ей преодолеть страх, и мы слились бы в любовном порыве, и не было бы конца счастью в солнечном будущем.
Я безумствовал в вагнеровском ключе. Темными ночами меня гнало из дому блуждать по дюнам. Не хватало только плаща.
И вот я посылаю через портье записку. Мистер Маунтджой желает переговорить с мисс Айфор.
— Сэмми!
На часах без четверти восемь.
— Я должен был прийти и взглянуть на тебя. Убедиться, что ты есть.






