Углицкое дело Булыга Сергей
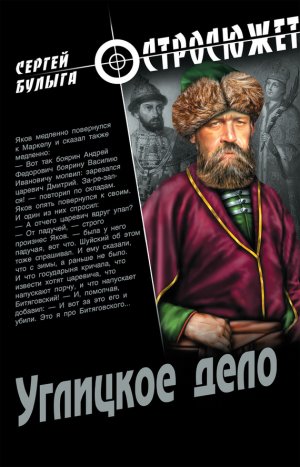
1
15 мая 7099-го года от Сотворения мира (или 1591-го от Рождества Христова) в удельном городе Угличе преставился царевич Димитрий Иванович. А если прямо говорить, так там было вот что: убили его Борисовы люди, Мишка Битяговский с товарищами. Или же, говорили другие, что поосторожнее, это царевич сам себя убил – играли в тычку, он упал горлом на нож и от него зарезался. Или вообще он не убился, говорили третьи, самые упрямые, и теперь, по их словам, в Углицком кремле в Спасо-Преображенском соборе лежит в гробу не он, а безродный подменыш, а сам сказанный царевич спасся. То есть спасли его верные люди, скрыли до поры в надежном месте, и пусть Борис теперь локти кусает! Вот что тогда на Москве говорили – натрое. То есть могло быть и так, и сяк, и этак, а вот как оно было на самом деле – это, говорили, знает только один Господь Бог. Но Господь Бог – он высоко и далеко, и он судить будет еще нескоро, а посему царь и великий государь Феодор Иванович, старший брат сказанного убиенного (или же счастливо спасшегося) царевича Димитрия, как только дошли до него эти слухи (через трех разных гонцов), вначале крепко закручинился, а после велел скакать в Углич и во всем доподлинно на месте разобраться, как оно на самом деле было. И поручил это боярину Василию Шуйскому, и сказанный Василий Шуйский со своими людьми в тот же один день собрался и поскакал (отъехал) в Углич…
Нет, всё было, конечно, не так просто, а так только, когда Шуйский уехал, между собой болтал подлый народ, который ничего толком не знал, да ему и знать не полагается. А на самом деле это начиналось вот как: поздним вечером 16-го мая уже сказанного 7099-го года прискакал в Москву из Углича губной дьячок Влас (Авласка) Фатеев, которому было строго-настрого наказано крепко держать язык за зубами и добиваться прямо к государю, и уже только государю говорить о том, что у них там случилось. И так Авласка и молчал почти что всю дорогу, и даже почти всю Москву. И уже только в Никольских воротах, то есть при самом въезде в Кремль, сказанного Авласку остановили стоявшие там на карауле стрельцы и стали допытываться у него, чего ему здесь надо. Авласка поначалу как мог отнекивался, нес что ни попадя, но после вскоре понял, что ему так в Кремль никогда не попасть, и сказал, что, мол, пустите меня, братцы, у меня наисрочное дело: у нас в Угличе беда, царевича зарезали, мне надо срочно к государю, мне приказано. То есть вот так прямо и брякнул! Стрельцы от таких слов сразу опешили, потому что больно уж Авласкина новость была непростая, а после все же опомнились и, правда уже без прежнего задора, продолжали: к государю, как же, обязательно – и повели Авласку под уздцы, не давая ему слезать с лошади, через ворота в Кремль. Авласка думал, что они ведут его в палаты государевы. Да и откуда ему было что знать, когда он в первый раз был в Кремле и он ни тамошних палат не знал, ни тамошних обычаев, а только слышал краем уха.
И как слышал, так оно и вышло: те никольские стрельцы привели его не к государю, а, ничего не говоря, прямо к государеву шурину Борису Годунову! То есть к тому, кто и послал убийц к царевичу! И это еще хорошо, думал Авласка, что он не был такой дурень, чтобы ничего не понимать, и поэтому когда его ввели вверх по лестнице и там завели в богатую просторную светлицу и велели ждать, он уже сразу почуял неладное! Не туда его ввели, он понял, не может того быть, чтобы вот так его, последнего раба, сразу допустили бы до государя!
Поэтому когда к нему в довольно скором времени вышел Борис Годунов (а он одет был просто, по-домашнему, ведь была уже почти что ночь), Авласка сразу пал перед ним в ноги, но при этом ничего не говоря. А Борис Годунов сел на лавку и сам начал его расспрашивать. То есть сперва спросил, кто он таков, и Авласка ответил, после спросил, кем он прислан, и Авласка сказал, что Иваном Мурановым.
– Кто таков Иван Муранов? – спросил Годунов.
– Наш губной староста, – сказал Авласка.
– Что он велел мне передать? – спросил дальше Годунов тем же простым негромким голосом. Но Авласке стало очень страшно, он поднял голову и посмотрел на Годунова (а Годунов смотрел и хмурился) и, ничего не говоря, перекрестился.
– Э! – усмехнулся Годунов. – Ты что это задумал, вор, ты меня перехитрить задумал?!
– Помилуй Бог, боярин, разве я посмел бы! – быстро-быстро отвечал Авласка. – Робею я, боярин, вот что. Дело, – продолжал Авласка, – больно страшное. – И уже громко, и как бы отчаянно добавил: – Убили нашего царевича, вот что!
– Ах, Господи! – воскликнул Годунов и широко перекрестился. – Ах, Господи! – сказал он еще раз и еще раз перекрестился. А после крутнул головой и повернулся к образам и губами вот так быстро сделал, и только после опять повернулся к Авласке и тихим голосом велел: – Рассказывай!
А Авласка смотрел на него и молчал, и думал: кто это такой, не Годунов ли? А почему он так подумал, как он после объяснял, так потому что на кого еще было думать, ведь же кто тогда не знал, у кого вся власть в Москве?! У Годунова, у кого еще! Кто бы еще посмел-решился перехватывать гонца с такой страшной вестью? Но, тут же подумал Авласка, если он сейчас хоть одно лишнее словечко брякнет, после не найдет его никто и никогда! И он еще губы облизал, а после сказал так:
– Я сам ничего не знаю, боярин! Я тогда сидел дома, обедал, как вдруг слышу: загремел набат! А после почти сразу вижу: уже по моему двору идет ко мне мой староста Иван Муранов, с лица очень красный. Я сразу почуял: дело дрянь! И только я встал из-за стола, а он уже входит, смотрит на меня звериным глазом и громко-грозно говорит: чего расселся, пес, царевича зарезали, а ты где был?! Я говорю: а здесь. А он еще громче: пес, пес, не здесь тебе надо сидеть, а скачи, пес, в Москву и скажи государю, что его братца любимого Димитрия зарезали! Я говорю: как, когда?! А он еще страшнее вызверился и кричит: вон, пес, во двор, я уже Никитке велел, он тебе уже коня привел, скачи и доложи, как велено! И я вышел во двор и как в чем был тогда, в том и сюда прискакал. Скакал со вчерашнего обеда.
Сказав это, Авласка замолчал и еще раз перекрестился, чтобы прибавить своим словам силы. Годунов, увидев это, усмехнулся. Тогда Авласка добавил:
– Не вели казнить, боярин, но мне было велено перед всеми молчать, а рассказать только самому государю.
– Кем было велено? – спросил Годунов.
– Иваном Мурановым, – сказал Авласка, – нашим губным старостой.
На что Годунов усмехнулся и так же с усмешкой добавил, что пусть Авласка не боится гнева старосты, потому что, он прибавил, скажешь, что государь в ту пору спал и поэтому ты, не решившись его тревожить, поспешил к боярину Борису, его шурину… И тут Годунов замолчал. А зато Авласка подскочил и ретиво воскликнул:
– А, а, я так и думал!
– Вот-вот! – сказал на это Годунов. – И дальше тоже крепко думай, и я тебя не забуду. А не будешь думать – тоже не забуду, но уже иначе! – И при этом опять усмехнулся и еще пальцем погрозил.
А после вдруг хлопнул в ладоши, вошел его человек, и он сказал человеку, что нужно всех поднимать, и государя тоже. Человек ушел. А Годунов встал с лавки и еще раз хлопнул, но уже иначе. Вошел иной человек, одетый сильно проще, и Годунов сказал ему, указав на Авласку, чтобы покормили этого.
И Авласку увели куда-то на поварню, и там сонный повар или кто еще из тамошних людей дал ему миску холодной каши, кусок дрянного хлеба и квасу запить. Квас был такой же, как хлеб. Но Авласка был крепко голодный, он быстро жадно ел, но все равно при этом думал, что никогда бы не подумал, что его в царских палатах будут кормить такой дрянью.
Но он так только думал, а вслух ничего не сказал. Да у него никто ничего и не спрашивал, и он сидел в том закутке, всеми забытый, и уже было даже начал думать, что он до утра никому не будет нужен.
Но тут опять пришел тот человек, который и привел его туда, и опять велел идти за ним. Они пошли. Шли они не очень долго, но очень хитрым ходом, то есть то вверх, то вниз по лесенкам, и из сеней в сени, и из светлиц в светлицы, пока не дошли до такой двери, возле которой стояли двое дюжих молодцов в высоких черных шапках и с бердышами на плечах. Тут они остановились, тот сильно простой человек что-то быстро сказал молодцам, что – непонятно, но молодцы на это сразу расступились и тот человек и Авласка (тот человек толкнул ту дверь) вошли туда.
А там было очень светло! Там же кругом были свечи! Их, может, было сорок штук, и все толстенные, и все ярко горели! И в этом ярком свете Авласка увидал перед собой (напротив) стол, а за ним сидели какие-то важные люди, и их было больше десятка. Как на иконе, подумал Авласка, он такую в церкви видел, подумал он дальше, а сам в это время продолжал смотреть на тех людей…
Но тут тот человек, который ввел его, теперь схватил его за шиворот и со словами «пес, пес» ткнул его мордой в пол. Только тогда Авласка спохватился и запричитал: «Царь, государь, отец родной, спаситель!», а после замолчал и замер, но головы уже не поднимал, не смел. А те за столом все молчали. И тот человек, который его ввел сюда, тоже молчал. Потом вдруг кто-то тихим голосом сказал:
– Ты кто такой?
Авласка поднял голову и опять, теперь уж неспешно, посмотрел на тот стол. Там и вправду сидели очень важные люди, бояре конечно, и среди них Годунов, этот сидел почти посередине, а рядом с ним сидел царь. Царя Авласка сразу узнал, и это было очень просто, потому что бояре все были простоволосые, без шапок, а царь сидел в шапке. Шапка у него была вся в алмазах и так и сверкала, а сверху на ней был крест, тоже весь в каменьях. А сам царь из себя был вот какой: щечки кругленькие, сытые, бородка редкая и стриженная коротко, губки сложены кротко, в улыбку, а глаза блестят. Это от слез, понял Авласка, это ему уже сказали, что его младшего братца убили, и он по нему скорбит…
И тут царь опять тихо спросил:
– Ты кто, пес, такой?
Авласка назвался. Тогда царь спросил, откуда он, и Авласка сказал, что он из Углича и что послал его сюда их губной староста Иван Муранов сказать, что злые люди убили государева братца Димитрия.
Вот так прямо и сказал: убили! Государь, услышав это, вздрогнул и посмотрел на Годунова. Годунов нахмурился и быстро глянул на Авласку, а после как бы осмотрел других бояр, но все они молчали и вообще как будто ничего не слышали. Тогда он (Годунов) опять посмотрел на Авласку, теперь уже неспешно, и так же неспешно спросил:
– Убили? Кто это?
– Я не знаю, – ответил Авласка, а сам весь похолодел от страха. Вот как Годунов умел смотреть! И он еще тут же спросил, опять неспешно:
– А если не знаешь, тогда чего мелешь?
Авласке стало совсем страшно. И он от страха же и брякнул:
– А я не мелю! А мне так сказали.
– Кто? – грозно спросил Годунов.
Эх, горько подумал Авласка, сказать, что не знаю, тогда здесь убьют, а сказать, что Муранов, тогда убьют там. И от этого сказал:
– Как кто?! Да Битяговский, кто еще!
– А! – громко сказал Годунов и сразу встал из-за стола. А все остальные бояре стали между собой переглядываться, но это тоже опять молча. Битяговский! Кто его не знал! А Годунов смотрел на Авласку и, кажется, сожрал бы его сразу, вот какие были у него глаза! А вслух он тоже ничего не говорил, как и бояре. Тогда царь похлопал глазами, а у него ресницы были вот такущие, а после спросил:
– Это Мишка Битяговский, что ли?
Авласка кивнул. Государь посмотрел на Годунова. Годунов на это только усмехнулся, опять повернулся к Авласке и сказал уже вот что:
– Юлишь ты, пес. Ох, юлишь! Ты же мне только что как рассказывал? Что ничего не знаешь! Что сидел у себя и обедал, и вдруг бьют в набат. Так ты был там или нет? Видел, где кого убили? А если не видел, то чего ты мелешь?! – продолжал он уже совсем громко.
Авласке стало холодно. Он перекрестился и сказал:
– Вот как Бог свят! Ничего я не видел! Ванька Муранов пришел и сказал: убили нашего заступника, скачи, пес, в Москву и скажи государю, пусть пришлет стрельцов и пусть стрельцы ищут злодея!
– Какого злодея? – спросил Годунов, и это уже улыбаясь. – Ты же сказал, что убил Битяговский, так что его тогда искать?!
Сказал и даже подмигнул с улыбочкой. Авласку как огнем ожгло! И он сказал будто раздумчиво:
– Ну, Битяговский или кто, кто знает! Я там не был. И Муранов говорил, что не был. Он говорил, что ему так сказали. А дальше сказал, что кто знает! Может, сказал, и не убили, а может, сам убился. И после сказал: а ты скачи в Москву, Авласка, скажи государю, государь сам разберется, это же его младший любимый брат, он же брата не оставит.
Сказал и выдохнул. И незаметно, меленько перекрестился. И также глянул на тех за столом. Те молчали. Государь опять моргал глазами. Потом вдруг сказал:
– Как убился! Сам, что ли?
– Сам! – отчаянно сказал Авласка.
Годунов молчал, смотрел как каменный. Государь опять спросил:
– Как сам?
– Ну, я не знаю, я там не был, – осторожно ответил Авласка. – Не видел. Но мало ли! Может, упал на нож и накололся насмерть.
– Отчего это упал? – тут же быстро спросил Годунов, и это почти что со смехом. И так же со смехом добавил: – Он что, пьян, что ли, был?
– Зачем пьян? – сказал Авласка. – А мог просто упасть. От падучей.
– Падучей! – сказал кто-то за столом, а кто, Авласка не успел заметить.
А государь тихо сказал:
– Какой падучей?
– Ну! – только и сказал Авласка и даже поднял руки, но и тут же опустил.
И все молчали. Молчали они очень страшно. Тогда Авласка облизал губы раз, два, а потом опять стал говорить:
– А, может, и не убился совсем. Может, Муранов напутал. И в набат ударили тоже напутавши. Потому что мало ли кого убили! Там же, вы бы только видели, сколько их там, малышья этого, по двору бегает! Ему же было скучно одному, и их же там набрали вон сколько! Бывало, придешь, а их там как татарвы, и он у них коногоном. Так что могли и не его убить, а по ошибке другого. А он увидел такое и спрятался. Он же смышленый был, ого! А эти дурни – в набат! А Муранов, тоже дурень, ко мне. И меня к вам. А он жив, здоров, на крылечке сидит, орешки щелкает и скорлупой на нас поплевывает.
– Э! – грозно сказал Годунов. Авласка сразу замолчал. Годунов спросил:
– А почему орешки?
– А он до них очень охоч, – сказал Авласка.
Годунов пожал плечами и посмотрел на государя. Государь улыбнулся и сказал:
– Шутовство какое-то. – После чего посмотрел на Авласку, потом опять на Годунова и продолжил: – Но и оставлять это нельзя. Поэтому вот что, Борис. Ты, Борис, поручи это кому надежному. Вот хоть бы… – И тут он посмотрел сперва направо от себя, после налево, а после сказал: – А вот хоть тебе, Василий. – И указал, на какого из них, потому что там был не один Василий.
Тот, на кого указал государь, встал за столом. Это был еще совсем не старый человек, сам из себя сухой, высокий и лицом такой же долголицый. И не было на том лице никакой радости, а была одна печаль. И так же с печалью он сказал:
– Как прикажешь, государь.
Вот что сказал тогда Василий Шуйский, а это был он, как после узнал Авласка.
А тогда сразу он там уже ничего не узнал и ничего не сказал, потому что государь вдруг отвернулся от Шуйского и опять посмотрел на него, на Авласку, и сделал рукой от себя. Теперь уже Авласке объяснять было не надо, что он теперь должен делать, а он сразу сам вскочил с колен и задом-задом вышел из той горницы, а тот человек, к нему приставленный, быстро пошел за ним. И дверь сама собой сперва перед ними открылась, а после так же закрылась.
А дальше было так: тот человек опять повел Авласку, но теперь уже совсем не далеко, а только вниз по лесенке, а там запихнул в какой-то темный чулан и сразу замкнул его.
В чулане было пусто, была только одна голая лавка при одной стене да в самом вверху окошко в ладошку. В окошке была тьма. Авласка лег на лавку и очень крепко закручинился. Эх, думал он, чего это он так перепугался и намолол чего ни попадя. Надо было правду говорить! А теперь ему несдобровать, думал Авласка дальше, не выбраться ему отсюда, и зачем он только сюда ехал, ведь мог же не ехать! Да только что теперь! И Авласка перестал кручиниться, а перелег на спину, закрыл глаза и стал вспоминать все молитвы, какие он знал, и их тихонько вслух читать. Но таких молитв отказалось немного, и Авласка вскоре замолчал. Но молчать было еще страшней, и он стал читать молитвы заново. А после еще раз. А после еще.
Но только когда в окошке начало виднеть, вдруг резко открылась дверь (а Авласка вскочил с лавки, а то он дремал) и в чулан вошли почти целой толпой дьяк, за ним его подьячий, за ними стрелец с огнем, после еще стрелец, этот уже с пищалью, и еще какой-то служка непонятно для чего. Авласка стоял не шевелясь и только глазами зыркал. А дьяк, очень важный с виду, может даже думный дьяк, велел стрельцу с огнем выйти вперед и посветить как следует. Стрелец вышел и стал светить Авласке прямо в глаза. А дьяк еще сказал:
– Не щурься!
Авласка стал не щуриться.
– Га, хорош! – сказал дьяк насмешливым голосом. – Я так и думал, что вор! – После чего велел встать в угол и указал, в какой. Авласка встал туда. А думный дьяк сел на лавку, рядом с ним сел подьячий и положил дощечку на колени, а на дощечку бумагу и приготовился записывать. Авласке стало жарко-жарко, и он стал про себя молиться Богородице.
Но домолиться не успел, потому что думный дьяк стал спрашивать. Спросил, как его звать, и Авласка ответил. После ответил, сколько ему лет, и где живет, и где служит, и сколько у него детей, и что его раньше не судили.
– Га! – сказал думный дьяк весело. – Не судили, а теперь засудим! – И продолжал уже без смеха: – Слушай внимательно, Влас, потому что это про тебя: за небрежения в службе и за лживые речи твои, а особливо за поносные слова на его братца, это про орешки, государь велел тебя казнить: сперва отрубить ноги, после руки, после голову, а после вынести все это на задний двор и бросить псам на съедение!
Вот так! Авласка молчал и только чуял, как у него по лбу течет холодный пот, но утираться не смел. Тогда думный дьяк усмехнулся и продолжал уже не так свирепо:
– Но государь, Влас, милостив, и он сказал: спросите у него, у вора этого, как оно было на самом деле, и если правду скажет, то отрубите только ноги, и то только по колени, а руки и голову велел не трогать.
Вот что сказал думный дьяк! А после глаза прищурил и спросил:
– Ну, что, будешь признаваться?
Авласка тихо сказал:
– Буду. – И попросил воды. Служка сбегал за водой. Авласка выпил, облизался и начал рассказывать. И рассказал теперь вот что:
– В ту ночь перед всем этим у нашего младшенького зубки резались и он орал неумолчно и мы глаз до утра не сомкнули. А после я ходил на службу, и там тоже было много мороки. А после я пошел домой обедать. И вот когда я уже дообедывал, в кремле ударили в набат. Жена перепугалась, спрашивает: что это? А я говорю: пожар, наверное, и дальше ем. А там в кремле били, били, а после стали бить везде, уже и на посаде. А я, был грех, даже в окно не выглянул, а дообедал, лег и сказал не будить. Потому что я же ночь до этого не спал! Но и тогда, днем, когда били в набат, тоже было не заснуть никак. Эх, думал я, когда ворочался, как же там крепко горит, наверное, а не вставал. Но после думаю: нет, так не годится, потому что так все равно не заснуть, а только после будут меня жрать за то, что не пришел. И тогда я встал и вышел. А набат уже почти затих. Я шел к кремлю и не спешил и думал, что, может, зря иду, может, там уже все потушили, да и дымов нет нигде, может, повернуть обратно? Но нет, вижу, все идут к кремлю, и все даже бегут! Это было видно впереди, я же живу почти что на самом конце Богоявленки, а это почти при Московской дороге. А кремль вон где, на берегу, у Волги. И я иду. И вдруг вижу: скачет мне навстречу наш губной целовальник Никитка Черныш на мурановской кобыле Клуше. А Муранов – это наш губной староста. А Никитка на его кобыле. Что такое?! Это я так тогда подумал. А Никитка уже подскакал, остановился и говорит дурным голосом: Влас, тебя мне сам Бог послал! Тебя, говорит, Муранов ищет! А сам с кобылы спрыгивает. И еще сует мне повод и говорит дальше, аж захлебывается: Муранов говорил, чтоб я нашел тебя и передал, чтоб ты живо скакал в Москву, Авласка, и рассказал там государю все как есть, что у нас здесь приключилось! И уже кричит: садись! И вот так кулаком замахнулся! И я оробел и сел, и уже только тогда спросил, что случилось. Великая беда, сказал Никитка, убили нашего царевича, вот что. И еще в сердцах сказал: зарезали! Как, кто? – спросил я. Кабы кто знал, сказал Никитка, там же такая замятня сейчас! Народ кинулся искать, кого убить в отместку! И уже кого-то, говорят, убили. И прибавил: эх, Авласка, счастье-то тебе какое привалило, тебе теперь вон куда, в Москву, а мне здесь оставайся и, может, самого сейчас убьют, народ же зверь! И опять грозно сказал: гони! И я не сдержался и погнал. И так гнал до самой Москвы.
– На той же Клуше? – спросил думный дьяк.
– Нет, – сказал Авласка, – куда ей, три раза лошадей менял, низкий поклон добрым людям.
Думный дьяк кивнул на это, как бы соглашаясь, а после спросил:
– А почему ты прежде говорил на Битяговского, а теперь уже не говоришь? Что, наговаривал тогда, при государе?
Авласка помолчал, после сказал:
– Не наговаривал. А это просто Никитка сказал, а я сейчас забыл прибавить, что люди в кремле говорили, что это Битяговские зарезали: старший за руки царевича держал, а младший бил ножом. Но, – тут же прибавил Авласка, – Никитка сказал, что это только такой слух, потому что кто-то же зарезал!
– А что, он зарезанный был? – спросил думный дьяк.
Авласка помолчал, поморщился, потом сказал:
– Я этого не знаю. Я, боярин, тогда крепко напугался. И я ехать не хотел, а это все Никитка напутал.
На что думный дьяк усмехнулся и сказал:
– Да, верно, это же ему ехать надо было, ему, чую, Муранов это приказал, а он тебя, дурня, послал вместо себя, а ты, дурень поехал.
– Да как же так! – громко сказал Авласка. – Не вели меня казнить, боярин, да я государя нашего больше чем отца родного почитаю, да пусть он мне не только ноги рубит, да пусть, боярин…
Но тут думный дьяк махнул рукой, Авласка сразу замолчал, после чего думный дьяк продолжил уже вот как:
– Я не боярин, а я думный дьяк. Думный я потому, что сижу в думе. Выше меня сидит царь, ниже меня – бояре. Если бояре что-нибудь хотят сказать царю, то сперва говорят мне, а уже я передаю наверх. И так же царь, когда хочет сказать боярам, то сперва говорит мне, а я уже после говорю боярам, которые сидят ниже меня. Все ниже! А ты мне: боярин, боярин!
Авласка молчал. Тогда думный дьяк продолжил уже вот как:
– Но нам теперь не до бояр. А вот что слушай: государь мне тебя поручил и сказал, что если у меня нет в этом такой спешной надобности, то ноги тебе можно не рубить пока что, а сперва отвезти тебя обратно в Углич и там на месте проверить, лживы были твои слова или нет. И вот мы теперь туда и поедем. И это прямо сейчас!
После чего он встал с лавки и сразу пошел к двери. И все, и Авласка с ними, пошли за ним следом.
2
Но так сразу уехать им не получилось, потому что, когда они только вышли из палат во двор (через заднее крыльцо, конечно), их там уже поджидали. То есть поджидал всего один какой-то человек. Но все равно думный дьяк (а это был Вылузгин Елизарий, так и будем его дальше называть) при его виде сразу очень сильно помрачнел, велел всем стоять, а сам прошел дальше вперед и громко спросил:
– Чего тебе?
Тот человек ему не очень низко поклонился и быстро сказал что-то негромкое и краткое. Вылузгин сразу сменился в лице, взял того человека под локоть, они отошли в сторонку и начали чуть слышно переговариваться. А после тот ушел, а Вылузгин вернулся и будто бы веселым голосом сказал Авласке:
– Свезло тебе, злодей, бояре еще совещаются, что с тобой делать, так что еще маленько поживешь! – После чего повернулся к стрельцам и уже очень серьезно продолжил: – Смотрите за ним зорко, ироды, а я сейчас буду обратно! – И ушел.
И пропал до самого полудня. Стрельцы стояли, а Авласка сидел. Стрельцы вначале были очень злы и говорили, что не сносить ему головы, и смеялись, и говорили дальше, что и угличским всем тоже не сносить, потому что это же где такое было видано, чтобы дали убить царевича, царского братца! И еще много другого гадкого они говорили, стращали, как только могли, а Авласка знай себе помалкивал. Эх, думал он при этом, прав был думный дьяк: обманул его Никитка, это Никитку послали в Москву, а он его, дурня, увидел и послал вместо себя, а он, дурень, согласился и поехал! А теперь, думал Авласка дальше, вернется он обратно в Углич или нет – это еще неизвестно, потому что мало ли что думный дьяк сказал, что надо ехать, а вот не поехали, передумали бояре, вот что, или даже Годунов сказал: убили, вот как славно, давно я ждал, когда его убьют, и вот наконец убили! А что, думал еще Авласка, у них в Угличе многие так про него говорили, случалось… Ну, и так далее еще немало чего думалось, а вслух Авласка молчал и на стрелецкие речи ни одного словечка не ответил. И даже когда они перестали стращать, потому что самим надоело, а сели с ним рядом и стали, уже с лаской, на разные лады у него выспрашивать, что же у них там такое случилось и как такое могло быть, Авласка опять по большей части помалкивал, и только если уже особенно сильно они на него наседали, то неизменно отвечал, что ничего толком не знает, а что он и в самом деле сидел дома и обедал, а после лежал и подремывал, а после велели ему ехать – и он поехал. Но стрельцы ему, было видно, не верили. А время шло! А день был жаркий. А они сидели на задах царских хором, рядом с хлебным дворцом (не дворцом, конечно, а амбаром, но у царей всё дворцы) и уже больше молчали и просто смотрели через реку на цветущий государев сад, а дальше за ним были видны дома, дома, дома до самого края, казалось, земли. Вот какой здоровущий был город Москва!
А потом, когда уже обедня кончилась и уже полдень отзвонили, вернулся Вылузгин. Он опять был как будто веселый и сказал, что их дело сделалось и им уже даже дали лошадей, и сказал идти за ним. Они (а это Авласка со стрельцами) пошли за ним. Но там, в еще одном дворе уже между другими дворцами, кормовым и сытным, то есть возле государевых конюшен, они опять ждали, Вылузгин куда-то уходил и приходил обратно, гневался, после смеялся, после опять гневался и уходил… А после, когда солнце уже заметно опустилось, то есть уже часа через три пополудни, он опять к ним пришел и как ни в чем не бывало сказал, что давно пора садиться, чего они ждут! И еще раз повел их дальше, теперь уже близко, за угол, и оказалось, что там и в самом деле уже все в сборе и только их и ждут.
А в сборе это были вот кто: сказанный боярин Шуйский Василий Иванович со своими людьми, и окольничий Клешнин Андрей Петрович со своими, и Сарский и Подонский митрополит Геласий со своими чернецами тоже, то есть вот их было сколько! Да, и еще стрелецкий голова Иван Засецкий со своими же, и эти тоже конные. Но Авласка их тогда не знал почти что никого, и поэтому когда он их всех сразу вместе увидел, то очень крепко оробел.
Но долго ему робеть не дали, а велели садиться, он сел, впереди задудели в рожки, и они все вместе тронулись. И уже проехали шагов с десятка два, как впереди вдруг затолпились, затеснились, а после совсем встали. Это, как позже объяснилось, Шуйский вдруг остановился, осмотрелся и спросил:
– А где Косой?
– Какой Косой? – спросили у него.
– Как какой! – гневно воскликнул Шуйский. – Тот самый, вот какой!
И, сказав это, еще раз оглянулся и даже привстал в стременах. И тут как раз из-за угла вышел обычный человек, одетый очень просто, увидел их и повернул в их сторону и быстро пошел, почти что побежал их догонять.
– О! – сказал Шуйский. – Это он! – И отвернулся, и тронул коня, и они все поехали дальше.
И тот, который их догнал, тоже поехал. У них же коней был достаток, ему дали пегого, сказали, что это Мухрышка, и он поехал вместе с ними. Зовут его Маркел, он так сказал, а больше никто ничего у него не спрашивал, и он ехал в общей толчее, держался людей Шуйского, и понапрасну рта не разевал совсем.
Да, и еще: он был никакой не косой, а смотрел прямо и ясно, и мог смотреть долго, и при этом глаз совсем не отводил, и они у него не косили. Просто когда он смотрел, то почему-то было непонятно, он смотрит только на тебя или еще куда-нибудь. Вот такой у него был необычный взгляд! И, наверное, поэтому Шуйский (от других, конечно, слыша) назвал его Косым. И еще почему-то очень беспокоился, почему он не идет. Зато когда он пришел, Шуйский сразу отвернулся и после, сколько они в тот день ни ехали, ни разу на него не обернулся. И это, думал Маркел, хорошо, и на глаза боярину не лез, то есть вперед не выезжал и, не приведи Господь, не кланялся, а скромно ехал сзади в толчее, как об этом уже говорилось. И сам, как и вокруг него все остальные, помалкивал. А если кто и заводил где разговор (только вполголоса, конечно), Маркел к нему не прислушивался. Потому что он и без того всё знал! То есть знал он и историю Авласки, как будто тот ее сам ему поведал, и даже знал, почему они так поздно собрались в дорогу. Это, как ему сказал один знающий человек, случилось из-за того, что Шуйский бы поехал сразу, и даже когда ему сказали, что ему дают в подмогу Вылузгина, он и на Вылузгина тоже сразу согласился. Но тут ему еще прибавили, то есть передали от Годунова, что ему надо еще взять с собой князя Туренина. Тогда Шуйский сказал: не поеду, кто он такой – Туренин, для меня это бесчестье. Тогда ему сказали: ну, тогда бери или кого из Сабуровых, или кого из Вельяминовых. А те и другие, равно как и князь Туренин, были люди Годунова. И Шуйский, больше ничего не говоря, собрался и уехал, он сказал, к себе домой обедать. То есть в Китай, в Подкопаево. И как уехал, и как пообедал, так после там же и лег отдохнуть по древнему обычаю. А время шло! Тогда к нему приехал сам Туренин, тот самый, и сказал:
– Не заносись, Василий, тебя по добру просят, не жди, когда будут просить иначе, и я не за себя прошу, потому что не хочешь меня, так пусть тогда едет Клешнин.
– Андрей? – спросил Шуйский.
– Андрей, – сказал Туренин, – государь за Андрея просил, или ты и государя не уважишь?
Андрей Клешнин был дядька, воспитатель государев, государь его с юных лет крепко жаловал, Клешнин был человек государев и только уже после годуновский. Шуйский подумал и сказал, что с Клешниным он поедет. И стал собираться.
А вот теперь они уже все вместе, то есть Шуйский, Клешнин и Вылузгин, все со своими людьми, и митрополит со своими, и Иван Засецкий со стрельцами, подъезжали уже к Сретенским воротам и на них со всех сторон смотрел народ и понимающе помалкивал. Эх, думал Маркел, а ведь они все уже знают, что царевича зарезали, и если даже им теперь хоть кто любой скажи, что не зарезали, а сам зарезался, ведь не поверят же!
Но это он так только думал, а вслух ни словечка не сказал. И вот они уже выехали из Москвы и, всё быстрей и быстрей, поехали по Переяславской ямской дороге, и всё это молча. Только порой вдруг кто поругивался, когда вдруг конь оступался, если попадал в колдобину. А колдобин было много, это верно. А все они были конные, и только один митрополит ехал в возке. Когда возок застревал, его скопом толкали. Шуйский каждый раз на это гневался, потому что он очень спешил и говорил, что они будут хоть всю ночь ехать, а остановятся только в Александровой Слободе. В Александровой, ого, думал Маркел, погоняя Мухрышку, да чтобы до нее доехать, тебе, боярин, надо было сразу соглашаться на Туренина и тогда же сразу выезжать!
Но это он, опять же, так только думал, а вслух помалкивал. И гнал Мухрышку, гнал. Мухрышка был уже весь в пене, а бежал и не отставал от других. Хоть у всех других были сменные кони, а то и по два, и они их меняли, а Маркел гнал Мухрышку и гнал, уже стемнело, а после стало совсем темно, а Шуйский знай себе порыкивал: гони, гони! И гнали.
Но все равно не по Шуйскому, а по-людски, как говорится, вышло. То есть вдруг Клешнин взмолился, что у него схватило спину и он не может больше ехать, и тогда Шуйский его пожалел и велел сворачивать к ночлегу, тем более что они тогда как раз были уже невдалеке от Троицкой Лавры.
Когда они туда, к Лавре, подъехали, время было уже совсем позднее, почти что полночь, отец настоятель (Киприан) давно уже спал, но всё равно их, то есть Шуйского и всех его людей, а особенно митрополита, встретили с великим почетом – провели всех сразу в трапезную и там им нашелся перекус на скорую руку, но сытно, а после Шуйский и его советчики (Клешнин и Вылузгин) и митрополит Гелассий были проведены в отдельные палаты, а всех остальных определили в малый братский корпус на нижний этаж, то есть туда, где обычно принимают простых богомольцев. И там всех начали селить по кельям.
А Маркел не стал селиться. Маркелу и спать не хотелось, и, что еще важней, ему очень хотелось проведать Авласку и с ним поговорить, поспрашивать его о том о сем. А то, думал, что это ему чужие пересказы!
Но Авласку сторожили строго! Возле него весь день (в дороге) всегда были стрельцы, хотя бы двое. А тут, когда Маркел к нему подошел, возле него еще оказался и сам стрелецкий голова Иван Засецкий. И этот Засецкий сразу сделал вот что: сперва одной (левой) рукой сделал знак своим людям, чтобы они живо убрали Авласку с глаз долой, а после второй приветливо махнул Маркелу и тут же сказал:
– О! А я тебя знаю! Тебя Маркелом звать.
– Угадал, – сказал Маркел безо всякой радости.
– И я тебя за Камнем видел! – продолжал стрелецкий голова. И тут же спросил: – Помнишь меня?
– Я? – спросил Маркел как будто очень удивленно. – За Камнем! Вон куда хватил! Нет, я там не был.
Стрелецкий голова обиделся, нахмурился, еще раз осмотрел Маркела и сказал:
– Нет, видел!
На что Маркел только хмыкнул.
– Ладно! – сказал стрелецкий голова. – Не хочешь говорить, не надо. Да, может, тебе и нельзя. – После чего, и уже не сердито, спросил: – А здесь ты чего делаешь? Ты теперь чей?
– Я, – ответил Маркел, усмехаясь, – ничей.
– Э! – сказал стрелецкий голова. – Ничьих на свете не бывает!
И замолчал, и осмотрелся. Никого рядом с ними не было, и была ночь, и они стояли на крыльце. Стрелецкий голова еще раз осмотрелся, а после сел прямо на верхнюю ступеньку и снизу вверх посмотрел на Маркела. Тогда сел и Маркел. Стрелецкий голова еще раз осмотрел его, усмехнулся и сказал с большим значением:
– Служба!
Маркел кивнул. Стрелецкий голова спросил:
– Небось, хотел Авласку допросить?
– А что его допрашивать, – сказал Маркел, – он и так уже всё рассказал.
– Да, это верно, – сказал стрелецкий голова. – Да и чего он знал?! – сказал он дальше. После чего еще раз осмотрелся и сказал уже чуть слышным голосом: – Второй гонец знал много больше!
– Второй? А что он знал? – спросил Маркел.
– Скоро узнаешь! – сказал стрелецкий голова и усмехнулся.
– Га! – насмешливо сказал Маркел, этим давая знать, что он не верит.
– Га! – повторил стрелецкий голова очень сердито. И так же сердито, но тихо добавил: – Что царевич! Горькое дитя! А вот царева дьяка убили, вот что!
– О! – только и сказал Маркел.
А стрелецкий голова еще быстро добавил:
– И двоих подьячих! И губного старосту! И мамку-кормилицу! И дядю, Афанасия Нагого! И еще пятьдесят человек!
– Ну! – громко воскликнул Маркел.
– Вот и не ну! – передразнил его стрелецкий голова свистящим шепотом. – Убили и в ров побросали. Вот так! И еще дали знать в Ярославль, и там тогда убили еще больше! А завтра будут бить в Москве! Попомни мое слово!
Маркел не удержался, хмыкнул и еще прибавил:
– Тогда куда мы едем? Надо было в Москве оставаться!
– В Москве, – сказал стрелецкий голова, – и без нас силы достаточно. В Москве им быстро рога обломают. А зато ни в Угличе, ни в Ярославле нет никого наших! Или ты думаешь, что меня просто так с вами послали? А мой брат?!
– А что твой брат?! – спросил Маркел.
– А брат еще утром ушел, – сказал стрелецкий голова. – Мой родной брат, Тимофей. И с ним тоже сотня! Смекаешь? Брат уже, может, там!
Маркел задумался, после принюхался. От стрелецкого головы шел крепкий медовый дух. Маркел еще принюхался, и это уже не таясь. Стрелецкий голова обиделся, встал и в сердцах сказал:
– Дурень ты, Маркел, ох, дурень! За Камнем ты был поумней! – И развернулся, и ушел в дом.
И стало тихо. Маркел сидел на ступеньках и смотрел в небо. Небо было чистое, звездное. Звезды держались крепко, ни одна из них не падала. А еще Маркел думал над словами стрелецкого головы о том, что в Угличе и Ярославле бунт и там много людей побито. Верить такому или нет, думал Маркел дальше. Стрелецкий голова не врет, конечно, что ему сказали, то он ему и передал. А почему вдруг передал? Да потому что невтерпеж с таким ходить, когда никто кроме него не знает, может, даже Шуйский тоже, потому что гонец был не царский, а годуновский, конечно, у Годунова же сейчас вся сила! Ну да и ладно Годунов, в сердцах дальше подумал Маркел, а вот стрелецкий голова какой прилипчивый! Он его за Камнем видел! Ну и что?! За Камнем теперь тоже наше царство!..
Подумав так, Маркел поморщился. Не любил он вспоминать о том, где он бывал раньше и что где и кого видел. И он опять стал смотреть в небо и думать уже вот что: как хорошо здесь, в Троице, тишина и благолепие, хорошо, что дальше не поехали, потому что в Александровой Слободе им так хорошо бы не было. Эх, вспомнил давнее Маркел, бывал он и в Слободе, и бывал не раз, а теперь перекрестился и не хотел, а все равно вспомнил дальше, как спустили на него медведя и он от него чуть отбился, а царь смеялся и плескал в ладошки, как дитя. Царь, еще раз подумал Маркел, покойный царь, когда он умер и отнесли его в собор, все они тогда жарко молились, как бы он вдруг не ожил. Вот где был страх так страх! Маркел даже мотнул головой, чтобы больше об этом не думать…
Но покойный царь его не отпускал! Тогда Маркел резко встал, повернулся к куполам собора и широко на них перекрестился, прочел Отче наш, еще раз перекрестился, развернулся и пошел обратно в корпус, в сенях на ощупь, как слепой, нашел ведро и ковш, напился и так же в полных потемках пошел дальше. Шел на храп. На храп же нашел дверь, а дальше, где лежали на соломе плотно, как поленья, протиснулся как мог и растолкал где мог, после лег на спину, зажмурился (теперь храп был со всех сторон) и в больших сердцах подумал: при царе Иване так крепко не спали, разбаловался народ! И, еще раз перекрестившись, опять стал думать о стрелецком голове и о его словах – и мало-помалу заснул.
Следующий день прошел быстрее, даже правильнее, проскакал, потому что рассказывать о нем почти что нечего. Утром встали на заре, перекусили и двинулись, точнее, поскакали дальше. Мухрышка стал прихрамывать, Маркелу стало его жаль, и на первой же остановке он подошел к дяде Игнату (так его все звали) и сказал, что ему нужен подменный конь.
– Ты кто такой?! – начал было выговаривать ему дядя Игнат…
Но потом вдруг, надо думать, вспомнил, что Маркел – это тот самый человек, из-за которого сам Шуйский вчера всех останавливал и ждал, и велел дать Маркелу коня. Теперь это был Птенчик. На Птенчике и на Мухрышке в переменку ехать стало много лучше.
После, и очень вскоре, они проехали Александрову Слободу. Теперь это, подумал Маркел, была совсем другая Слобода, не то что при покойном царе, теперь даже ее почти что не было, а были одни пустые дома и такие же пустые царевы хоромы. В Слободе они остановились только чтоб воды испить, как говорится, и сразу поехали дальше. И еще: в Слободе Шуйский у тамошних спрашивал (все это слышали), нет ли у них каких известий из Углича, и те сказали, что нет. И Шуйский и все остальные поехали дальше.
В Переяславле они были ближе к вечеру. Там их встречал уже сам тамошний воевода Иван Сицкий. Его же велением там были прямо на его воеводском дворе расставлены столы, и они все там быстро, на скорую руку, перекусывали. Шуйский, было видно, опять спрашивал, нет ли каких новых известий из Углича, и Сицкий ему на это что-то отвечал. Но что – неизвестно. И только уже после перекуса, когда они опять поскакали, коней не щадя, по рядам пошел слух, что Сицкий Шуйскому сказал, что наши стрельцы проехали на Углич еще утром.
– Что за стрельцы? – спросил Маркел.
– Да Тимошкины, – сказал подьячий Яков, с которым Маркел ехал рядом, – брата нашего Ивана, они вместе служат.
– Ага, ага, – сказал в ответ Маркел, а сам подумал, что стрелецкий голова и в самом деле не врал, он так и думал, так что вполне возможно, что в Угличе и в Ярославе вправду бунт, вот тогда будет забот и суеты! Но так он только подумал, а вслух, как всегда, ничего не сказал.
А там вскоре и совсем стемнело и они остановились. Ночевали они тогда почти что в чистом поле, потому что там была деревня из всего пяти дворов, места на всех не хватило, конечно, а только Шуйскому, его советчикам и их ближней дворне. А Маркел тогда пристроился на сеновале (почти что пустом, потому что был уже май месяц) вместе с тем самым Яковом, подьячим Поместного приказа, то есть человеком Вылузгина, и еще тремя другими такими же подьячими, приятелями сказанного Якова. Перекус был так себе. Но зато выпили! Поэтому когда легли, то не сразу заснули, а сперва завели пустой разговор о том да о сем, и чуялось, как они все мнутся и языкам воли не дают, потому что не знают, кто такой Маркел и что он здесь делает, а спрашивать его об этом не решаются.
Но после все же спросили! На что Маркел, усмехнувшись (а в темноте этого видно не было), ответил, что он княжий едчик, то есть еду пробует, если князь в ней отраву чует. Они такому не поверили, один из них даже спросил:
– А почему князь тебя сейчас к себе не спрашивает, почему ты сейчас здесь сидишь, когда князь за столом? А вдруг там кто дурное что задумает?!
– Значит, не задумает, – сказал Маркел. – Не чует князь отравы, вот и не зовет меня.
– А если позовет? – спросили.
– Тогда, – сказал Маркел, – пойду и на что укажут, того и отведаю.
– А если, – спросили, – там отрава?
– Ну что ж, – сказал Маркел, уже не усмехаясь, – мы к этому привычные, в брюхе поскворчит, поколет и отпустит.
– И всегда отпускает? – спросили.
– Почти всегда, – сказал Маркел. – Мы же, – повторил, – с детства привычные, мне хоть сейчас дай толченый мухомор – и я его съем. И поганку тоже съем, дай поганку.
Но ни мухоморов, ни поганок у них не было, и поэтому тогда один из них спросил:
– А если совсем крепкий яд, тогда что?
– Тогда мы тоже крепкие, – сказал Маркел. – У нас такая порода, нас яд не берет. – А после, помолчав, всё же прибавил: – Но случается, конечно, всякое. Тот, который до меня служил, дядя Трофим его звали, прослужил пятнадцать лет и только после помер. А я еще только восемь лет служу, значит, мне еще семь лет до сроку. А это еще ого! – И хмыкнул.
А эти не хмыкали, просто молчали. Маркел тоже молчал. Но эти ничего уже больше у него не стали спрашивать, а только, было слышно, о чем-то между собой пошушукались. А после затихли. А после и совсем заснули. И так же сделал и Маркел.
Утром они все вместе дружно встали и, не поминая вчерашнего, перекусили (все смотрели, как он перекусывает) и поскакали дальше. И так, с малыми остановками, они скакали до полудня. В полдень им навстречу прискакал конный стрелец (из тех, которые выехали раньше), Шуйский его встретил, выслушал, а после повернулся к остальным и, уже не скрывая, сказал, что в Угличе был бунт, убили государева разрядного дьяка Михаила Битяговского, а с ним еще пятнадцать душ, всё верных царских слуг, но мы им ужо сейчас покажем! И они все вместе поскакали дальше. И скакали так до вечера.
А вечером, уже почти перед самым закатом, может, за час, ну, за два до него, в полуверсте от сказанного Углича, на ямской переяславской дороге, они увидели большущую толпу народа, а впереди троих конных бояр, а сбоку сотню стрельцов, уже пеших, но всех с пищалями почти наизготовку. Га, подумал Маркел, как забавно!
3
Но никакой забавы дальше не было. А было вот что: в толпе вдруг задудели в рога, забухали в бубны, и всё это очень громко, а от города, и это еще громче, начали звонить в колокола. У них там очень складно получалось: сперва одни частили меленько: «Кто там? Кто там?», а после другие сердито: «Зачем пришли? Зачем пришли?», а после третьи совсем уже грозно: «Каз-нить! Каз-нить!», и опять сначала, и опять! Эх, думал, слушая, Маркел, а ведь так, небось, и будет, и тянул шею, и смотрел вперед, и чем ближе подъезжал, тем лучше видел тех троих бояр и думал, что это, конечно, Нагие, родня вдовой царицы. Двое тех, что помоложе, – это ее братья, Григорий и Михаил, а старший – это кто, думал Маркел, ведь старших Нагих тоже двое, и одного из них, Афанасия, Маркел однажды мельком видел, это когда царь Иван умер и тоже была замятня, и Афанасий был тогда в великой силе и чуть было всех не одолел, а этот, думал Маркел дальше, нет, не тот, а это Андрей Нагой, но тоже царицын дядя. Но рассмотреть его уже не получалось, потому что к тому времени они к ним уже совсем близко подъехали и передние перед Маркелом загородили Нагих шапками. И тут все остановились, и стало еще тесней и хуже видно. Но, правда, Маркел уже успел отъехать в сторону и поэтому его не затеснили и он всё, что хотел, рассмотрел.
А рассмотреть там можно было вот что: когда Шуйский остановился (а с ним и Клешнин, и Вылузгин с митрополитом тоже, и все со своими людьми), Нагие, дядя и племянники, сошли с коней и низко, большим поклоном поклонились, а после старшему из них, Андрею, служки подали хлеб-соль, и Андрей с хлебом-солью выступил, а младшие за ним, навстречу к Шуйскому, и еще раз остановились. Старший Нагой теперь смотрел прямо на Шуйского, а Шуйский смотрел на него, но с коня сходить даже не думал. Старший Нагой держал хлеб-соль и что-то говорил, но слов нельзя было расслышать из-за рогов и бубнов и колоколов, а Шуйский смотрел на Нагого и хмурился. Тогда старший Нагой замолчал и теперь просто держал перед собой хлеб-соль, а молодые Нагие стояли за ним. А за Нагими стояли попы и монахи, а дальше была уже просто толпа всех подряд. А время шло и шло. А колокола опять, уже который раз, звонили: «Кто там, кто там, зачем пришли, зачем пришли…»
И тут Шуйский махнул рукой, и мало-помалу смолкли бубны, затихли рога, а после также и колокола, и стало тихо. И только тогда Шуйский, даже немного вперед наклонившись, через старшего, спросил младших Нагих:
– А где ваша сестра?
Но младшие молчали, а ответил старший:
– А ей неможется. Ведь горе же какое! Ведь же единственный сынок, кровиночка, вот кого она лишилась!
– Лишились! Га! – грозно воскликнул Шуйский, глядя теперь уже только на старшего. – А вы куда смотрели?! Не уберегли!
Старший Нагой на это ничего не ответил. Тогда Шуйский спросил:
– А Афанасий где?






