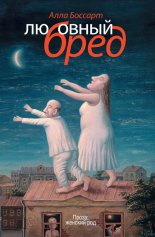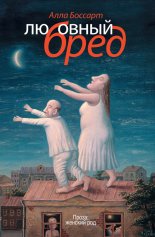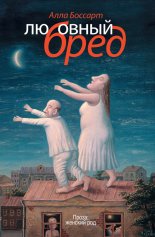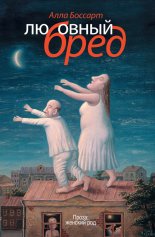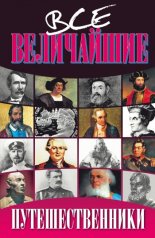Издранное, или Книга для тех, кто не любит читать (сборник) Слаповский Алексей
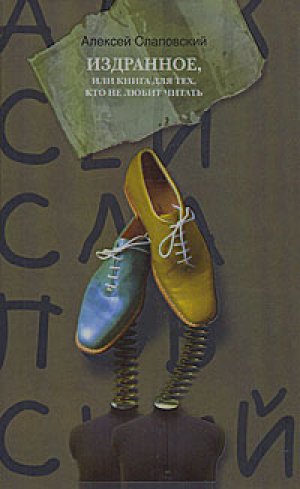
— Позвольте! — очень серьезно сказал ему в таком случае Ячнев, взял под руку и повел в администрацию. — Кто знает этого человека? — спросил он там.
— Ты что, Василь Кириллыч? Это ж Анадырьев, эксплуатационник наш — воскликнули все.
— А вот пусть он подтвердит!
Анадырьев, видя, что от него ждут каких-то объяснений, стал рассказывать о приключившемся с ним непонятном казусе. Сперва раздался хохот. Но скоро все утихли, замолкли, слушали Анадырьева, разиня рты.
— Вот так-то! — веско сказал Ячнев. — И сел за телефон, набрал номер и стал говорить особенным голосом — вроде, не так уж и тихо, но никто ни единого слова не разобрал.
— Выясним! — успокоил присутствующих Ячнев, положив трубку.
Анадырьев забеспокоился. Он переживал, что работа брошена, что без него что-нибудь случиться может — и стал это объяснять начальству, но все отводили глаза в сторону.
— Завод! Семья! Дети! — говорил Анадырьев о самом дорогом приехавшим за ним людям, не желая, чтобы его с этим дорогим разлучали.
Но они увезли его.
И я ничего с тех пор не знаю про него.
А знать хочется — чтобы понять, что же случилось, что же произошло. Поэтому если кто встретит Анадырьева, большая просьба — сообщить.
Я даже обойдусь и без объяснений этого случая, мне б только знать, что не пропал человек, что жив, здоров и, может быть даже, опять весел.
Детектив
Илонин всю жизнь мечтал быть сыщиком. Таким, как Шерлок Холмс — с интеллектуальным дедуктивным методом. Но он работал учетчиком по учету рабочего времени на автобазе, потому что понимал, что в рамках милиции его способностям развиться не дадут, а частного сыска у нас в стране не было, когда же он появился, то Илонин уже вышел на пенсию.
Тем не менее, он читал серьезную криминалистическую литературу, развивал наблюдательность и вел дневник своих наблюдений. Он верил, что рано или поздно его способности проявятся в полном блеске. Что и случилось.
Однажды он приехал в Москву к родственникам. А на другой день к этим родственникам явился еще один родственник, но по другой линии — молодой человек, для поступления в высшее учебное заведение. Три дня Илонин посматривал на него, а на четвертый тихим голосом вызвал по телефону милицию. Голос его был настолько убедителен, что милиционеры сразу приехали — причем из очень серьезного отдела. Они приехали, Илонин указал им на спящего юношу.
— А мы-то ищем! — обрадовались они и взяли парня. Тот не сопротивлялся, ворчал только, что не дали зубы почистить.
Московские родственники Илонина были потрясены.
— Завтра все объясню, — спокойно сказал Илонин и лег спать.
Семья еле дождалась его пробуждения, но, проснувшись, он обстоятельно помылся, позавтракал, выпил кофе и закурил — и лишь после этого приступил к рассказу.
— Как вы думаете, леди и джентльмены, — начал он, — с чего начались мои подозрения? А вот с чего. У вас много книг, ведь так?
— Так, — ответило заинтригованное семейство.
— Так! Любой более или менее вежливый и культурный человек обязательно осмотрит книжные шкафы и полки. Как вы стали бы осматривать? — спросил он главу семейства.
Тот смущенно подошел к полкам и встал перед ними.
— Вот так.
— А те, которые пониже? Наклонитесь, наклонитесь!
Краснея, глава наклонился.
— Смотрите все! — сказал Илонин. — Как склоняет голову Иван Ильич? Он склоняет влево — и это естественно! Юный же ваш родственник — и опосредованный мой — склонял вправо!
— Ну и что? — не понимал Иван Ильич.
— А то! А то, что на корешках русских книг надпись идет слева направо или снизу вверх, если они стоят торцом, и, читая, естественно склонять голову влево, чтобы прочитать заглавие. На иностранных же — сверху вниз! И он склонял голову вправо, хотя тут же поправлялся. И я понял, что он, скорее всего, иностранный шпион, причем родившийся за границей. Есть привычки, оставшиеся с детства, неискоренимые, и одна из них подвела его!
Семья ахнула.
— Но это еще не все, — совершенно спокойно сказал Илонин.
Конец рассказа
Скрипка Страдивари
Всем известно, что саратовцы большие любители музыки — как эстрадной, так и симфонической. Они с удовольствием и постоянно слушают музыку по радио, из телевизоров и магнитофонов, с проигрывателей, ходят даже на концерты — и эстрадные и, само собой, симфонические.
Только К-ов не любил музыки. Рассказ этот документальный, поэтому я не хочу полностью называть его фамилию и выставлять человека на всеобщее обозрение, я ведь не кляузник какой-нибудь, не фельетонист и не литературный какой-нибудь критик.
Итак, К-ов не любил музыки, но странною, переиначим классика, нелюбовью. Он не имел дома ни магнитофона, ни радио, в телевизоре музыкальные передачи переключал на устные. Но если, все же, ему случалось услышать музыку — допустим, из открытого окна, будучи во дворе, или из машины, или подростки мимо пройдут с магнитофоном в обнимку, он морщился с досадою и неизменно говорил окружающим:
— Мне бы скрипку Страдивари, я бы тогда вам сыграл!
Его соседи знали, что такое скрипка работы великого мастера Страдивари, они все смотрели детективный фильм, как такую скрипку украли, фильм серий на восемь или десять — поневоле запомнишь. Знали, что инструменты этого мастера великолепны и безумно дороги, в Саратове ни одной такой нет, их во всем мире-то несколько штук, знали они и то, что К-ов, проживая их в доме с незапамятных времен, никогда ни на чем не играл. Поэтому считали эту фразу не более, чем доброй шуткой. И откликались:
— А на обычной скрипке ты не сыграл бы?
— А стеклом по стеклу не пробовали царапать? — отвечал вопросом на вопрос К-ов.
В общем, поскольку, кроме этого чудачества, никакой особенной придури в К-ве не замечали, то считали, что он просто имеет свой пунктик, свою шуточку. Многие в этом большом доме имели свои шуточки. Кочегар котельной М-ов тоже любил пошутить над собой, выползая из подвала весь черный, размахивая руками и радостно крича встречающей его гневной жене:
— Грачи прилетели!
Но лететь не мог, а, наоборот, падал, и приходилось жене с помощью мужчин впихивать его в лифт и везти на седьмой этаж. Если ж лифт был неисправен, то волокли М-ва обратно в подвал.
Другой, Л-нин, имел привычку, увидев идущий на посадку пассажирский самолет (а это было часто, потому что дом находился неподалеку от аэродрома, который в Саратове, как вы знаете, в городской черте), задирать голову и азартно говорить:
— Спорим на червонец — упадет!
Спорить с ним никто не собирался, понимая, что он не отдаст, а говорит только ради юмора, — никто не припомнит случая, чтобы хоть один самолет упал при посадке, и с чего у Л-на в голове эта неотвязная идея — непонятно было.
Время шло. Родившиеся родились, умершие умерли, К-ов состарился, в доме появились люди новые — или стали таковыми выросшие дети старых людей, энергичные, со своими понятиями о юморе и жизни вообще, и прежние шутки их почему-то раздражали, они органически не переваривали абсурда, мешающего им по-новому понимать действительность. М-ова, который уже был не кочегаром, а пенсионером, они еще терпели, когда он, верный привычкам, изображал прилетевших грачей — но уже на балконе своей квартиры: любителей таскать его на седьмой этаж не находилось более, а подвал занял другой человек, молчаливый, без шуток, он никуда не выходил, а падал там, где работал — без доброй усмешки и острого словца. Л-нин со своим падающим самолетом раздражал их больше. Эти люди часто летали на самолетах, им не нравилась его шутка, они запретили ему ее произносить, он замолчал и вскоре умер.
Но особенно почему-то их стала злить фраза К-ва: «Мне бы скрипку Страдивари, я бы вам сыграл!»
«Говнюк ты старый! — сердито говорили ему. — Ты хоть не на скрипке, ты хоть на балалайке сыграй, ты же глухой, как пень, у тебя вон рука уже левая не гнется, дурак ты такой! Прекрати глупости говорить, не абсурдизируй начавшуюся светлую рациональную жизнь, оглянись, тут дети ходят, мудильник ты стоеросовый, пидарас замшелый, а ты их словами своими пугаешь, козлище вонючее!»
Но К-ов не унимался. Только лишь заслышит откуда музыку, тут же:
— Мне бы скрипку Страдивари… — и т. д.
Наконец один из этих новых людей, Н-ев, не выдержал. У него был пламенный характер, он был человек крайне деловой и привык, чтобы все отвечали за свои слова. Пустая похвальба К-ва выводила его из себя.
— Значит, — спросил он однажды, — если дать тебе скрипку Страдивари, ты сыграешь?
— Сыграю, — кратко ответил К-ов.
— Ну ладно, — со злостью закричал Н-ев, — я тебе привезу скрипку Страдивари! Если ты сыграешь на ней хотя бы чижика-пыжика, будешь жить, если нет, пожалеешь, что на свет появился, я с тобой такое сделаю!
И в тот же день, горячий, полетел в Москву. Там он нашел знаменитого скрипача С-на, играющего на бесценном инструменте работы Страдивари и предложил ему гастроли в Саратове с одним условием: он даст поиграть пять минут на своей скрипке некоему человеку.
Музыкант С-н гастролям обрадовался, но в чужие руки скрипку давать категорически отказался.
— Она ведь и не моя даже, — говорил он. — Она государственная, я ее после каждого концерта сдаю. Честно говоря, мне на гастроли ее брать запрещено, придется, извините, сжульничать, так что обеспечьте охрану.
Н-ев пообещал охрану, назвал сумму за гастроли — при этом играть вовсе не обязательно, и сумму за пятиминутный скрипкин прокат.
Не выдержала душа музыканта, согласился он.
Мигом-мигом схватил его за шкирку Н-ев и примчал в Саратов на самолете, который, по своему обыкновению, не упал, мигом-мигом привез его к себе домой, позвал К-ва, позвал других жильцов, не боясь свидетелей, так как вообще ничего не боялся, вынул на опасливых глазах музыканта С-на скрипку многовековой давности, потертую, с трещинками лакировки, но всем, кто присутствовал, сразу ясно стало, даже тем, кто скрипку живьем в глаза не видывал, а только по телевизору: это уникальный инструмент!
Н-ев достал скрипку, достал смычок, дал в руки К-ву и голосом, не предвещающим ничего хорошего, приказал:
— Играй.
К-ов не смутился.
Он осмотрел инструмент — деловито, будто не реликвию в руках держал, а даже не знаю что — ну, как каменщик мастерок держит. Осмотрел, приложил под подбородочек свой, к морщинистой старой шее, укрепил, встал в стойку, занес смычок.
С-н смотрел на это с ужасом.
Неистовый Н-ев сжал кулаки.
К-в заиграл.
Сочинения, которое он играл, не знал никто, даже С-н.
Он играл без перерыва один час двадцать три минуты сорок секунд.
Закончил, уложил скрипку и смычок в футляр, отдал С-ну — и вышел.
Что было с другими после его ухода, я не знаю, я вышел вслед за К-вым, хотя не стал догонять его и тревожить ненужными расспросами.
Знаю лишь — и могу сообщить, что К-ов свою фразу перестал произносить, соседи же почему-то сторонились его и смотрели на него издали недоумевающими взорами. Как-то тяжко им становилось в его присутствии, нехорошо как-то, муторно. То есть, вроде, как-то светло и печально, но так светло и печально, что — невмоготу.
Н-ев запил.
М-ов, напротив, бросил пить.
С-н перестал играть на скрипке. И на Страдивари, и вообще.
А К-ов через некоторое время умер. Тихо, спокойно, от возраста.
И соседи, по-человечески жалея его, почувствовали, однако, облегчение, они тут же постарались забыть о нем и о его непостижимой игре на скрипке Страдивари, такой игре, которая… Нет, не буду, я и сам не хочу вспоминать — делается на душе как-то… Так как-то… Как-то так… Невыносимо!
Работяга Петухов А.Н
Работяга Петухов очень любил работать. Утром вскочит, лицо быстренько сполоснет, зубы наскоро почистит, чего-нибудь наспех перекусит — и за работу. Сперва думали: молодо-зелено! пройдет! упарится! — а он с накоплением возраста работает ничуть не меньше, а даже больше вкалывает, аж треск стоит.
Матушка придет, пригорюнится, глядючи, как он потом исходит, скажет:
— Ты бы, Петухов, хоть меня пожалел. Больно глядеть материнскому сердцу, как ты себе продыху не даешь. Охолони, поди в лес погуляй.
— Некогда, маманя! — отвечает Петухов.
Или придет приятель, философически усмехнется:
— Работай, Петухов, работай. Работа дураков любит. Нет чтобы о вечности подумать, о коренных вопросах бытия, он, видите ли, в работу спрятался — и горя не знает. Это и я бы мог. А ты вот помысли с мое, пострадай, посмотрю, как ты запоешь! Все тлен и суета, Петухов.
— Оно верно, — вздыхает Петухов, вежливо прервавшись ради друга, но одним глазом нетерпеливо посматривая на прерванную работу.
И доработался он до того, что все шире по окрестностям разносились слухи о его непостижимом трудолюбии, об этом в газетах даже стали писать на всю страну.
— И с чего бы Петухову так стараться? — ехидно спрашивал некий газетчик, по специальности — оценщик работ. — Может, он не Петухов, а, допустим, Эдисон, Леонардо да Винчи или Лопе де Вега. Ничуть, Петухов есть всего лишь Петухов. И сколько он ни тужься, другим ему не стать, закон же вечен: Леонардо да Винчи — леонардодавинчево, а Петухову — петухово.
Долго ли, коротко, — проняли Петухова. Стал он отлынивать. То, в самом деле, в лес пойдет по грибы, то книжку прочтет, то женится и детей заведет, — в общем, разнообразит досуг, отвлекает себя от работы, но как дорвется — опять треск стоит, с удвоенной энергией корячится; начнет подбивать бабки: ах ты, зараза, опять лишку наработал — перед людьми совестно! Он уж начал и ловчить, кое-какую сделанную работу припрятывал, а кое-какую и вовсе на середине бросал с тайными слезами. Он даже и плохо старался работать, но очень уж рука набита и глаз приноровлен, хотя оценщики работ с удовлетворением отмечали, что вот, де, вам и результат — уже Петухов притомился, уже работает не так хорошо, как хотелось бы. Раньше, дескать, у него лучше получалось.
Петухова такие слова уязвляли в самую душу, и он вместо чтобы плюнуть на работу, ударялся в нее со страстью, чтобы делом, а не словом, ответить оценщикам.
А они лишь ногу на ногу и посмеиваются с присущим им хамством:
— Пошла писать губерния! Как Петухова не корми, а он все на кур глядит! Не надорвись, милый!
И не выдержал Петухов! Бросил напрочь работу. Стал курить табак и пить водку, на лодочке в парке с девушками кататься, невзирая на жену, с соседями в домино играть, — пошабашил!
Что и требовалось доказать! — воскликнули все. Кончился Петухов. Изработался! И поделом — не гони, оглянись вокруг, посмотри, как другие живут — вдумчиво, серьезно, одну работку возьмут, но уж на всю жизнь, и всю-то ее зато вылижут, аккуратно упакуют, а если кто эту работу не примет — то по ненависти людской к кропотливому труду. Мал золотник, да дорог! Много — да убого! Аминь, Петухов, аминь!
Слышал эти речи Петухов, но терпел. Год терпел, два — и не вытерпел больше, бросил курить и пить, девушек из лодки в воду побросал, по-рабочему крепко и просто ругаясь, — и за три месяца столько намолотил, сколько другому в десять лет не осилить.
Завыли кругом: ага, самолюбие в Петухове играет, доказать хочет, что есть, мол, порох в пороховницах! Порох-то, может, есть, но: да Винчи — давинчево, Петухову — петухово!
Бросил работать Петухов.
Выдохся, кричат.
Опять работает.
На измор берет, кричат…
И нет у этой истории конца.
У нее нет конца, потому что виноват я, то есть автор. Мне захотелось написать рассказ с прототипа по фамилии Катухов, я постарался его литературно оформить — и обрезался. Чего-то не хватило. В жизни же, как это часто бывает, все скучней и проще, и сюжета никакого не выжмешь, в жизни прототип Катухов в ус не дует, никого не слушает, хочется ему — он работает, не хочется — не работает, а если получается много, то не потому что это действительно много, а потому, что у других мало, а то и вовсе нет.
А кому это понравится, скажите на милость.
Глаза
Жил-был человек.
Допустим, его звали Иванов.
Это теперь уже не так важно, потому что он — умер.
То есть, конечно, тоже важно, но не так важно, как при жизни.
Жил он скромно, умер скромно — и поминки были скромные, без громких речей, в кругу друзей и родственников.
Вот родственница его, племянница, и сказала, что добрейший человек был Иванов, как посмотрит своими добрыми синими глазами — просто плакать хочется.
Это правда, согласился двоюродный брат Иванова, но глаза у него были серые.
Карие вообще-то у него были глаза. Слегка серые, но большей частью все-таки карие, сказал ближайший друг Иванова.
Разгорелся тут спор.
— О чем мы спорим! — воскликнул шурин покойного Иванова. — Надо у жены спросить, она с ним двадцать семь лет прожила! Какие глаза у Иванова были? — спросил он вдову, которая до этого не слышала спора, вся ушедшая в горестные воспоминания о муже, которого очень любила.
— Как какие? — удивилась она. — Голубые у него глаза были. Голубенькие такие, светлые такие… — и заплакала.
А старая мать Иванова, до этого молчавшая, не желая вмешиваться в спор, тут не сдержалась и тихо произнесла, что глаза у Иванова были около зрачков зеленоватые с коричневыми прожилочками, а потом серо-голубые с темными крапинками.
— Точно! — воскликнула жена — даже как бы радостно. — Именно такие глаза были! Точно! Надо же… — и она задумалась.
И все другие задумались.
И еще жальче стало им ушедшего Иванова.
А крепко выпивший шурин подошел к зеркалу с мыслью как следует рассмотреть собственные глаза, потому что он вдруг тоже забыл, какого они у него цвета, он всматривался и запоминал, чтобы, если умрет, не напутать и не попасть в глупое положение.
Вечер был снежным и вьюжным
Вечер был снежным и вьюжным.
Лагарпов стоял на трамвайной остановке, пряча лицо от ветра.
К остановке быстро подошла девушка. Она не отворачивалась, она посмотрела прямо навстречу ветру и Лагарпову, чуть лишь прищурив глаза, и спросила:
— Не скажете, который час?
Лагарпов пришел в замешательство.
Он мог бы, конечно, сказать, что у него нет часов, но врать не хотел — да и не сумел бы. Часы у него были. Но не на руке. Еще третьего дня окончательно перетерся кожаный ремешок, и Лагарпов носит часы без ремешка во внутреннем кармане пиджака. То есть нужно снять перчатки, раздвинуть голыми руками заснеженный мокрый шарф, залезть в карман, вынуть часы — все это достаточно долго и хлопотно. Но и на это он пошел бы, однако, судя по тону девушки, время ей требовалось точное, до минуты. У Лагарпова же на часах полгода назад отвалилась минутная стрелка. По положению часовой стрелки он примерно узнавал время, а слишком большая точность в его жизни не была потребностью.
И вот — что делать?
Сказать, что нет часов — соврать. Сказать уклончиво, что он не знает, сколько времени, — почему не знает? Нет часов? Тогда так и скажи: нет часов. А есть часы — посмотри и узнай — и для себя тоже, и для того, кто спрашивает. Решиться, вынуть-таки часы и извиниться перед девушкой, что может сообщить время только очень приблизительно — обидеть ее и показать себя глупым: зачем старался, если не можешь помочь?
Лагарпов молчал.
Девушка смотрела.
Они были вдвоем на остановке, больше никого не было.
Не было и трамвая.
Молчание становилось неловким, дурацким, ужасным — но и сказать ничего нельзя!
И Лагарпов, закрыв лицо руками, побежал от остановки, от девушки, он бежал долго и быстро, никак не меньше получаса он бежал и выбился из сил, и упал лицом в снег, и заплакал от горя.
Крайняя мера
У одного человека прохудилась в квартире водопроводная труба, очень важная, от которой идут все прочие трубы.
Пришли слесаря, перекрыли воду и пообещали вернуться, чтобы починить трубу.
Но не вернулись.
Через три дня один человек, устав жить без своей воды, таская ее ведром от соседей, пошел в домоуправление. Там он стал говорить начальнику, техникам и слесарям, что пора бы взяться за работу.
Те сослались на множество крупных аварий, но пообещали завтра же прийти.
И не пришли.
Тогда один человек вышел из себя, помчался в домоуправление и стал кричать на начальника, техников и слесарей, что они обманщики, а те в ответ стали кричать, что нечего их на горло брать, они орать сами умеют, у него квартира, а у них восемь огромных домов, ему бы не скандалить, а войти в их положение. Однако, пошумев, обещали-таки завтра непременно явиться.
И не явились.
Один человек в отчаянье побежал в районный жилищный трест и стал гневно жаловаться на свое домоуправление, на его начальника, техников и слесарей. Туг же из треста стали звонить в домоуправление и ругать на все корки начальника, техников и слесарей, после чего одному человеку было сказано, чтобы он завтра не отлучался из дома: примчатся эти голубчики, как миленькие, в момент починят трубу.
Голубчики не примчались, как миленькие, и не починили в момент трубу.
Тогда один человек отчаянно напился, пришел в домоуправление и стал задирать начальника, техников и слесарей. И всерьез задрал было, но тут вызвали милицию. Милиция продержала одного человека ночь в вытрезвителе и слупила штраф.
Один человек, бледный от решимости и похмелья, взял охотничье ружье, которое у него было, потому что он был охотник, пришел в домоуправление и закричал начальнику, техникам и слесарям, что если они сейчас же не отправятся в его квартиру чинить трубу, то он их всех перестреляет, как собак.
Начальник, техники и слесаря испугались. Они взяли сварочный аппарат и необходимые инструменты и пошли. А были сумерки. И перед самым подъездом, воспользовавшись близорукостью одного человека, они бросились врассыпную кто куда.
Одного человека судили за нападение с оружием и, благодаря показаниям свидетелей, присудили ему год исправительных работ по месту службы с удержанием части зарплаты в доход государства.
— Вот так-то! — злорадно сказали начальник, техники и слесаря.
Мало того, они, обиженные, что их так напугали, подкараулили одного человека и побили его.
На другой день один человек, весь в синяках, но с твердыми скулами, вошел в домоуправление. Начальник, техники и слесаря ехидно улыбались. Они не боялись быть узнанными, потому что напали на одного человека темной ночью и со спины.
— Ну вот что, — тихо сказал один человек, — вы меня вынуждаете на крайнюю меру.
Все перестали улыбаться и насторожились.
— Я, в конце концов, обижусь на вас, вот что! — сказал один человек, выждал паузу — и вышел прочь.
Начальник, техники и слесаря сидели, как громом пораженные.
— Ну, это он уж слишком! — сказал начальник. — Это… Это, действительно, как бы сказать…
— Да… — понуро согласились техники.
На другой день под руководством начальника и техников бригада слесарей за шесть минут тридцать восемь секунд починила трубу, после чего все обступили одного человека, заглядывая ему в глаза.
— Ты уж это, — сказал начальник от имени всех. — Ты там что угодно, только не обижайся на нас. Зачем так жестоко? Ну, виноваты, но сам понимаешь… Тебе, кстати, может ремонт квартиры сделать за счет домоуправления? Не стесняйся!
— Да ладно, — сказал один человек. — Чего уж там…
— Не обижаешься на нас? — с робкой надеждой спросил начальник.
— Не обижаюсь! — улыбнулся один человек.
И начальник, и техники, и слесаря вздохнули одним общим вздохом облегчения, а у кого-то даже блеснула слеза.
Тут же техники и слесаря побежали за водкой и пивом и стали угощать одного человека, а тот ответил двумя бутылками коньяка — и до утра продолжалась их беседа о том, какие они все, в сущности, прекрасные и добрые люди.
История болезни и выздоровления В. Г. Басина
Утром первого июля одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года Виссарион Григорьевич Басин почувствовал себя нехорошо. Вдруг, неожиданно, непонятно почему. И не то чтобы сердце там или почки, или печень, или желудок, или, например, голова, или, наоборот, простатит, а как-то вот нехорошо как-то, мутно как-то, не по себе как-то.
Басин, человек образованный и современный, знал, что причины большинства болезней человека — психологические. Ну, он и стал думать и догадываться о психологической подоплеке своего странного нездоровья.
Может, предположил он, меня травмировал вчерашний проигрыш чешской футбольной команды в финале чемпионата Европы? Но я не болельщик и футбола я вчера не смотрел, а смотрел художественный какой-то фильм иностранного производства.
Или, гадал он, на меня так подействовал уход от меня жены к другому мужчине? Но жена ушла уж двадцать три года назад, да и мужчина, к слову сказать, давно уж помер.
Или меня оскорбляет и возмущает неуважительное отношение ко мне моих детей? Но детей у меня нет, следовательно, и этой причины быть не может.
Весь день он ломал голову, но так и не отыскал психологической подоплеки. К вечеру, устав от недомоганья, он решил, будучи геофизиком-любителем, поискать корни своего состояния в факторах небиологического происхождения. Размышляя о магнитных бурях, солнечной активности, полнолунии и прочих явлениях, действующих отрицательно на организм, он вышел на балкон своей квартиры, находящейся на двенадцатом этаже, посмотрел вниз — и чуть не вскрикнул.
Он понял.
Он догадался.
Его осенило.
Даже малому ребенку известно, что Земля крутится. И человек крутится вместе с ней. Но, будучи на поверхности, он крутится с обычной земной скоростью, а будучи поднят на высоту, он крутится гораздо быстрее, а почему это происходит — опять-таки любому школьнику ясно.
Не откладывая, Басин дал в газету объявление, что меняет квартиру двенадцатого этажа четырнадцатиэтажного дома (подъезд с двумя лифтами) на точно такую же — но на первом этаже. Первый этаж издавна считается плохим, и Васина засыпали предложениями, при этом, правда, настороженно выпытывая, зачем ему понадобился такой обмен и не хочет ли он доплаты. Басин доплаты не хотел, говорил, что у него просто возникло желание быть поближе к земле — и лукаво в душе при этом улыбался.
Через две недели он поселился в соседнем доме, в квартире на первом этаже — и даже без балкона. И, хотите верьте, хотите нет, от этого ли, от самовнушения ли, но факт остается фактом: в новой квартире Басин почувствовал себя отлично и наступивший вскоре день своего восьмидесятидвухлетия встретил в добром здоровье и прекрасном настроении.
1 июля 1997
Лимон
Пройдя сквозь темную подворотню, вы попадете в солнечный дворик и увидите на веревках белье. Это белье тети Маши.
Здесь бродят два куренка, заложив руки за спину, как узники на прогулке, и выклевывают из земли всякую ерунду. Это курята тети Маши.
Сюда, топая ногами, спускается со второго этажа по деревянной лестнице бесстыдница Танька и, задевая головой белье, ищет бусы, которые выкинул из окна сын ее, придурок Лешка. Тетя Маша со своего крылечка видит, где бусы, но молчит. Танька — враг тети Маши.
Здесь, у крылечка, стоит в кадке лимонное деревце, и висит на нем настоящий, хотя еще и зеленый, лимон. Это лимон тети Маши.
Она выносит его на солнышко и сидит около него целый день — стережет.
Через два месяца лимон созрел.
Тетя Маша аккуратно сняла его, а потом целую неделю сидела у открытого окна, раскрасневшаяся, распаренная, пила чай и с великодушной улыбкой говорила соседям:
— Вот, со своим лимоном пью!
1. Доверчивый 2. Совет. Два рассказа в одном
У Миронова очень заболела шея, он пошел к врачу, врач сказал: у вас сидячая работа и голова опущена над бумагами, так вы хотя бы когда ходите, держите голову высоко, как бы смотрите в небо.
Миронов стал ходить и держать голову высоко, как бы смотреть в небо.
И упал в открытый канализационный люк, и переломал себе все ноги.
Через два месяца, выпуская Миронова из больницы, хирург напутствовал его: под ноги смотреть надо, между прочим!
Мирнов стал ходить и смотреть под ноги и ни разу никуда не упал, но зато у него очень сильно начала опять болеть шея. Он пошел к врачу-шейнику и тот сказал: держите голову высоко и смотрите как бы в небо.
Миронов послушался и упал в траншею, сломал опять ноги, опять лежал в больнице, опять ему посоветовали при выписке смотреть под ноги.
Но уж тут Миронов, как ни доверчив был, — не послушался. Он сперва решил проконсультироваться с частным специалистом широкого профиля, народным целителем. Тот внимательно выслушал его и сказал: придется вам голову все-таки высоко держать, но при этом научиться хотя бы одним глазом косить в землю. Миронов так и сделал. Ходит, смотрит в небо одним глазом, в землю другим. Через полгода ему поставили диагноз — косоглазие. Еще полгода лечили, и он никуда не ходил. А когда стал ходить, то в первую очередь отправился к психиатру, справедливо считая ситуацию парадоксально-психологической. Психиатр похвалил его, что он пришел именно к нему, вот бы все такие умные были и понимали, что дело не в руках, ногах, в желудке там или еще в чем, а дело, быть может, в либидо каком-нибудь. Ты руки-ноги ломаешь, на самом же деле у тебя либидо не в порядке. А у кого либидо в порядке, он рук и ног вообще не чует. Приведите в порядок свое либидо и плюньте на всех, смотрите прямо перед собой! — заключил он.
Миронов в порядок либидо не смог привести, не зная где оно у него (а у психиатра спросить постеснялся), но ходить стал прямо — и смотреть только вперед.
В результате не видит толком ни неба, ни земли, и шея болит, и в люк того и гляди свалишься, и встречные смотрят подозрительно, потому что не поймут, с какой стати он на них уставился. Один даже ударил. По шее, между прочим.