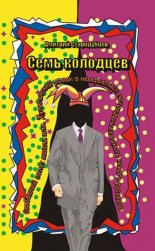Все самое важное Ватова Оля

Нашему возвращению в Польшу сопутствовали все выкрутасы советской системы. Ведь там ничто и никогда не происходит обычным путем. Через какое-то время до Или донеслись вести о том, что поляков стали отпускать домой. Однако с оговоркой, что на польских евреев это не распространяется. Еще по прибытию в поселок все заполняли регистрационные листы, где была графа — вероисповедание. И если было указано «еврей», то это означало, что ты не можешь быть поляком. Опять!!! Евреи снова погрузились в отчаяние. Их обуял настоящий ужас. Было известно об иезуитской позиции НКВД по этому поводу. И они решили разыграть еще одну фишку. А вдруг получится… Лживость и лицемерие НКВД воистину не знали границ.
Энкавэдэшники, занимавшиеся возвращением людей в Польшу, прибыли в наш поселок. Вероятно, тогда они уже получили инструкцию не касаться еврейской темы. Началась дотошная проверка документов. Рассматривались все бумаги и бумажечки, а также постоянно возникала необходимость в куче разных дополнительных сведений. Мы находились в горячке ожидания. Особенно Александр, которого никто никуда не вызывал. На всякий случай он спрятал свой польский паспорт. Опять нас ввязали в какую-то дьявольскую замедленную игру. Снова гнетущая неуверенность.
В конце концов нас вызвали. Анджей и я (советская граж данка) получили разрешение на выезд сразу, без лишних трудностей. Зато Александр должен был пройти еще ряд дополнительных бесед, во время которых ему угрожали пожизненным проживанием в стране победившего пролетариата.
Не знаю, то ли открытое письмо Важика, где он упоминал о скором возвращении известного писателя Александра Вата, повлияло на исход дела, то ли все это вообще было решено заранее и нашим мучителям просто хотелось еще поиздеваться над строптивым литератором, но нашу семью все-таки отпустили в полном составе.
Мы упаковали скудный багаж, купили у соседки-казашки сухари, предназначавшиеся ранее для ее коровы, и поехали в Алма-Ату, где нашли ночлег у знакомых поляков. Начались поиски билетов на Москву. Длились они довольно долго. Для Анджея это были настоящие каникулы. Вечером накануне нашего отъезда он даже посмотрел в казахском оперном театре «Пиковую даму».
Наконец-то мы оказались в поезде, но до той минуты, пока он не тронулся с места, нас не покидал страх очередных испытаний. И только потом возникло забытое чувство безопасности. Мы выжили в жутких условиях, которые грозили нам физическим уничтожением.
Нужно сказать, что состав следовал прямо до Москвы, но, несмотря на это, разрешенный нам маршрут включал в себя три пересадки. Причем пересаживаться нужно было на маленьких грязных станциях, где, как я знала по опыту, трудно найти питьевую воду, не говоря уже о какой-либо еде. Кроме того, там почти невозможно сесть в нужный поезд даже за взятку проводнице. Вероятно, энкавэдэшники нас выпустили в надежде сгноить по дороге. Во всяком случае, все это значительно уменьшало шансы добраться до Польши.
Вагон российского производства, в который мы сели в Алма-Ате, был очень просторным и предельно заполненным. Сразу после войны в стране началось «великое переселение» народов. Одни возвращались домой, другие искали родных. Кто-то странствовал в надежде найти работу или новое место жительства. Когда мы уже расположились на своих местах, то заметили стоящих на перроне мужчин, которые непонятно зачем посматривали в нашу сторону. Как только поезд тронулся, в вагон вошел человек в мундире (Александр шепотом сообщил мне, что это мундир НКВД). Терять мне было нечего. Я сама подошла к нему и вкратце рассказала нашу историю. Добавив, что после всего происшедшего состояние здоровья моего мужа таково, что он просто не выдержит трех пересадок и может погибнуть по дороге. Затем спросила энкавэдэшника, нельзя ли нам ехать этим поездом прямо до Москвы, где находится наше посольство.
Мою речь слушало еще несколько военных, стоящих рядом с мужчиной в форме НКВД. Они одновременно начали говорить, заверяя меня, что это вполне возможно и ничего не стоит опасаться. Так же прореагировал и энкавэдэшник: «Поезжайте спокойно. Ничего плохого с вами не произойдет». И, что удивительно, произнес следующее: «Сейчас уже действительно ничего не случится». Тут на нас посыпались советы соседей по вагону. Одним, самым важным, я сразу же воспользовалась. Пошла к проводнице и дала ей «на лапу». Увидев сумму, она вмиг стала дружелюбной и сказала: «Не волнуйтесь. Отдыхайте. Когда придут контролеры, я с ними поделюсь».
Почти на всем протяжении пути мы поражались, глядя на безграничные пустынные просторы, мелькающие за окнами. Земля казалась выжженной. Она была цвета пепла. Ни дома, ни дерева. Время от времени наш поезд непонятно почему останавливался. Это казалось странным, ведь не было никаких станций, ничего похожего на населенные пункты. Тем не менее перед поездом вдруг появлялись, как призраки, какие-то люди с мешками. У окон вагонов их уже дожидались, тоже с мешками. Потом выяснилось — таким образом происходил некий адекватный обмен товарами, их стоимость была заранее отрегулирована. Например, мешок соли за мешок рыбы. Через несколько километров ситуация повторялась, но тут обменивался мешок чая на мешок веревок или ниток и т. д. Так до самой Москвы тянулась эта разновидность советской торговли. Разумеется, подобное сурово каралось законом, но разве могли бы иначе выжить люди, которые с такой надеждой ожидали на гигантских пустырях проходящих мимо поездов.
Итак, мы добрались до Москвы. Очень боялись, что на выходе из вокзала кто-нибудь проверит билеты. Ведь для нас это было бы чревато новыми неприятностями. Однако все обошлось. И вот мы, трое оборванцев, оказались на улицах советской столицы. На мне была старая, облезлая и рваная каракулевая шуба. Поскольку ее неоднократно чинили, то вся она была в заплатах, причем разного цвета. Эту шубу я подвязывала на талии бельевой веревкой. Периодически нас останавливали прохожие, задавая вопрос: «Из какого лагеря?» Но так или иначе мы добрались до польского посольства, где над нами взяли шефство. Естественно, мы хотели сразу же ехать в Варшаву. Однако нам объяснили, что придется подождать, пока уладится вопрос с билетами. Тем временем нам предложили пожить в доме под Москвой вместе с другими поляками, которые только вернулись из тюрем и лагерей. Сотрудница посольства, опекавшая нас, была поражена тем, как мы выглядим, и помогла побыстрее раздобыть одежду из фонда американской помощи. Мы выбрали там для себя кое-какие вещи. Я при этом заупрямилась, не желая расставаться с «шубой». Мне очень хотелось появиться в ней в Варшаве.
Нас поселили в доме под Москвой. Там уже жили наши соотечественники, вернувшиеся из различных мест заключения, где они отбывали довольно долгие сроки. Были и такие, которые просидели по восемь лет. Среди них находилась женщина, о которой хочу рассказать подробнее. Я не отличаюсь особой слезливостью, но, когда вспоминаю обо всем увиденном в том доме, комок подступает к горлу.
Эту женщину посадили за какой-то прогул и разлучили с двухлетним сыном. Ее отправили в лагерь на Крайний Север. Потом она чудом попала под амнистию, распространявшуюся на поляков. С первого же дня я обратила внимание на то, что она находится в состоянии нервного напряжения. Казалось, что эта женщина все время кого-то ждет. Когда раздавался стук в дверь, она стремительно мчалась открывать, а потом с глубоким разочарованием возвращалась к себе. Женщина ждала своего сына. Один поляк из ее лагерного окружения взялся привезти к ней ребенка, которого должен был забрать из детдома, где тот находился после расставания с матерью. Сейчас ему было уже десять лет. Женщина страстно ждала и боялась этой встречи. Как отреагирует он на встречу с незнакомой, по сути, тетей?
Случилось так, что я присутствовала при встрече матери и сына. Однажды после полудня в дом вошел мужчина с мальчиком, наголо обритым, одетым в нечто похожее на серую шинель, слишком громоздкую для его хрупкой фигурки. Мать, застыв в неподвижности, вглядывалась в ребенка. Пришедший мужчина воскликнул: «Ну что же ты! Это твой сын!» Тогда женщина упала на колени, протянула к мальчику руки, а он, подбежав к ней, обнял ее за шею и прижался так крепко, будто боялся, что у него снова могут отнять маму. Мне никогда не забыть этот эпизод. И я всегда буду помнить, сколько еще таких несчастных матерей осталось в этой страшной стране слез, одиночества и жестокости. Потом женщина накормила сына, уложила отдохнуть и все время целовала его, шептала ласковые слова, словно желая вычеркнуть из памяти ребенка ужас долгих лет пустоты и сиротства.
К сожалению, я была свидетелем и того, как страх, царящий в этой стране и сжимающий горло своим жертвам, искажал психологию дотоле здравомыслящих людей. Приходилось не раз слышать в этом доме, как мои соотечественники, в сотый раз вспоминая и размышляя о своей судьбе, вдруг начинали высказываться в типично советском духе, что, дескать, лучше пусть погибнет тысяча невинных, чем избежит наказания хотя бы один виноватый. Они уже не доверяли никому. Даже самим себе. Боялись, считая, что здесь и у стен есть уши.
Кроме того, о чем я уже рассказала, у меня больше не осталось никаких особых воспоминаний о времени, проведенном в Подмосковье. Разве что о высоких соснах, окружавших домик. Дни были заполнены ожиданием билетов на Варшаву. Поддавшись на уговоры Александра, я поехала с ним в Москву посмотреть Красную площадь и собор Василия Блаженного. Когда мы шли через площадь к собору и проходили мимо Кремля, меня не покидало какое-то мистическое чувство, что сейчас оттуда просунется волосатая лапа Сталина и навечно вцепится в нас.
Анджей, разумеется, хотел увидеть Ленина, и они с Александром пошли в Мавзолей посмотреть на эту страшную мумию. Я же отказалась составить им компанию. Потом муж и сын пошли на толкучку, где Александр купил мне в подарок розовую блузку. В посольстве нам хотели вручить билеты на какую-то оперу, но мне не хотелось ничего, кроме быстрейшего возвращения в Польшу. Мы посмотрели только московское метро — станцию имени Маяковского. Там среди мраморных стен по мраморным лестницам бродили толпы людей в ветхой одежде. На каждом шагу встречались пресловутые фуфайки, а на головах у женщин были повязаны платки. В толпе мы обратили внимание на одного пожилого мужчину с измученным лицом, на котором застыло выражение грусти. Его облик выдавал в нем интеллигента. Несмотря на то что мы с Александром были в лохмотьях, он тоже остановил на нас свой взгляд. И между нами молниеносно возникло какое-то молчаливое взаимопонимание. Стало как-то очень жалко этого человека, жалко всех достойных людей, обреченных здесь на молчание или смерть.
Наше пребывание в подмосковном доме продолжалось несколько дней, которые показались вечностью. Наконец мы получили билеты. Все документы были в порядке. И вот мы в поезде, который должен был привезти нас в Польшу. Вагон оказался прекрасным. На столике возле окна стояла лампа. Полки были аккуратно застелены чистым бельем. Внезапно мы увидели на платформе близкого друга Маяковского — Каэтана, с которым познакомились в Алма-Ате. До сих пор осталось загадкой, как он узнал о нашем отъезде. Это была последняя встреча с ним.
Мы возвращались в Польшу вместе с земляками, тоже прошедшими через кошмар советских тюрем, лагерей и ссылок. Не стихали разговоры о пережитом. Когда кто-то заметил, что поезд уже приблизился к польской границе, все стали с нетерпением ждать мгновения, которое перенесет нас на родную землю. Людей охватило чувство ни с чем не сравнимой радости. Мы стали обнимать друг друга. Небо, деревья, каждая травинка казались здесь совсем иными, чем там, в краю наших страданий. Я поведала о своих эмоциях Александру. Действительно, сила наших ощущений была настолько сильна, что могла превратить серого воробья в райскую птицу. Нам тогда все виделось лишь в ярких, радостных тонах. В таком настроении мы пересекли границу. Было это в апреле 1946 года.
В своем воображении мы уже видели, как прибываем в Варшаву на Главный вокзал, выходим на улицу Маршалковскую… Не могли представить себе, что уже нет прежней Варшавы, что город лежит в руинах. Не знали о сотнях тысяч погибших. Ничего не было известно и о судьбах остальных членов нашей семьи. Мы располагали только информацией, полученной в посольстве, о том, что сестра Александра жива и продолжает играть в Театре польски.
Поезд притормозил в каком-то поле. Все вышли из вагонов, но никто не понял, где именно мы находимся, далеко ли от Варшавы. Каждый из нас захватил свои узелки. Мы тоже взяли свои вещи. Я не хотела расставаться ни с продырявленными кастрюлями, ни с купленными у казашки сухарями, которые сначала предназначались для ее коровы.
Александр отправился разведать что к чему, пока еще не стемнело. Неподалеку от нас стоял красивый черный лимузин. Шофер сообщил, что ждет какого-то русского генерала и никак не может подбросить нас до Варшавы. Но генерала все не было. Тем временем муж успел сообщить ему, откуда мы возвращаемся. И тут шофер сказал: «Садитесь в машину. Черт с ним, с генералом». Подумать только, генеральский шофер смог сам принять такое решение. Видимо, рассказ о перипетиях польских граждан в Советах так воздействовал на его патриотизм, что он не колеблясь сделал свой выбор. Он довез нас до города и ни за что не захотел брать денег. Такой была встреча с первым поляком на польской земле.
Мы с Анджеем уселись на наши узелки, а Александр остановил какой-то грузовичок, чтобы добраться до театра, где работала его сестра. Грузовики, перевозившие людей, были тогда единственным транспортом в разрушенной Варшаве.
Сидя на своем узелке рядом с сыном, я осмотрелась вокруг. Перед нами находились опустевшие прилавки закрытого сейчас Русского базара. В моей памяти почему-то всплыли охапки дамских пальто, продававшихся там.
Вглядываясь в город, я наконец признала то, во что не хотела верить. В моем сознании как бы столкнулись реальность окружающей действительности и образ той Варшавы, которую я оставила 6 сентября 1939 года. Пока Александр разыскивал свою сестру, в моем воображении одна за другой возникали картины былой Варшавы. Постепенно я свыклась с тем, что от моего родного города почти ничего не осталось. Останки зданий, разруха, пустота. Несмотря на то что сюда уже начали возвращаться люди, Варшава выглядела мертвой. Еще больнее мне стало, когда я увидела жуткие раны, нанесенные дому, в котором мы жили до начала войны. Руины, в которых с трудом угадывалось наше когда-то такое уютное жилище… Такая же участь постигла дома сотен тысяч варшавян. Моей Варшавы больше не было. Довоенная жизнь безвозвратно ушла. То, что было до войны, и то, что стало сейчас, — как две половинки расколотого ореха, которые уже нельзя соединить.
Тем временем Александр добрался до театра и прошел за кулисы. Ему показали, где находится гримерная его сестры, предупредив, что через минуту она должна выйти на сцену.
В своих воспоминаниях я часто возвращаюсь к сестре мужа — Северине Бронишувне. Когда она начинала свою актерскую карьеру в краковском театре, Александру было десять лет. Уже после его смерти Северина рассказывала мне, как по сей день видит его сидящим на большом выдвинутом ящике застекленного книжного шкафа, где было много книг в кожаных переплетах с золотым тиснением. Александр обычно погружался в чтение с самого раннего утра и просиживал так до позднего вечера. Он никого не видел, не слышал, не замечал того, что происходит в доме. Книги были его единственным реальным миром. Не могла забыть Бронишувна и то, как, уже будучи футуристом, брат обратился к ней с неожиданной просьбой прочесть на каком-то важном литературном вечере стихотворение одного поэта. А когда Северина попыталась отказаться, говоря, что не понимает его стихи, сказал: «Ничего. Это неважно. Достаточно того, что ты хорошо прочтешь». Однако на этом вечере Бронишувна не успела закончить свое выступление, так как на сцену поднялся сам поэт, на котором не было ничего, кроме фигового листка. Был жуткий переполох. Матери, схватив дочерей, быстро покидали зал. Северина воспользовалась этим и тоже исчезла.
Отношения между братом и сестрой до войны нельзя было назвать замечательными, хотя каждый по достоинству оценивал личность другого. Александр писал о Северине в своей книге не иначе как «моя прекрасная сестра». Он всегда преклонялся перед ее талантом и характером. Бронишувна, со своей стороны, всегда отдавала должное брату, переживая только из-за его футуристических увлечений, а потом и из-за склонности к левизне. Александр же не слишком любил театр. Ему там было скучно. Он доводил сестру до бешенства своими рассуждениями на эту тему, забывая, что для нее это было самым главным в жизни.
Могу добавить, что Бронишувна была совершенно необыкновенной личностью. Признанная всеми, талантливая актриса, она была и превосходным человеком, принципиальным, не признающим компромиссов. В то же время она была на редкость отзывчивой и доброй. Живя отдельно от родителей, Северина трогательно заботилась о них, стараясь по возможности облегчить их старость.
Жизнь Бронишувны была яркой, насыщенной событиями. В круг ее знакомых входили самые разные люди. Поклонница Пилсудского, она предоставляла убежище его сторонникам в своем доме. Но эта дружба продолжалась до того, как они получили власть, — разочаровавшись, Бронишувна отошла от них.
Близкие друзья были у нее и среди польских аристократов: Потоцких, Любомирских, Чарторийских. Четыре года Бронишувна была официально помолвлена с Андерсом[32]. Они познакомились в 1917 году, и это была настоящая любовь. Он ежедневно писал ей с российского фронта длинные (по нескольку страниц) письма. Как-то я спросила, почему она не вышла за него замуж. «Он был очень интеллигентным военным, — ответила она, — закончил Военную академию в Париже. Но мне, я чувствовала это, в конце концов могло бы стать скучно с ним. Это все-таки не мой мир. Правда, он мне очень нравился, был интересным мужчиной. Мы с ним увиделись после войны в Лондоне, где наш театр был на гастролях. Встреча вышла теплой, сердечной. Андерс уже был не один. Он женился на очень красивой женщине, и мне приятно думать, что с ней он, наверное, счастлив».
До конца жизни Бронишувна оставалась верна Театру польски, где и в девяносто лет продолжала выходить на сцену. У нее сохранился прекрасный звучный голос и отличная дикция, которой могли бы позавидовать многие современные актеры. До последнего дня (до девяноста пяти лет) Бронишувна продолжала интересоваться абсолютно всем — театром, искусством, политикой. Она ни за что не хотела покидать страну. Говорила, что ей безразличны Гомулка[33] и другие, потому что они — это не Польша.
Но возвратимся к узелкам, на которых мы Анджеем устроились в ожидании Александра. Вскоре муж вернулся с ключом от квартиры сестры. По счастливой случайности оказалось, что мы находимся неподалеку от ее дома. Это жилье раздобыл Шифман для работников театра, раньше Бронишувна делила его с еще одной актерской семьей. Мы вошли в комнату, и она показалась мне дворцом. В ней стоял диван, покрытый белой медвежьей шкурой, которую я помнила с довоенных времен. На стенах висели картины. Было зеркало, так называемое трюмо. Мы уселись и до прихода Бронишувны сидели неподвижно, словно груз пережитого пригвоздил нас к стульям. Еще не верилось, что мы в Варшаве у сестры мужа, что продолжает работать театр, куда по разоренным войной улицам спешат люди. Было слишком трудно осознать, что все это не сон, а реальность.
Вернулась Бронишувна (буду называть ее Седа, как все к ней обращались). Увидела нас, застывших, робко поглядывающих вокруг. После стольких лет в глинобитных хижинах без кроватей, стульев и каких бы то ни было удобств окружающее казалось царской роскошью и повергало в шок. Чему же тут удивляться… Мы не переставали благодарить судьбу за то, что смогли пройти через все испытания и вернулись в Польшу, вернулись втроем.
Ночью Седа выбросила наши узелки на свалку.
Мне не спалось, и не только из-за новых впечатлений. Дело в том, что меня все время немилосердно кусали клопы (польские клопы!). Из всей нашей четверки они выбрали именно меня.
Узнав, что мы в Варшаве, в дом Седы стали приходить старые знакомые. В первый же день пришла одна актриса, работавшая вместе с сестрой Александра. Она была настолько красива, что это чуть не погубило ее карьеру. Выходя на сцену, актриса думала прежде всего о своей внешности, о том, как встать и держать руки, чтобы ничто не заслоняло ее фигуру, не бросало тень на лицо. Эта женщина примчалась к нам, торопясь увидеть «вернувшихся оттуда».
Дня через три нас навестила секретарша председателя кооперативного издательства «Читатель». Она сообщила, что Борейша (ее начальник) очень рад нашему возвращению и хочет, чтобы Александр заехал к нему, так как нужно встретиться и поговорить. Муж очень удивился. Раньше Борейша никогда его не приглашал. Отвертеться было трудно. Александр ответил, что не может прямо сейчас отправиться к ее начальнику, но обещал появиться в издательстве в ближайшие дни.
Борейша встретил Александра с распростертыми объятиями. И это несмотря на то, что в свое время едва не затянул петлю на его шее. В незапамятные времена во Львове он дал такие показания против мужа (Александру их зачитывали), что Вата чуть не расстреляли как злейшего врага СССР. Теперь же Борейша, излучая какое-то скрытое удовлетворение, осыпал Александра предложениями совместной работы. Он не скупился на обещания самых престижных должностей и в придачу квартиры с коврами. Муж сказал, что сразу ответить не может, так как чувствует себя еще слишком уставшим, чтобы принимать какие бы то ни было решения, но в любом случае благодарен за заботу.
Когда, вернувшись домой, Александр рассказал об этой встрече, у меня как-то неожиданно вырвалось: «Давай удерем куда-нибудь, чтобы прийти в себя». Но, разумеется, у нас тогда не было для этого ни возможностей, ни сил. Немного отдохнув, мы стали думать, что делать дальше. Естественно, предложения Борейши в расчет не принимались. Он оставил Александра в покое. Но тем не менее, чтобы расставить точки над i, Ват опубликовал в альманахе «Варшава» несколько стихотворений, отражающих его нынешние взгляды. По отношению к Борейше и иже с ним это означало: «Я не с вами». После этого Борейша больше никогда не приглашал Вата к себе, а при случайных встречах был демонстративно сердечен и вежлив.
Тем временем события в нашей жизни приняли новый оборот. Совсем как в «Докторе Живаго» Пастернака, когда кто-то неожиданно начинает появляться на пути героя, у нас вдруг стали происходить удивительные встречи, повлиявшие на дальнейшую судьбу. Например, я встретила на улице свою родную сестру с сыном. А ведь даже не знала, что она жива. Ват же совершенно случайно столкнулся с адвокатом Александром Бахрахом, который тогда занимал пост директора издательства PIW. Он с ходу предложил мужу работу. Александр сказал, что сначала стоит поговорить с Берманом, так как вряд ли тот согласится. Однако Берман не возражал, и Ват получил должность главного редактора. Правда, после работы у Гебетнера он приступил к делам с некоторым неприятным ощущением. Ведь муж хорошо понимал, какого рода книги предстоит сейчас издавать. Особое отвращение он испытывал к марксистской литературе. В то же время он старался выявить и спасти хорошие книги, которые каким-то чудом прошли цензуру.
Вскоре после того, как Александр начал работать, он, тоже чисто случайно, встретил своего довоенного приятеля Адольфа Кригера, который помог нам с жильем. Мы получили прекрасную квартиру, в которой жили до 1957 года, когда насовсем уехали из Польши.
Так что довольно быстро все наладилось. Казалось бы, все складывается удачно. Однако и эта новая жизнь была с лихвой полна разочарований и бед. Страшнее всего остального оказалась болезнь мужа, которая терзала его до конца дней.
Но сейчас мне хочется вспомнить один забавный эпизод из того времени. Однажды Александру, уже работающему в издательстве, пришло письмо от профессора Котарбинского[34], в котором тот просил сделать все возможное, чтобы найти работу для невестки князя Януша Радзивилла из Неборова. На первый взгляд это казалось абсолютно нереальным. Именно так и прореагировал на просьбу Бахрах. Но Александр посоветовал ему вновь обратиться к Берману и представить дело таким образом, чтобы нельзя было отказать. Ведь если в демократической Польше кто-то, даже человек такого происхождения, как Радзивиллы, хочет работать, то это его право, и нельзя этому препятствовать. Только так и поступают в подлинно демократическом обществе. На Бермана аргументы подействовали. Невестка князя Радзивилла начала работать секретарем у Александра. Мы потом очень подружились с ней и ее мужем. И стоит отметить, что она была замечательным секретарем.
Вскоре после возвращения в Польшу мы встретились с Владиславом Ковальским, который после войны стал маршалом и жил в доме для членов правительства. Узнав, что мы вернулись, он пригласил нас к себе. Я уже рассказывала, что перед войной, когда Александр работал у Гебетнера, он опубликовал повесть Ковальского и выхлопотал для него стипендию, чтобы тот мог спокойно писать. Выяснилось, что Ковальский наводил о нас справки в Москве, пытаясь вызволить нашу семью из кошмара, в котором мы тогда пребывали. Но ему ответили, что нам очень хорошо в Советском Союзе и у нас нет ни малейшего желания возвращаться в Польшу. Очень привязанный к Вату Ковальский сказал, что если бы знал правду, то нашел бы нас и переправил на самолете. Он говорил убежденно, в каждом слове чувствовалась правда. Он действительно хотел вытащить нас оттуда. Произошло все это за полгода до нашего возвращения в Польшу.
Мы были приглашены к Ковальским на обед. Кроме нас там был еще один гость, который, как и сам хозяин дома, тоже был членом правительства. Мы понимали, что он не может быть человеком нейтральным. И, когда разговор зашел о нашем недавнем прошлом, то есть о пребывании в Советах, Александр даже на мгновение заколебался по поводу того, стоит ли рассказывать всю правду. Нельзя сказать, что нас охватил страх. Мы не боялись последствий, безоговорочно верили Ковальскому и не считали, что какая-то опасность может исходить со стороны гостя. Но вдруг распахнулись двери из соседней комнаты, к Александру подбежала пожилая женщина и, схватив его за руку, почти закричала: «Правду! Расскажите правду!» Ковальские пытались ее успокоить, но безуспешно. Она забрасывала Вата вопросами. Оказалось, что это теща Ковальского. Ее мужа (профессора Литыньского, если мне не изменяет память) вывезли в Советы, и с тех пор о нем не было никаких известий. Ковальский специально ездил в Москву, но ничего не смог разузнать. Ему лишь пообещали выяснить, где профессор и жив ли еще. Потом прошли месяцы, но новостей не поступало. Ковальский поднял все свои связи. Ему вновь рекомендовали подождать, а потом сообщили, что его тесть скончался от сердечного приступа. Жена профессора этому не поверила. Она была убеждена, что он находится в каком-нибудь лагере и испытывает страшные муки. Все, что рассказывал ей зять, она воспринимала как попытки ее успокоить. Бедная женщина была погружена в свои страдания. Идиллические картинки, которые пытался нарисовать в ее сознании присутствующий на обеде гость, были уничтожены откровенными свидетельствами Александра. Несчастная рыдала, выговаривая гостю за его вранье. В доме возникла тягостная, драматическая атмосфера. А на меня вдруг нахлынул ужас. Я снова подумала о том, что нас могли не выпустить, и тот кошмар продолжался бы до конца наших дней. И мы были бы обречены на муки тамошнего существования. Вместе с Александром на Лубянке сидели люди, семьям которых сообщили об их смерти. А они были живы. Их жизнь протекала в невыносимых муках и полном забвении. Живые трупы…
Хочу на мгновенье вернуться к тому, как Александр пытался по нашем возвращении в Польшу дистанцироваться от приверженцев так называемых коммунистических взглядов. Я уже рассказала, как в своих стихотворениях он дал понять: «Я не с вами». Нечто подобное, только более открыто, он высказал и позже, когда работал в издательстве. Однажды, не помню для каких целей, сотрудники, в том числе и Александр, собирали деньги. Но, когда муж вдруг прочел в газете Tribuna Ludu, что такие-то и такие-то «товарищи» сложились и собрали определенную сумму, он просто взорвался. Он написал в редакцию письмо, где сообщил, что никогда не вступал в партию, а потому причисление его к «товарищам» — явная ошибка. Письмо Александра было опубликовано, и ему никогда этого не забывали.
Муж использовал любую возможность, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к коммунизму. Ему даже пришлось отказаться от должности в издательстве. Однажды на собрании в Союзе литераторов, где обсуждались вопросы соцреализма, Александр выступил в защиту подлинных культурных ценностей. Один из литераторов ответил ему гневной отповедью, закончив ее по-русски: «Когда медведь ворчит, дашь ему дубиной по голове, и тогда он замолчит». Присутствовала там и одна старая коммунистка. Выразив удовлетворение этой речью, она сказала, что здесь собрались единомышленники, среди которых затесался только один враг — Александр Ват. Действительно, народу на собрании было очень много, зал был переполнен. Были там и коллеги и друзья мужа. Но никто не выступил в его защиту. Не помню, что мне тогда помешало туда прийти, однако предчувствие того, что там должно произойти что-то жуткое, не покидало меня. Александр вернулся поздно. Как только я открыла ему двери, он произнес: «Похороны мне организовали по первому разряду». Это было одно из последних выступлений Александра в Союзе литераторов. Потом он тяжело заболел. И вот еще что: сразу по возвращении из СССР Польша в течение короткого времени еще казалась нам свободной страной. Александр даже допускал мысль, что Сталин планировал заморочить голову остальному миру, сделав из Польши нечто вроде модели свободомыслящего социалистического государства. Но, как известно, ничего подобного не произошло.
Хочу вспомнить еще один момент. В конце 1940-х годов проходил съезд литераторов. На одном из его заседаний Борейша, речь о котором неоднократно шла выше, неведомо из каких побуждений подошел к моему мужу и сказал: «Видите, пан Александр, как они спешат. Мы же, разрабатывая эту писательско-издательскую тактику, рассчитывали на несколько лет, чтобы дать им возможность привыкнуть, не напугать. А они тут с трибуны торопят, требуют немедленной реализации. Да вы и сами все видите и слышите». Он говорил это, с каким-то удовлетворением потирая руки, а в голосе его даже слышалось некое подобие сарказма. А слова Анджеевского[35] «поторопите нас», которые прозвучали в его письме к партии, — с какой целью они были написаны? Никто их тогда еще не подгонял. Сами мчались в пропасть.
Что же касается того собрания, то состоялось оно, по-моему, в самом начале 1950-х. Вскоре после него Александр тяжело заболел. Я убеждена, что происходившее там повлияло на его здоровье. Уже на следующий день у него начались судороги, страшный шум в ушах, мучился он ужасно. А потом, когда уже лежал в больнице, пришло сообщение о смерти Сталина. Профессор, которому муж очень доверял, сказал, что Александру не о чем беспокоиться, что все пройдет и он сможет работать. И ведь работал. Он много переводил, полностью отдаваясь этому занятию, ища в нем забвения от того, что происходило вокруг. Приступы покидали его ненадолго.
Помню, как однажды после обеда я прилегла на тахту и, глядя на седую голову мужа, склонившегося над письменным столом, вдруг подумала: сколько же еще продлится это чудесное ощущение счастья, безопасности и покоя. А через несколько дней вечером, когда Александр сидел на диване, у него внезапно началось сильнейшее головокружение, ему показалось даже, что комната кружится вместе с ним. Я подбежала к нему, обняла и попыталась успокоить, говоря, что это просто результат сильного переутомления и скоро пройдет. Мы оба тогда услышали какой-то странный стук в дверь, но за ней никого не оказалось. Я уложила мужа в постель. Утром следующего дня он попытался встать, но не смог удержать равновесия. «Я должен преодолеть это», — воскликнул он. Но не смог. Мне пришлось снова уложить его, и с той поры начались мучения мужа, которые продолжались шестнадцать лет. Уверена, что причиной тому послужил злополучный вечер, когда Александр получил «дубиной по голове».
В 1954 году мы находились в Оборах. Александр уже год болел. Вдруг нас навестил только что вернувшийся из Москвы поэт Ворошилский, с которым муж раньше не поддерживал никаких отношений. Мы сидели на террасе, внезапно наш гость вскочил, подошел к Александру и сказал, что теперь ему многое понятно. «Я все знаю, сам видел и соприкоснулся с той реальностью», — добавил Ворошилский. Почему-то он счел необходимым для себя поведать это Александру. И сразу ушел. Я еще долго находилась под впечатлением от его слов.
Люди, с которыми мы тогда общались… Прежде всего это был Анджей Ставар[36]. Он, как и Ват, порвал со своими прошлыми убеждениями. Теперь его имя умалчивалось, возможности печататься не было. Выручали только переводы, которые он мог публиковать лишь под псевдонимом. От него требовали отречения от его нынешних взглядов, но он не соглашался. Это был честный человек, видевший жизнь такой, какой она была, и открыто об этом говоривший. Ставар был близким другом мужа, и на какое-то время наш дом стал и его домом. Своего у него не было.
Забегая вперед, скажу, что мы очень сожалели о несостоявшейся встрече с ним во Франции, куда он приехал, чтобы там умереть, оставив книгу, в которой мог рассказать всю правду. Мы тогда были в Италии. Александр работал у Умберто Сильви, которому помогал организовать издательство в Генуе. Это было году в 1959-м или 1960-м. Мы жили в Нерви у самого моря. Рядом был прекрасный парк. Наш пансионат назывался «Мимоза». Частенько мы наведывались в небольшую рыбацкую бухту, которая находилась поблизости. Там мы любовались разноцветными лодками, качавшимися на бело-зеленых гребнях волн, и съедали необыкновенно вкусный рыбный суп. Это было почти безлюдное, тихое место. Только рыбак возился с сетями, напевая какие-то песенки. Мы иногда засиживались там до глубоких сумерек, а потом берегом возвращались в пансионат, где занимали комнату с небольшой террасой в цветах. Однажды к нам заехал Станислав Винценц[37], но по-настоящему пообщаться с ним мы не смогли — как раз в тот день у мужа были нестерпимые боли.
Там же, в «Мимозе», нас застало письмо от Ставара, который предлагал встретиться где-то на полпути. Он очень хотел увидеться и поговорить с Александром. Но здоровье мужа не позволяло пускаться в дорогу, об этом не могло быть и речи. Я предложила Ставару приехать к нам. Мы тогда и не подозревали, в каком состоянии находится он сам, не знали, как мало времени отделяет его от кончины. Так и не состоялась наша встреча. А когда мы вернулись в Париж, нам позвонили сказать, что Ставар в больнице, что он умирает. Но у Александра начался такой тяжелый приступ, что он не мог даже пошевелиться. Смерть настигла Ставара очень быстро. Был сентябрь 1961 года, мы приехали в парижский аэропорт проститься с другом, поклониться его праху. Кроме нас и чиновника польского консульства, никого больше не было. Прах покойного был отправлен в Польшу, где должно было состояться официальное погребение. Похоронный официоз, которого Ставар никогда себе не желал. Очень жаль, что не успели увидеть его живым, что так и не состоялся тот последний разговор с Александром, видимо, очень важный для Ставара.
Вспоминаются мне и другие дружеские связи с литераторами в тот мрачный сталинский период. Как-то мы были в гостях у приятелей, вернувшихся из Кракова, где их застал конец войны. Разговорились на самые разные темы, в том числе и о довоенной театральной критике. Вспомнили рецензию на спектакль Театра польски по пьесе одного советского драматурга. Разумеется, там присутствовал завод, стахановцы и т. д. Рецензент, наш общий знакомый, написал тогда об этом блестящую остроумную статью. Александр даже попросил, чтобы ее прочли вслух (он знал, что в доме она имеется). Мы с мужем очень смеялись. Однако жена хозяина дома вдруг притихла, а сам он стал прохаживаться по комнате, бормоча: «Какая жалость… Придется порвать с Ватами и Тышкевичами». Он проговорил это с иронией и в то же время с явно ощутимым сожалением. Тышкевичи материально поддерживали их во время войны. Но… они были из графов, а Ваты — из «контры».
Сколько так называемых друзей поспешили отвернуться от нас во имя будущей карьеры… Начали избегать Александра, боялись вступать с ним в слишком долгие беседы, особенно на территории Союза литераторов. Страх, о котором я уже много говорила, как паук, опутывал свои жертвы крепкой паутиной.
Помню, у нас собралась компания. Пришли бывшие сослуживцы мужа, художник из одного сатирического журнала. Александр был в тот вечер очень оживленным, много шутил. Но вдруг стал затрагивать актуальные темы, анализируя и остро критикуя многие вещи. Молниеносно наступила гнетущая тишина. Это было ужасно. Это была Москва.
Вернусь ненадолго в Казахстан, в Или. Там мы познакомились с человеком, эвакуированным из Москвы. Он выглядел вполне достойно и искал общения с Александром. Как-то он даже предложил нам перебраться из хлипкой глинобитной хижины к нему в деревянный домик. Нас это насторожило и обеспокоило. Оказалось же, что ему просто хотелось поговорить. Он испытывал к Александру искреннее уважение и понимал, что ему можно говорить правду. Этот человек рассказал, как нестерпимо трудно годами выдерживать сплошную ложь. Ему было просто необходимо выговориться, очиститься от лицемерия, подлости, гнусного вранья. И собеседником, которому можно полностью довериться, он выбрал Александра. Но тогда мы сами уже были настолько пропитаны страхом и подозрениями, что это заставляло осторожничать. А наш новый знакомец оказался довольно искренним человеком. В прошлом он был каким-то научным работником. Здесь жил со своей женой-учительницей.
Вот так и получилось — наши гости боялись слушать Александра, в точности как мы тогда боялись выслушать того человека. Мне кажется, что даже у Достоевского не встретишь такую ситуацию, такой тип сознания, когда каждую секунду человек опасается предательства извне, утраты собственной личности и физического уничтожения.
После возвращения из Советского Союза мы встретили одного давнего знакомого, старого социалиста, человека необыкновенно порядочного, который бурно выражал свой протест против происходящего в Польше. По профессии он был переводчиком, причем великолепным. Его дочка находилась в советском лагере. Поэтому, несмотря ни на что, ему пришлось переводить труды Маркса. Он старался делать все, чтобы вызволить дочь из лагеря, и ему это удалось. Она вернулась и тоже занялась переводами. Правда, вернулась она уже личностью отчаявшейся, полуразрушенной, с сильной склонностью к алкоголю.
Трудно было общаться и с Броневским (о нем я раньше много упоминала). Он стал пить. Причем очень быстро приходил в состояние полного опьянения. Как-то он зашел к нам без предупреждения, вроде как на минутку. Несмотря на то что уже был пьян, тут же попросил водки. Пришлось дать, иначе в таких ситуациях он становился грубым и агрессивным. Час был поздний, и мы, побоявшись отпустить пьяного приятеля, оставили его у себя ночевать. Я постелила ему. От пижамы он отказался, сказав, что привык спать нагишом. И затем в таком виде он стал гоняться по квартире за нашей служанкой.
Ужас пережитого и нынешнее существование — все это изменяло характеры, разрушало души. Как-то к нам зашел приятель, Тадеуш Боровский[38]. Я помнила его жизнерадостным, полным энергии и неизбывного оптимизма. Однако теперь все это куда-то исчезло. Перед нами был совершенно отчаявшийся человек, лицо которого исказило страдание. Через некоторое время он свел счеты с жизнью. Сам факт его самоубийства долгое время скрывался. Называли разные причины смерти, пытаясь скрыть правду. Сгубило же его чувство проигранной жизни. Он не мог примириться с кошмаром той (хоть и иной, нежели в Освенциме) действительности, оставаться в которой было выше его сил.
К большому сожалению, это был далеко не единственный случай подобного крайнего выхода из сложившейся ситуации.
Однажды у нас раздался телефонный звонок. Звонивший (наш знакомый Выгодский) был явно в растерзанных чувствах. Спросил, можно ли зайти, и вскоре мы уже открывали ему дверь. Следом за ним пришла его жена Ирена. Оказалось, что друг Выгодского, которого он уговорил вернуться в Польшу из Израиля, обещая помочь с жильем и работой, через несколько дней после приезда покончил с собой. По лицу Выгодского текли слезы. Он прошел Освенцим, потерял там жену и маленькую дочку. Теперь он потерял друга, да еще в собственном доме. Почему?.. Выгодский зарыдал сильнее, оплакивая его, а может быть, и собственную жизнь. Ирена, вторая жена, заговорила с ним, пытаясь успокоить мужа, но ничего хорошего из этого не вышло. Он вскочил и начал гневно выкрикивать: «Ну что ты несешь! Ведь если мы живы и сейчас здесь вместе, то только потому, что там, в Освенциме, отбирали у умирающих хлеб, который они уже не могли поднести ко рту. Мы забирали одеяла, зная, что им они уже не пригодятся. Это их смерть спасла нас. Это по их трупам мы выбрались из Освенцима. Наш друг сознательно ушел из жизни, потому что у него не осталось сил и терпения продолжать борьбу. Ему не хватало человеческого участия, доброты. В это он давно перестал верить. Он не захотел поселиться в джунглях, где мы-то даже успели пустить корни».
Я не раз повторяла, что лейтмотивом существования в то время был всепоглощающий страх. И нередко он вызывал к жизни предательство. Однажды сестра моего мужа рассказала, как один наш когда-то близкий знакомый (Кручковский[39]) признался ей за год до своей смерти, что испытывает чувство вины перед Александром. Тот всегда всячески помогал ему удержаться на плаву, способствовал профессиональному росту, добился для него специальной стипендии, чтобы можно было спокойно работать. А он в благодарность за это… вдруг вообще перестал замечать Александра, не хотел разговаривать с ним. И больше всего на свете боялся, что кто-нибудь увидит их вместе….
Моя память продолжает высвечивать воспоминания… Вскоре после возвращения из Казахстана я навестила писательницу Марию Домбровскую[40]. Она жила в своем старом, чудом уцелевшем во время бомбежек доме. У нее поселилась Анна Ковальская с дочкой. С Ковальской мне довелось познакомиться во Львове, когда на нас обрушились всевозможные беды. Должна сказать, что она всегда сохраняла самообладание сама и помогала другим силой собственного духа. Для меня она тоже стала тогда надежной опорой. И, увидев ее вдруг рядом с такой хрупкой, ранимой, не слишком приспособленной к реальной жизни Марией, я невольно поразилась тому резкому контрасту, который являли собой эти две женщины. Ковальская заботилась о Марии — вела хозяйство, занималась всеми текущими делами. Она оберегала душевное равновесие Домбровской, чтобы дать ей возможность писать. Естественно, разговор коснулся Советов. Переполненная событиями прошлого, я не могла не рассказать о шестилетнем пребывании в Казахстане, о тюрьмах, через которые прошел Александр. Домбровская внимательно слушала, не скрывая эмоций. Реакция же Ковальской меня просто потрясла. Она явно была недовольна тем, что затронули эту тему, и, грубо оборвав меня, предложила выпить чаю. Уверена, она повела себя так, защищая спокойствие Марии. Ведь та должна была писать… И она писала.
Впрочем, Домбровскую всегда носили на руках, решая за нее бытовые проблемы и ограждая ее от ужасов, происходивших в реальной жизни. Она должна была писать… И она писала. А так как тогда за все надо было платить, ей тоже не удалось этого избежать. Например, она стала автором панегирика, посвященного только что умершему Сталину. У нее не хватило силы воли устоять перед волной, захлестнувшей многих прозаиков и поэтов. Мне не забыть и еще одного литератора (Галчинского[41]), писавшего о тучах, приплывших из разных мест, чтобы траурным знаменем соединиться над гробом «великого» Сталина.
Однажды утром в декабре того же года мне позвонила приятельница и, сообщив, что у нее умер муж, попросила прийти к ней. Разумеется, прибежала. И… увидела на письменном столе портрет Сталина.
Позабавил меня тогда один наш знакомый. Его опус в память вождя мирового пролетариата назывался так: «Тот, кто научил нас стойкости духа». Я не могла не позвонить ему и не сообщить, что он прав. Из советских тюрем и казахстанской ссылки мы вернулись на редкость стойкими.
В связи со смертью Сталина вспоминается и еще один эпизод. Александр тогда лежал в одной варшавской больнице после очередного сильного приступа. Поначалу мужа поместили в жуткий общий зал, который почему-то назывался «Сибирь», но потом нам удалось перевести его в небольшую отдельную палату, ранее служившую раздевалкой. Шел 1953 год. Александр уже три месяца находился в больнице. В день смерти Сталина перед тем, как пойти к мужу, я случайно выглянула в окно и увидела странную картину — от нашего дома отъезжал грузовик с мусором, а на самом его верху покачивался огромный портрет вождя. Придя в больницу, я сразу увидела большое скопление людей возле палаты Александра. Стояла тяжелая тишина, и настроение у всех было мрачное. Мне стало нехорошо. Ноги подкосились. Я решила, что с мужем случилось что-то непоправимое. Начала спрашивать об Александре. Одна из санитарок шепотом сказала: «Неужели вы думаете, что все собрались здесь из-за вашего мужа? Умер Сталин. А в этой палате мы соорудили траурную часовенку». Я заглянула внутрь и увидела свечи и его портрет, весь в цветах… Вдруг послышались причитания какой-то толстой тетки: «Бедный наш Сталин… Подумать только, такой всесильный, а все равно умер. Что же говорить о нас, маленьких людях…» Чуть позже, когда я наконец увидела Александра, мы вместе с ним посмеялись над моей наивностью. Так вся эта ситуация обернулась для меня счастливым недоразумением.
Между тем ситуация Александра была даже по этим временам не совсем обычной. С одной стороны, он был изгоем, с другой — сохранились кое-какие связи. Он не просил о помощи, но болезнь заставила принять ее. Как-то ранним утром я спешила в больницу, чтобы застать одного профессора (которому муж очень доверял) и попросить у него рецепт на лекарство. Накануне Александр так мучился из-за болей, что всю ночь не мог сомкнуть глаз. Я специально пришла пораньше, чтобы переговорить с профессором у входа, а не в отделении, где это было практически невозможно. Рецепт он мне, разумеется, дал, но был очень недоволен и разговаривал со мной с большим раздражением. Так нередко случается с врачами, ставшими популярными. Я вышла на улицу и заплакала. От безнадежности, грусти и усталости. Стояла зима. Было холодно, нужно было спешить домой. По дороге меня остановили две женщины. Одна из них была женой Бермана[42], с которым Александр когда-то сотрудничал в «Литературном ежемесячнике». Я была с ней почти незнакома. Мне было известно только, что она работает врачом. Ее спутницу, врача-дантиста, я как раз знала намного лучше (позже она стала женой Циранкевича[43]). Эти женщины заметили, в каком состоянии я находилась, и решили выяснить, что случилось. Я рассказала им о страданиях Александра, о том, что зимой его боли усиливаются. «Так не может продолжаться, — вдруг сказала жена Бермана. — Нужно сделать так, чтобы Ват мог проводить зиму на Западе». С этого все и началось. Было подано прошение в Министерство здравоохранения. Но на положительный ответ мы не рассчитывали. Нетрудно было себе представить, как тот же Берман отреагирует на эту просьбу. Интересно, прочитал ли он когда-нибудь адресованную ему надпись, которую Александр сделал в 1954-м на чистом листе комплекта «Литературного ежемесячника». Ночью, думая, что умирает, Ват написал:
«Это — corpus delicti низости. История моего уничтожения коммунизмом в коммунизме. В коммунистических застенках, в ссылке пришло полное отрезвление. В коммунистической Польше я никогда не позволял себе забыть о заблуждении, в котором находился сам и вовлекал других. По этому счету надо было заплатить. И я заплатил. Собой».
Возвращаюсь к болезни Александра. После нескольких месяцев пребывания в больницах его отпустили домой. Перед выпиской его лечащий врач сообщил мне, что болезнь мужа продлится очень долго и в принципе она вообще неизлечима, что боли могут усиливаться и я должна быть очень сильной, ухаживая за таким тяжелым больным, и не строить никаких иллюзий на будущее.
Через некоторое время мы получили разрешение на выезд в Стокгольм на консультацию к мировой знаменитости, профессору-нейрохирургу. Там мы утратили еще одну надежду ослабить боли Александра, сделав операцию. В то время в Стокгольм приехал еще один всемирно известный специалист. Навестив Вата в больнице и увидев, как тот переносит страшные боли, врач сказал мне: «У вашего мужа потрясающая выдержка. Другой на его месте уже выбросился бы из окна». Меня поразила грубость этих слов, но Александру они, как ни странно, даже принесли некое облегчение. А знаменитый профессор, проведя множество обследований, пришел к выводу, что операция мужу противопоказана. Она может привести к таким необратимым последствиям, как глухота, слепота, немота, паралич и снижение интеллектуальных функций. То есть о хирургическом вмешательстве не могло быть и речи. В то же время, сказал профессор, если Александр сможет вытерпеть эти боли в течение семи лет, потом они должны пройти. И с такой слабой надеждой мы вернулись в Польшу.
Стоит рассказать и о поляках, проживавших тогда в Стокгольме. Особенно о тех, кто официально представлял Польшу. Когда Александр лежал в больнице, жена посла предложила мне пожить в посольстве. Я согласилась. Это имело потом довольно плачевные последствия.
Сам Стокгольм меня ошеломил. После шести лет, проведенных в Казахстане и сталинской Польше, я была в шоке от этого прекрасного города и его доброжелательной атмосферы. Кстати, тогда я поняла «вещный» голод Маяковского. Теперь мне тоже хотелось купить все, что попадается на глаза. Ведь в Польше ничего подобного не было.
Обычно мой день складывался так. До определенного часа я была у Александра, а потом возвращалась в свою комнату при посольстве. Тем не менее возникло два случая, которые «скомпрометировали» меня перед посольскими. Первый — моя встреча с эмигранткой из Польши. Это была женщина средних лет, прошедшая Освенцим. Оттуда она попала в Швецию, где решила остаться. На родине у нее не было родных. Врач-гинеколог по профессии, она сейчас работала в стокгольмской больнице. Ее варшавская приятельница просила меня передать ей небольшую посылочку. Мы встретились с этой женщиной у нее на работе. Она рассказала мне много интересного о жизни шведов. Не хочу повторять здесь общеизвестные факты, но я была несказанно поражена не только красотой этой страны, но и ее свободой, богатством и ощущением подлинной демократии. Достаточно было посмотреть на работающих людей, на то, в каких условия они живут. Многие открытия мы сделали для себя уже вместе с Александром, когда его выписали из больницы и он смог сам все увидеть. По наивности я поделилась впечатлениями с кем-то из посольства. Меня тут же обвинили в том, что я встречаюсь с врагами Польши, которые могут оказаться «шпионами». В воздухе запахло Советами… Вскоре после этого хозяйка небольшого пансионата, где мы остановились с Александром до его госпитализации, переслала для нас в посольство бандероль из Англии, в которой находилось несколько номеров газеты Wiadomosci. В гробовой тишине меня проводили в зал, где по полу были разбросаны газеты из уже распечатанной бандероли. После этого я собрала свои манатки и вернулась в пансионат.
В завершение рассказа о Стокгольме — забавный эпизод. В последние дни нашего пребывания там консул изъявил желание повозить нас по городу. Во время поездки мы увидели остров, утопающий в зелени. В памяти осталась огромная разросшаяся плакучая ива. На острове высилось большое светлое здание, окна которого сверкали свежевымытыми стеклами. Мы спросили консула, что это за дом. «Тюрьма», — ответил он. У Александра, прошедшего через ужас советских мест заключения, вырвалось: «Ох, как бы я хотел сидеть в такой тюрьме…»
Мы вернулись в Польшу. Самочувствие мужа оставляло желать лучшего. Он мужественно переносил боли, стараясь, чтобы окружающим не было видно его страданий. Но не замечать было трудно. Я вспоминаю два визита и две диаметрально противоположные реакции на состояние Александра. Первым был визит писателя Яна Парандовского[44]. Он пришел в прекрасном настроении. В Израиле вышла его книжка, а прямо перед тем, как идти к нам, он получил оттуда посылку с апельсинами. Тогда апельсины были у нас редкостью. Александр же в тот день чувствовал себя на редкость плохо, лежал на диване, но Парандовского принял. Гость принялся рассказывать о книгах и об апельсинах. Поведал также о Пен-клубе и о будущих поездках. Вообще был необыкновенно разговорчивым. Александр же в основном только слушал. Вскоре после того, как Парандовский ушел (а жил он довольно близко от нас), позвонила его жена. Ирена сказала, что, по словам ее мужа, Ват находится в очень хорошем состоянии и они смогли с ним долго беседовать на различные темы. Поэтому она очень рада за нас. Парандовский всегда был человеком наивным. Или казался таким? Часто вспоминался один его вопрос: «А кто такой Хрущев?»
Потом Александра навестил Ярослав Ивашкевич[45]. Состояние мужа оставалось прежним. Обезболивающие средства, которые он принимал, перестали действовать. Нужно было искать новые, более сильные. В тот день я на некоторое время оставила их с Ивашкевичем одних, а сама готовила чай и отвечала на телефонные звонки. Когда Ярослав уже уходил, проводила его до дверей. В глазах у него стояли слезы. «Я видел, чувствовал, как Александр страдает, терпит, хотя он и старался мне этого не показывать, — сказал Ивашкевич. — Все время мы разговаривали о литературе, о поэзии, о проблемах, связанных с этим. И видно было, что его все очень интересует, что он пропускает это через сердце… А вот я, например, если уколю палец, то уже ни о чем другом и думать не могу, так на меня действует боль. Ват — уникальный человек!» Ярослав тогда покидал нас совершенно потрясенным и преисполненным глубокого сострадания к Александру.
Спустя много лет, в феврале 1980-го, поздним вечером мне вдруг позвонил Даниэль Ольбрыхский и сказал, что Ивашкевич в Париже, что он очень болен, не встает с постели и хотел бы меня видеть. Я сразу же с большим волнением перезвонила Ярославу в отель. Мне хотелось найти для него самые теплые слова, объяснить ему, как много он значил для нас. Но Ивашкевич остановил меня: «Оля, не стоит. Сейчас все это уже не имеет значения. Все это уже не важно».
На следующий день с утра я отправилась к нему. По дороге купила розы. Портье сказал, что мсье Ивашкевич сегодня даже не заказывал завтрак и что это его очень беспокоит. Это был отель, в котором Ярослав всегда останавливался, когда приезжал в Париж. Здесь его знали и прекрасно к нему относились. На мой стук в дверь никто не отозвался. Я сама открыла ее и оказалась в маленьком коридорчике, ведущем в комнату. Старалась ходить тихо, на цыпочках — думала, что он заснул, и боялась разбудить. Вдруг услышала знакомый голос, который звучал по-домашнему просто, почти интимно: «А кто это тут крадется?» Он лежал в постели. По прошествии многих лет я увидела Ивашкевича постаревшим, больным, обессиленным. Правда, когда я вошла в комнату, он попытался приободриться. Восхитился розами. Заметил, что я стала носить жемчуг. Но было очевидно, что он голоден. «Оля, — сказал он, — несчастья ходят парами». И показал мне поврежденную искуственную челюсть. Я хотела хоть как-то помочь. Смочила в одеколоне платок, протерла ему лицо, грудь, видневшуюся в раскрывшейся пижаме… Мы оба понимали, что наверняка уже больше не встретимся. Он был очень болен и подавлен после смерти жены. Однако стал расспрашивать, почему меня лишили права въезда в Польшу. А когда я объяснила, сказал, что постарается это уладить сразу по возвращении. И действительно, мне рассказали, что, вернувшись и уже лежа в больнице, он пытался решить мои проблемы, разговаривая с министерством по телефону. Сейчас же передо мной в гостиничном номере лежал в постели старый больной человек, чье лицо исказило время. А я, глядя на него, вспоминала молодого, красивого, полного сил Ярослава. Музыка и поэзия, природа и люди, мгновения отчаяния и счастья, любовь… Все это — составляющие его личности. Его творчества… Кажется невозможным, несправедливым, что все это кончается старостью, болезнью и ощущением неизбывного одиночества. В его последних стихотворениях — только квадрат окна, за которым темная ночь и едва различимые очертания дерева. «На крик отвечает молчанье…» Я поцеловала его, и он всхлипнул. Не заплакал, нет. Он не позволил рыданиям вырваться из сведенного спазмами горла. Через минуту он успокоился. Рассказал о своем неудачном отдыхе в деревушке под Парижем, откуда его, уже очень больного, не державшегося на ногах, привезли сюда, в отель. Мне захотелось отвлечь Ярослава от грустных мыслей, и я стала рассказывать ему о чем-то смешном. Потом мы начали обсуждать знакомых литераторов. Его настроение заметно улучшилось. Я вспомнила, как однажды после большого приема в Стависки возвращалась в Варшаву с одной слегка подвыпившей дамой. По дороге спросила ее, почему она с такой злостью говорит об Ивашкевиче. И вдруг она выдала: «А ты видела, какие у него руки? У него руки убийцы». «Она всегда была сумасшедшей. Особенно после рюмочки», — уже весело ответил Ярослав.
Прощаясь с ним в тот день, я прощалась и со своей молодостью, со временем, которое было мне очень дорого. Я покидала Ивашкевича с томиком его стихов «Избранная поэзия». Дома раскрыла книжку и прочла надпись: «Дорогой Оле Ват на добрую память. Ярослав. Париж. Февраль, 1980». По сей день, когда я вспоминаю об этой нашей встрече, меня охватывает сильное волнение.
И снова возвращаюсь в послевоенную Польшу. Болезнь мешала привычному общению Александра с людьми. А ведь он всегда испытывал в этом огромную потребность. Ему было необходимо делиться с другими своими мыслями. Его страстью были острые дискуссии. Много читая, он всегда что-то для себя записывал. До болезни он был очень активным человеком. Теперь же боли с каждым днем усиливались. Вынужденная неподвижность заставляла его страдать еще больше. Он снова начал работать — занялся переводами. Друзья продолжали навещать его.
Во время своих визитов в Польшу к нам заходил Поль Элюар. Помню, как сразу после войны он приехал на открытие памятника Мицкевичу. Вижу его дрожащим на морозе в полушубке, который был ему явно мал. Александр был тогда среди тех, кто должен был встречать этого известного поэта. Вспоминаю, как потом большой компанией мы все собрались в кафе отеля, где остановился Элюар. Там его уже ждали журналисты. Как только принесли кофе, они стали засыпать знаменитого француза самыми разными вопросами.
Нужно сказать, что незадолго до этого умерла жена Элюара, которую он очень любил. Ее памяти посвящены многие его стихи. Теперь у него была новая жена, очень красивая женщина. Но еще год назад он приезжал в Варшаву один, в состоянии страшного отчаяния. У нас дома он все время оплакивал свою потерю и страдал так, что мы, сочувствуя ему, стали опасаться за его душевное здоровье. Он не мог заснуть и рассказывал, что каждую ночь видит, как тело его любимой женщины опускают в могилу. Элюар испытывал тогда чудовищные муки и писал стихи, исполненные любви, тоски и боли. И вот спустя год он приехал с новой женой и выглядел абсолютно спокойным и… счастливым. Он сказал журналистам, что товарищ Торез обратил его внимание на то, что настоящий коммунист не имеет права писать трагические стихи. Коммунист должен нести людям труда бодрость, надежду, энергию и энтузиазм. И он, Элюар, признавая правильность этой позиции, изменил грустный финал своих стихотворений, посвященных жене. Теперь каждое из них заканчивается вполне оптимистично. После того как год назад мы видели неподдельные муки Элюара и ощущали глубину его горя, слова, произнесенные им тогда, вызвали у меня ужас.
Недавно я случайно узнала от одного из его друзей, что в делах политических он был наивен как ребенок. А Эльза Триоле вместе с Луи Арагоном так настойчиво пыталась внедрить в его сознание идеи советского коммунизма, что однажды он просто не выдержал их очередной атаки и отключил телефон.
Кажется, в 1948 году во Вроцлаве состоялся всемирный съезд интеллектуалов, на который тоже приезжал Элюар. После завершения съезда, уже в Варшаве, был устроен большой прием. Там я впервые увидела Пикассо. На приеме, где все мужчины были одеты в темные костюмы, художнику стало очень жарко. Он снял пиджак, затем рубашку и порадовал присутствующих красивым атлетическим торсом. Мы с Элюаром подошли к нему, и Поль вдруг обратил его внимание на мое сходство с Галой. Пикассо сказал, что тоже заметил это. Гала, последняя жена Сальвадора Дали, до того была женой Элюара.
После возвращения из Стокгольма Александр понял, что ожидать выздоровления не стоит. И хотя профессор сказал, что через семь лет боли могут пройти, надежда на это была довольно слабой. Наступило тяжелое время. Боли не прекращались. Нужно было работать над переводами. Кроме того, Александр не переставал писать в стол.
Я уже говорила, что каждой зимой самочувствие мужа обычно резко ухудшалось. Холод усиливал боли. В 1956 году мы с помощью родственницы Александра смогли «перезимовать» на юге Франции. Приехав в Ментону, мы поселились в небольшом пансионате, принадлежавшем швейцарцам. Кроме нас там отдыхали голландские фермеры, занимавшиеся у себя на родине выращиванием тюльпанов. В холле аромат прекрасного кофе постоянно смешивался с запахом гаванских сигар, без которых фермеры не могли обойтись. Справедливости ради должна сказать, что у нас там была нормальная теплая комната со шкафом, зеркалом и двумя кроватями. Однако Александра все раздражало — и обои с цветами и птичками, и трехдверный шкаф с зеркалом, и грубоватый говор беспечных голландцев. Пришлось начать поиски другого жилья. Выручил случай. Однажды во время прогулки мы остановились перед маленькой калиткой, обвитой плющом. Вошли и… притихли. Даже дыхание перехватило, настолько поразила нас красота сада. Тишина, словно никого нет. В глубине стоял дом с террасами, обвитыми глициниями. В саду росли пальмы, кипарисы, фиговые деревья. Среди них расположились статуи полных грации античных богинь. В центре находился облицованный камнем бассейн, в котором поблескивала вода и подрагивали прекрасные водяные лилии. Вдалеке виднелись горы, за которые пряталось солнце. Александр сказал: «Здесь мы будем жить».
Тут на тропинке показался невысокий улыбающийся мужчина. Это был садовник Марио, итальянец по происхождению. Он вежливо сообщил, что здесь нет жилья на съем. Что все занято пожилой дамой, кузиной хозяина. А сам хозяин, ландшафтный архитектор, живет Лондоне. Сейчас госпожи Хенесси нет дома, но через час она должна вернуться.
Через час мы пришли снова. Госпожа Хенесси сказала нам поначалу то же самое: единственное свободное помещение предназначено для хозяина и не сдается. Александр не мог смириться с этим. Он был просто зачарован увиденной красотой, ароматом и тишиной. Возможно, мужу показалось, что здесь ему станет легче. Госпожа Хенесси была удивлена и заинтригована: поляки, никто их не знает, чего от них ожидать? Мы пригласили ее на чашечку кофе. Рассказали о нашей жизни. На нее произвело впечатление то, как Александр воспринимает красоту, как он способен любоваться закатом. В конце концов она уступила и пообещала в тот же день написать хозяину в Лондон. Тот ответил согласием. Так мы получили возможность переехать в это прекрасное место.
Госпожа Хенесси показала нам наши апартаменты. Две террасы, впитавшие запах фиолетовых глициний, комната, где стояла античная мебель, а на стенах висели замечательные картины. У входа в кухню цвели огромные кусты камелии. Везде было очень много цветов и экзотических деревьев.
Когда на следующий день я пришла, чтобы покончить с формальностями, встретила канадскую писательницу Мейвис Галлант, ставшую впоследствии нашей доброй приятельницей. Мы прониклись друг к другу искренней симпатией, а Александр покорил ее разговорами о литературе. Благодаря ей мы познакомились с целой колонией англичан, оказавшихся очень милыми людьми. Среди них была детская писательница, у которой часто гостил Сэмюель Беккет. На время его пребывания она обычно освобождала комнату от мебели, так как он предпочитал спать на одних досках. Навещал ее и Т. С. Элиот со своей секретаршей, которая потом стала его женой.
Итак, мы жили в райском местечке на границе с Италией. Марио регулярно приносил прекрасные цветы и ставил их в старинные вазы. Нас навещали друзья из Парижа. Приезжал из Брюсселя брат Александра. Несмотря на самочувствие, оставлявшее желать лучшего, муж много и быстро писал.
Наступил 1957 год. Мы вернулись в Польшу. Накануне нашего приезда вышла книжка стихов Александра. Но не успел муж порадоваться этой новости, как его подкосил тиф.
Однажды поздним вечером, когда я еще сидела у него в больнице, пришло известие, что этот его сборник признан лучшей книгой года и автору присуждается награда. Через некоторое время, уже после того, как Александр вышел из больницы, он получил стипендию Форда, позволявшую провести год во Франции (Форд в то время назначал шесть таких стипендий в год), так что мы снова могли выехать. Нужно сказать, что Анджей с сентября 1957 года находился в Бельгии у родственников. Получить разрешение на его выезд было непросто, но это удалось уладить. Еще на вокзале, провожая его, я сказала, что если он не захочет возвращаться в Польшу, то пусть остается. Тогда еще я не знала, что Александр получит стипендию и у нас появится возможность вновь отправиться во Францию. В связи с тем что сын гостил за границей, у нас возникли трудности с оформлением паспортов. Ведь в те времена кто-то из семьи должен был оставаться в стране в качестве своеобразного заложника. Пришлось приложить много усилий, чтобы эта поездка состоялась.
Наши старания увенчались успехом. Мы приехали в Париж в 1958 году. В скором времени вся семья была в сборе. Так началась наша жизнь в эмиграции.
Сразу по приезде, если меня не подводит память, мы остановились в парижском Пен-клубе, недалеко от Елисейских полей. Там у нас была довольно удобная комната. По утрам подавали кофе. Но питаться мы должны были в городе. Стипендия же составляла тогда сто тысяч старых франков. Будь у меня там возможность готовить еду самой, этих денег вполне бы хватило, но посещение ресторанов существенно подрывало наш скромный бюджет. Поэтому я покупала консервы и старалась потихоньку что-нибудь из них приготовить в стенах самого Пен-клуба.
Трудно сейчас припомнить последовательность всех наших переездов в Париже. Но, по-моему, когда закончился срок нашего пребывания в Пен-клубе, мы переехали в дом, где размещалось польское эмиграционное издательство «Культура». Жили мы там в пристройке. В нашем распоряжении были три комнаты, кухня и ванная. Какое-то время мы делили это жилье с Романом Поланским. Он занимал одну комнату, но являлся туда только переночевать. Должна сказать, что все относились к нам очень доброжелательно. Мы не чувствовали себя здесь чужаками. Иногда даже казалось, что территория, на которой расположен издательский дом «Культура», — это маленький кусочек Польши. Однако шло время. Нужно было задуматься о том, как жить дальше, как заработать средства на существование, как определиться с постоянным жильем. Для Александра особенно важным было обрести возможность спокойно заниматься творчеством. Болезнь мужа напоминала о себе с новой силой, изнуряя его физически и морально. Правда, он не переставал писать.
Мы поняли, сколько сил и упорства требуется, чтобы приспособиться к жизни в эмиграции. Помог счастливый случай. Один наш знакомый, будучи культурным атташе в Италии, познакомился там с очень богатым человеком Умберто Сильвой, мечтавшим открыть свое издательство, но не имевшим ни малейшего представления об издательском деле. Наш знакомый порекомендовал ему Александра, у которого был довольно богатый опыт в этой сфере деятельности. Мы приехали в Геную. Сильва поселил нас в прекрасном отеле, чтобы Александр мог хорошо отдохнуть перед началом работы. Отель «Виктория» считался фешенебельным. Туда приезжали только очень богатые люди. Таким образом из крайне скромных условий мы вдруг попали в люкс. Но через несколько дней окружающая роскошь стала угнетать нас. Богатство выглядело чересчур вызывающе. На ужин в большом зале, например, все дамы являлись надушенными, в вечерних платьях и драгоценностях. Как правило, в конце недели сюда съезжались богачи из близлежащих мест. И я — возможно, из духа противоречия — предпочитала приходить на ужин в простом свитерке, несмотря на то что у меня были с собой какие-то вечерние туалеты. Зато остальное — море, постоянно меняющее свои цвета, мимозы, пальмы — все это было прекрасно. Воздух был насыщен пьянящими ароматами, а по вечерам в кустах празднично сверкали светлячки.
В то время в парке Нерви проходил международный фестиваль балета. Приехавший туда наш польский балетмейстер Войчиковский разрешил мне приходить на репетиции, где я любовалась сказочной пластикой и грацией танцоров.
Подходила к концу вторая неделя нашего пребывания в отеле «Виктория», а Сильва все еще откладывал переговоры, занимаясь завершением каких-то других дел. Нам стало неудобно так долго пользоваться столь дорогостоящим гостеприимством. Даже когда к нам приехал приятель и мы захотели угостить его коньяком в баре, денег с нас не взяли. Оказалось, что Сильва заранее оплатил все наши возможные расходы.
Наконец начались долгожданные переговоры о создании издательства и об условиях работы. Сильва принял нас в своем шикарном жилище на тридцать пятом этаже с прекрасным видом на порт. Сама квартира была великолепно меблирована. Ее украшали гобелены Лурсака, ковры, люстры. Всюду стояли цветы. Стол обслуживали официанты в белых перчатках. Жена Сильвы работала учительницей в школе. Это была скромная женщина, безропотно подчинявшаяся мужу. Тем не менее одета она была хорошо и выглядела очень элегантно. Прислуга размещалась в чердачном помещении и питалась отдельно. Когда мы смаковали шампанское, они на кухне ели макароны и не имели права даже прикоснуться к пирожным. (Сильва потом часто приглашал нас к себе или в дорогие рестораны, где цены были невероятно высокими, иногда переходя за сто тысяч лир.)
Александру Сильва платил ежемесячно двести пятьдесят тысяч лир и ежедневно присылал за ним машину с шофером, чтобы отвезти его из Нерви в Геную. Ват составил план работы издательства. Он собирался издавать в переводе на итальянский книги польских, английских, французских и немецких авторов. Сильва хотел, чтобы дело велось с большим размахом. Ему уже мерещилось, что его издательство станет самым популярным из всех существующих в Италии. Как-то Александр случайно обмолвился о своем знакомом, работающем в ЮНЕСКО. Сильва сразу же попросил пригласить его, чтобы обговорить возможность сотрудничества. Ват не был убежден в целесообразности подобного шага, однако Сильва настаивал. И, когда этот знакомый приехал вместе со своей женой в Нерви, Сильва устроил прием в самом фешенебельном ресторане, который уже был закрыт в связи с окончанием сезона. По просьбе Сильвы его открыли и сервировали столы в огромном зале, декорированном цветами. Специально для этого вечера работал бар, был приглашен оркестр. И все это для шести человек… Можно только догадываться, в какую сумму вылился банкет. Кстати сказать, знакомый Александра не занимал в ЮНЕСКО какую-то большую должность. От него вообще ничего не зависело. И муж предупредил Сильву об этом. Но тому нравилось щегольнуть своим богатством. (Жизнь Умберто Сильвы была бы достойна подробного описания. Нищета и богатство. Неумение быть счастливым. Чрезмерные амбиции. Стремление заставить весь окружающий мир уважать себя…) Однако Вата все это раздражало. Он не понимал такого поведения по отношению к сотрудникам, полностью от него зависящим, и к переводчикам, единственным заработком которых была работа у него. Александр не выдержал и через полтора года подал в отставку.
Кроме того, идеальным местом для жизни Ват считал не Италию. Когда он говорил, что пора возвращаться домой, то имел в виду Францию. И это понятно — Александр не хотел возвращаться в Польшу из-за сложившейся там политической обстановки, в нормальных условиях мы бы никогда ее и не покинули. Побывав в Италии, Калифорнии, других местах, мы решили для себя, что единственное место на земле, где нам бы хотелось жить (разумеется, кроме Польши), — это Франция, а точнее — Париж.
Правда, если бы Александр так не вникал в закулисную сторону работы у Сильвы, то кто знает… Возможно, будь у нас средства к существованию, мы бы и попробовали остаться в этой стране. Признаться, Италия очаровала нас обоих красотой природы. Все там выглядело как-то необыкновенно. Однажды в Сицилии нам довелось увидеть отверстия, выдолбленные в скалах, которые служили убежищем для нищих. Это даже нельзя было назвать жильем. Но люди целыми семьями отогревались там холодными ночами, собираясь вместе вокруг небольших костерков. Их живописные лохмотья, склоненные над огнем головы и освещенные пламенем лица напоминали картины французского художника Жоржа де Латура. Зрелище было настолько захватывающим, что ощущение реальности происходящего вернулось к нам не сразу. Лишь постепенно мы начали осознавать, что видим живых людей, замерзающих и голодных, находящихся в крайней нужде. Непостижимо, но даже трагическое и безобразное обретало художественную образность, будоражило воображение. Что-то языческое охватывало нас, ослепляло, словно заслоняя горькую действительность. Нужно было работать вместе с Сильвой, чтобы не забывать о настоящей жизни.
В Италии с нами произошла еще одна история, о которой Александр вспоминает в своей книге. Связана она с падре Пио. В Таормине мы познакомились с одной старушкой, которая старалась помогать неизлечимо больным. Раз в год она ездила с ними к падре Пио, известному совершаемыми им чудесами. Молва говорила, что он исцеляет безнадежных. Узнав о страданиях Александра, она как-то вечером принесла ему волосяную рукавицу, пропитанную кровью «святого». Старушка сказала мужу, что нужно приложить ее к той части лица, которая болит больше всего. Александр так и поступил. Это еще одно свидетельство того, что он уже потерял всякую надежду на прекращение болей. Стояла теплая ночь, насыщенная ароматом цветов и трав. Но в этот аромат проникал сильный, доминирующий надо всем запах запекшейся крови, который шел от принесенной рукавицы и вызывал у меня сильную тошноту. Александр лежал с несчастным видом в состоянии глубокой задумчивости, пытаясь пробудить в себе веру в чудо. Я чудеса отрицала и очень сочувствовала мужу — до чего же он дошел в своих муках, что захотел в это поверить. Заснуть было трудно. Заполонивший комнату смрад сделал это вообще невозможным. Стала упрашивать Александра избавиться от рукавицы. Он сдался. Я выложила ее за окно, которое тут же закрыла. Потом мне не давали спать мысли о собственном эгоизме.
О падре Пио мы слышали и от Иньяцио Силоне, итальянского писателя, который считал, что Александру необходимо съездить к «чудотворцу». В то время слава сицилийского монаха гремела по всей стране. Везде только и говорили о его даре исцелять страждущих. Короче, нас убедили поехать к нему. Один знакомый, поляк, дал нам письмо к падре Агостино, который говорил по-французски и находился в том же монастыре. Туда съезжались люди со всего света. Они неделями ждали встречи со «святым», чтобы получить его благословение.
Местность под названием Сан-Джованни, где находился монастырь, представляла собой пустынное пространство возле горы Гарган. С появлением падре Пио там быстро возникли маленькие гостиницы, ларьки, в которых продавалась всякая всячина, и прежде всего портреты целителя. Мы остановились в одной из этих маленьких гостиниц. Комната, выбеленная известкой, была обставлена довольно скудно — две узкие кровати, два стула и стол. На стене висело распятие. Я отправилась к падре Агостино. Он прочел письмо и назначил Александру встречу на следующий день. Нужно было прийти к пяти часам утра, когда падре Пио служил мессу.
Костел был переполнен. Под ногами крутились дети. Итальянцы перешептывались между собой. К ступенькам алтаря приник паренек, на которого мы еще вчера обратили внимание. Он шел по улице и распевал непонятные нам песни. Парень приехал не то из Англии, не то из Америки. В нем чувствовалась какая-то особая пылкость. Было непонятно, что терзает эту молодую душу. Падре Пио начал службу, отгоняя назойливых мух руками в окровавленных волосяных рукавицах. Похоже, что их жесткие волосы постоянно царапали кровоточащие ранки, и падре регулярно смазывал их йодом. Когда юноша, преклонивший колени на ступенях алтаря, придвинулся ближе к падре, тот грубо оттолкнул его ногой.
После завершения мессы падре Агостино проводил Александра в монастырскую келью падре Пио. «Чудотворец» с ходу начал расспрашивать его о большевиках в Польше. Падре Агостино выступал в роли переводчика. Потом падре Пио дотронулся руками до больных мест и… попрощался. Падре Агостино должен был назначить время новой встречи в костеле, во время которой Александру предстояло исповедаться. И, хотя падре Пио разговаривал только на каком-то сицилийском диалекте, ходили слухи, что понимает он все языки!
В нашей гостинице остановилась семья с маленькой дочкой, у которой были парализованы ноги. Кроме родителей с ней приехали и бабушка с дедушкой. Я наблюдала, с каким трепетным чувством, с какой верой ожидали они встречи со «святым», какие надежды на него возлагали. После полудня в монастырских сенях падре Пио должен был раздавать благословение всем страждущим. Мы тоже пришли. Возле нас стояла эта семья со своим несчастным ребенком, который не мог ходить. Девочка, видимо, была тяжелой. Во всяком случае, мать с большим трудом удерживала ее на руках. Огромная толпа напряженно ожидала появления «чудотворца». Вскоре появился падре Пио. Самодовольный и грубоватый, он похлопывал по плечам теснивших друг друга женщин, пытавшихся поцеловать его руку. Когда же к «целителю» приблизилась наша соседка и, упав на колени, протянула к нему больную девчушку, падре едва взглянул на женщину и автоматическим жестом начертил в воздухе крест над обездвиженным ребенком. Затем он прошествовал дальше, шутя и продолжая похлопывать по плечам женщин, страстно припадающих к его рукам и стремящихся коснуться губами окровавленных рукавиц.
Я была возмущена. В какую-то секунду наши взгляды пересеклись. И он, кажется, учуял во мне нечто похожее на ненависть. Падре Пио произвел на меня впечатление недоброго, примитивного человека. В его усмешке пряталась хитрость.
Окружающие падре монахи, откормленные, с брюшками, казались более добродушными, но и они упивались своей властью над измученной толпой. Популярности падре Пио немало способствовала и больница, построенная на деньги его американских приверженцев. Мы с Александром побывали там. Повсюду холодный мрамор. Ни единого цветка, ни одного зеленого листика. Лежали здесь люди, приехавшие издалека. Мы спросили у сестры, как часто падре Пио заходит сюда. Оказалось, что он вообще здесь не бывает, но это не имеет никакого значения, так как дух его постоянно с больными. Нам даже рассказали о телесном раздвоении падре и том, что здесь всегда ощутимо его присутствие.
На следующий день Александр явился в костел на исповедь. Прежде всего падре Пио спросил, когда он последний раз исповедовался. На это муж правдиво ответил, что до нынешнего дня — никогда. Тут падре, вероятно, показалось, что разверзлось пекло и перед ним предстал сатана в облике Александра. Святой отец начал отмахиваться от Вата и попросту выгнал его из костела.
Я ждала мужа в гостиничном номере. Ват вернулся совершенно обессиленный, разбитый, равнодушный ко всему и смирившийся с нереальностью выздоровления. Молча лег на кровать. А когда рассказал о том, как прошла «аудиенция», меня охватило бешенство. Я выбежала на улицу. Стоял погожий день. Небо было чистым, безоблачным. В отчаянии я протянула руки к небу и почти в голос крикнула, обращаясь к Богу: «Если Ты существуешь, пусть меня поразит гром!» И гром грянул. Сначала я услышала его раскат, а потом ощутила запах серы. Запах проникал в нос, словно убеждая в том, что все это не галлюцинация. Мне очень хотелось спросить у первого встречного, не слышал ли он грома, но я не смогла из-за незнания итальянского. Потрясенная только что пережитым, я побежала в монастырь и привела к Александру падре Агостино, который попытался успокоить его, сказав, что не все в мире зависит от падре Пио, что надо всем Бог. В этих его словах явно звучало сомнение по отношению к «святому».
Нам не оставалось ничего другого, кроме как упаковать вещи и вернуться в Таормину. Александру — с утратой призрачной надежды на улучшение, мне — со странными воспоминаниями о запахе серы. По дороге мы говорили исключительно о благоухании фиалок и лилий, услаждавших обоняние падре Пио. А из окна автобуса видели рабочих, выравнивающих дорогу. Выглядели они голодными и истощенными.
Это был единственный случай, когда Ват попытался поверить в чудо. Но, к сожалению, ничто не смогло облегчить его страданий. Никогда больше мы не вспоминали об этой поездке.
Зато невозможно было забыть Рим и Иньяцио Силоне, которого мы там навещали. Александр испытывал к нему самые теплые чувства. В их судьбах оказалось много общего, они даже родились в один и тот же день 1900 года. У Иньяцио была очень красивая жена. Кажется, ирландка по происхождению. В их доме мы впервые встретились с голландской писательницей Якобой ван Вельде. Ее книгу «Большой зал» я потом перевела на польский. Там же состоялось знакомство с вдовой красного венгерского президента графа Михая Каройи[46]. Она тогда хотела создать в своих владениях в Венеции фонд его имени.
Помню, как через год или два, в очередной раз приехав в Венецию, мы пошли ее навестить. Дома хозяйки не оказалось. Гуляя по близлежащим окрестностям, мы наткнулись на несколько маленьких деревянных домиков. Оказалось, что они принадлежат фонду. Сюда на лето приезжали художники и писатели. Домики эти действительно были сугубо летние. Сейчас была зима, но перед одним из этих строений стоял мужчина средних лет и подавал нам знаки, приглашая подойти поближе. От него мы узнали, что графиня на некоторое время уехала. Он же, несмотря на холод, должен оставаться здесь, в своем домике, так как больше ему некуда деваться. Это был талантливый художник, румын. Он разговаривал с нами весьма темпераментно. Вместе с ним мы вошли в домик, где было сыро и очень зябко. Его жена пыталась согреться возле маленькой печурки. Мы пригласили их в пансионат, чтобы они немного отдышались в тепле и выпили горячего чаю.
Еще по дороге художник объяснил причину своего возбуждения, а точнее — негодования. В Венеции тогда жил Шагал. У него был большой дом с садом. Наш новый знакомый мечтал с ним встретиться, но все его письма оставались без ответа. И именно сегодня он случайно встретил мэтра. Художник сказал, что не собирался ни о чем просить. Просто само присутствие Шагала в Венеции много значило для него. Это скрашивало его одиночество, помогало переносить изгнание и безнадежность морозной зимы. Поехать в Париж было нереально, ведь денег не хватало даже на краски. Единственное, чего он ожидал от Шагала, — проявление какой-то человеческой теплоты, понимание, разговор об искусстве. Однако Шагал, услышав возглас: «Мэтр!», нехотя остановился, всем своим видом выказывая нетерпение, а увидев протянутую для пожатия руку румынского художника, сказал только, что очень спешит, и быстрым шагом пошел прочь. Поведение Шагала унизило человека, чудом выбравшегося из своей страны, где он подвергался преследованиям. Этот художник занимался церковной религиозной живописью. О выставке в Париже трудно было даже мечтать. Мы попробовали по возвращении из Венеции помочь ему, но не смогли. Все галереи требовали огромных денег. Судьба очередного изгнанника…
Еще одно интересное знакомство в Венеции — знаменитый английский театральный художник Гордон Крэг. Его работы в начале 1920-х годов открыли новую эпоху в европейском театре. Мы провели с ним несколько месяцев в пансионате, где он жил уже около семи лет. И хотя понимать его было трудно (он говорил только по-английски), мимика Крэга была настолько красноречива, что каким-то чудом мы все-таки его понимали. Иногда он выкрикивал отдельные французские слова посреди английской речи. Бывало, что переходил на птичий свист. Нашему взаимопониманию способствовала и симпатия, которую мы испытывали друг к другу. Мы были просто очарованы этим человеком. Крэг с большим энтузиазмом вспоминал свою мать — великую английскую актрису Эллен Терри. Он любил рассказывать о театральных приключениях, об актерах, о знаменитой Элеоноре Дузе[47]. Однажды Крэг спросил ее, в каких декорациях она предпочитает играть одну из своих ролей. Дузе ответила: «Луна и любовь». В черной пелерине, большой черной шляпе, с развевающимися седыми волосами, Крэг выглядел прекрасно, хотя тогда уже был довольно стар. Как сейчас вижу его на террасе, когда он каким-то неподражаемым способом подзывает к себе пролетающую птичку, чтобы ее покормить.
Крэг эффектно произносил знаменитые монологи. В день нашего отъезда он под моим окном прочел на прощание монолог Ромео.
Пансионат стоял на холме, откуда открывалась замечательная панорама. Вечерами мы располагались в удобных креслах и любовались открывавшимся видом, силуэтами видневшихся издалека гор. На небе появлялся месяц, стояла умиротворяющая тишина, дурманили сладкие запахи цветов и трав.
Мать хозяина пансионата с подозрением смотрела, как я укутываю одеялом ноги Александра. Она боялась, что у него туберкулез и это может напугать остальных постояльцев. В то время считалось, что климат Венеции благотворно действует на таких больных.
Незадолго до нашего отъезда в Калифорнию, примерно году в 1962-м, мы попали в дом для так называемых интеллектуалов, который находился на небольшом расстоянии от города Грас. Здесь собирались профессора Сорбонны, именитые писатели. Место было изумительное. Потрясающая природа. Рядышком на возвышенности — маленький городок Габрис. У подножия высоких холмов пролегала красивая дорога. По другую ее сторону простиралась впечатляющая панорама: густая зелень, ветвистые оливковые деревья, развалины старых овчарен, сложенных когда-то из серого камня. Если утро было ясным, то можно было увидеть берег Корсики. Я нигде не ощущала аромат трав и земли так отчетливо, как там. Тишину нарушал только шелест растений и щебет птиц. Цветовая палитра была такой необычной, насыщенной и чистой… Казалось, только Бог способен сотворить подобное великолепие. Александр очень полюбил это место. Он написал там много стихов. В том числе и «Средиземноморские стихи».
Первооткрывателем этого земного рая стал Андре Жид. Потом он показал его своей богатой приятельнице из Люксембурга, которая построила тут красивый дом. В конце жизни она завещала его для благотворительных целей.
Вокруг дома были выстроены комфортабельные «кельи» с белеными стенами и окошками, выходящими на луг, цветники и оливковые деревья. Время от времени приходил пастух со стадом овец, и тогда раздавался перезвон колокольчиков. Была там и прекрасная библиотека, где царили тишина и покой, где люди могли негромко общаться друг с другом.
Иногда мы навещали жившую неподалеку мать Антуана де Сент-Экзюпери. Она приглашала нас на обед и показывала свой «музей», в котором были собраны фотографии ее сына. Особое впечатление произвели на нас снимки, где он в летной форме. Вдова писателя тоже жила поблизости, но женщины не общались друг с другом. Мать недолюбливала невестку.
По-моему, в 1963 году сюда приехал наш польский писатель Ян Котт[48]. Незадолго до того он перенес операцию, и некоторое время пребывал в Венеции. Потом его жена должна была вернуться в Польшу, а он приехал к нам. Мне было поручено его опекать. То есть я должна была следить за тем, чтобы он отдыхал после обеда, спал при открытом окне и не обращал слишком много внимания на красивых и стройных женщин.
В то время приятельницы Андре Жида уже давно не было в живых, и домом управляла ее дочка — госпожа Вено, которая была известна своими левыми взглядами. Однажды нам позвонил Веркор. Он был с женой и свояченицей в Ментоне и хотел с нами встретиться. Пригласили его на обед. Я попросила разрешения у госпожи Вено принять его в библиотеке, предупредив, что с нами будет и Ян Котт, чье имя было известно в связи с выходом его книги «Шекспир — наш современник». Госпожа Вено робко спросила, не сможет ли и она там присутствовать. Разумеется, я с радостью согласилась.
Во время обеда Веркор начал нам рассказывать о своей поездке в Китай. (Нужно сказать, что за несколько недель до приезда сюда мы навещали Веркора в его деревенском домике, переделанном из мельницы и стоящем на берегу реки. Это было уже после того, как они с женой вернулись из Китая. Они тогда приняли нас в китайских одеждах и поили китайским чаем, который наливали в китайские чашечки из китайского чайника.) Рассказ Веркора об этой поездки сверкал ослепительными красками. Все, что он там видел, казалось ему прекрасным, новым, пробуждающим оптимизм. Бывшие бедняки просто «купались» в рисе. Самого Веркора с женой встречали по-королевски. С потрясающей наивностью он поведал, что они с женой отправились туда всего с двумя чемоданами, а вернулись с несколькими сундуками подарков. Он не заметил ничего, кроме благотворного влияния коммунистического режима Мао Цзедуна.
Ян Котт внимательно слушал Веркора, насмешливо улыбаясь, но тот, целиком поглощенный радужными воспоминаниями, не обратил на это внимания. Госпожа Вено внимала гостю с полным доверием, так как его слова абсолютно согласовывались с ее собственными левыми убеждениями. Вдруг Ян спросил Веркора, когда именно тот посетил Китай. Оказалось, что они оба находились там в одно и то же время. Но то, что видел Ян, никак не совпадало с тем, о чем рассказывал Веркор. Котт видел там террор, страх, неволю. Ему каким-то чудом удалось добраться до места, на несколько десятков километров удаленного от столицы. Там он встретил заключенных, строящих мост. Они стояли цепочкой на протяжении по меньшей мере километра и передавали друг другу необходимые для строительства детали. Они двигались как механизированные скелеты. Было очевидно, что в них уже почти ничего не оставалось от живых людей. Мертвые глаза, механические движения, застывшее выражение лица. Так существовали узники во время правления замечательного Мао. В лагерях десятки тысяч умирали от голода.
За малейший «проступок» сурово наказывали. А здесь, на парижских улицах, стремились к коммунизму на китайский манер. Может быть, это смешно, но скорее — страшно. Видел Ян и как выбивали стекла в домах, где на подоконниках стояли цветы, ибо это «признак буржуазности».
Мой муж тут же привел свой разговор с одним выдающимся советским писателем, который рассказал ему следующее: «Наш далекий родственник, занимавший высокий пост в ГУЛаге, поехал в Китай как эксперт по организации лагерей. Ненадолго. Но он так подорвал там свою нервную систему, что был вынужден вернуться раньше срока. Естественно, поразило его не уничтожение заключенных. Но созерцать эти длинные шеренги автоматов с безумными лицами было выше его сил. Таков Китай с его старыми традициями жестоких пыток…»
Я в свою очередь припомнила рассказ знакомой, которая тоже недавно побывала в Китае в составе женской делегации. Она присутствовала на одном жутком сборище, где мать уже сидевшего в тюрьме сына должна была публично осудить его, так сказать, раскрыть полностью его вину и тем самым отправить его в лагерь, а может, и на смерть. Бедная женщина говорила уже час, но присутствующим было мало. «Еще! Еще! — кричали они. — Ты не рассказала всего!» Женщина упала в обморок. Ее облили водой, поставили на ноги и велели продолжать. Забыть такую историю невозможно.
Затем Веркор снова подвергся атаке со стороны Александра. Аргументы гостя теряли силу, было трудно вывернуться из этой ситуации — ничего такого не видел, не заметил.
Должна сказать, что почти вся компания в этом доме была чересчур левой. И поначалу они пытались спорить с Ватом, когда он рассказывал им правду о советском строе.
Вечерами мы все вместе играли во что-нибудь, а потом, опять же вместе, ходили гулять. Неожиданно одна из женщин стала относиться к нам намного прохладней. Однажды Александр спросил ее почему. Она тотчас ответила, что ей известно: все поляки — фашисты и антисемиты. И все, что Ват рассказывал о Советах, связано с его польским фашизмом.
Когда мы только приехали в Париж из Польши, нас очень тепло встретили супруги Моррис. Они оба были пишущими людьми. Жена была известна как автор книги о Хиросиме[49]. Мы познакомились еще в Польше, куда она приезжала на какой-то съезд. Тогда между нами возникла взаимная приязнь. Моррисы пригласили нас в свой особняк под Парижем, построенный в стиле Малого Трианона. Нужно сказать, что они были на редкость богатыми людьми. Он — сын чикагского короля консервов, она — дочь шведского короля стали[50]. В то же время она страстно исповедовала идеи коммунизма, а знаменитую речь Хрущева называла враньем. Если при ней заводили речь о московских тюрьмах, она тут же переводила разговор на тюрьмы в Греции. Наша дружба закончилась, когда она узнала о том, что мы собираемся в Калифорнию. «Ват продался за доллары» — таким было ее резюме. Порвали отношения с нами и их друзья Веркоры. Я уже не раз говорила о своей аллергии на коммунистов. Но не могу не сказать, что французские коммунисты — это явление, далеко выходящее за границы здравого смысла.
Кстати, по поводу советского коммунизма хочу добавить еще один факт. Однажды в Алма-Ату приехал с визитом из Москвы американский посол. Разумеется, высокого гостя встречали и сопровождали местные власти. И в этот день на один час его пребывания город буквально изменился. Витрины продовольственных магазинов ломились от изобилия разнообразных продуктов. А обычно там лежали лишь муляжи ветчины и колбас. Изумленные люди выстроились в очереди и терпеливо ждали. Однако, как только посол уехал, все это было мгновенно, без всяких объяснений спрятано и муляжи вернулись на свое место. Потемкинские деревни. Это извечная реалия России.
Полное взаимопонимание в восприятии Советов мы нашли среди польской эмиграции. Тут все были единодушны. С тех пор как Польша попала под каблук Советской России, каждый на себе ощутил «преимущества» этого строя. Среди польских эмигрантов было много людей, с которыми мы поддерживали тесные отношения. Особенно часто к нам приходил сотрудник парижской «Культуры», бывший солдат армии Андерса Константы Еленский[51]. С ним было на редкость интересно общаться. Александр говорил, что у него электронный мозг. Еленский прекрасно разбирался в поэзии и вообще в искусстве. Каждый его приход был для нас большой радостью. Благодаря Еленскому удалось издать еще один сборник Вата. Александр сам отбирал для него стихи. К сожалению, это издание вышло уже после его смерти.
Я рассказывала, что, несмотря на давно возникшее желание покинуть социалистическую Польшу, мы в силу обстоятельств, упомянутых ранее, смогли сделать это только в конце 1950-х годов, когда втроем оказались за границей. В Польше оставались две мои сестры и сестра Александра. Естественно, мы не хотели ни разрывать отношения с ними, ни портить им жизнь. Поэтому даже предисловие к книге Абрама Терца (Андрея Синявского) «Фантастические рассказы», которая вышла в «Культуре», Александр подписал другим именем.
В июле 1962 года Александра пригласили в Оксфорд на конференцию, посвященную советской литературе периода 1917–1962 годов. Там муж представил реферат «Семантика советского языка». На этой конференции присутствовал известный профессор Калифорнийского университета Глеб Струве, которому реферат очень понравился, и он пригласил мужа в Беркли. Замечу, что Оксфорд произвел на нас прекрасное впечатление, и Александр написал там стихотворение, посвященное Еленскому.
Вскоре Александр получил официальное приглашение в Беркли. Нужно было оформлять документы. Но у нас еще были польские паспорта, поэтому все затянулось. Польский консул, с которым мне пришлось общаться, клялся и божился, что вот-вот придет ответ, и просил подождать. Но никакого ответа мы так и не получили. Тогда мы без колебаний начали процедуру оформления французских паспортов. И наконец стали свободными людьми. Весь мир был открыт перед нами. Можно было ехать в Калифорнию.
К большому сожалению, должна сказать, что, когда мы уже полностью отказались от польского гражданства, у наших родственников, оставшихся в Польше, начались проблемы. Уволили мою сестру, работавшую в издательстве. С карьерой сестры Александра, которая была актрисой, тоже было покончено. По выражению мужа, «мы собственными руками оборвали пуповину», связывавшую нас с Польшей. Александр переживал это очень болезненно. Ведь в нормальных условиях мы могли бы с польскими паспортами жить в любом конце земного шара и приезжать в Польшу когда захочется. Однако коммунистические идеалы никак не согласовывались со свободой передвижения.
Сначала мы прилетели в Сан-Франциско, а оттуда на машине, которая нас уже ждала, добрались до Беркли. Приближалось Рождество 1963 года. Улицы были украшены, а в окнах домов светились фонарики. Остановились мы в гостинице, но уже через неделю переселились в свой дом рядом с университетом, где и прожили все полтора года.
Беркли — очень приятный город. Нас поразили леса секвойи. Многие деревья росли там уже не одну сотню лет. Честно говоря, мы возлагали большие надежды на калифорнийский климат. Думали, что Александру станет легче, но этого не произошло.
В Беркли нас приняли очень доброжелательно. Люди всегда были готовы помочь. Кроме того, нам повезло встретить там известного польского поэта и переводчика Чеслава Милоша, который уже несколько лет жил в Калифорнии. Дружба с ним была неоценима. Не представляю, с кем еще мог бы столько разговаривать, получая удовольствие от беседы, Александр в его ужасном состоянии. Во многом благодаря Милошу мужу удалось написать главную книгу своей жизни «Мой век». Он очень страдал в конце жизни, считая, что из-за болезни навсегда утратил способность к творчеству.
Не могу не вспомнить теплым словом и председателя Центра славистики, который, видя, с каким трудом дается Александру работа за письменным столом, предложил ему наговаривать текст на магнитофонную ленту. А я потом переносила сказанное на бумагу. Помню, как, услышав свой голос, муж зашел в мою комнату, немного постоял и, заткнув уши, быстро выбежал с криком: «Ужасно! Ужасно!» Потом он уже никогда больше не присутствовал при этом. Его раздражало услышанное. Он был очень недоволен собственным изложением событий, но силы его были исчерпаны. Он боялся, что у него вообще не хватит времени закончить книгу.
Иногда Александр хотел изменить что-то в уже переписанном мною тексте. Так, он попытался поправить страницы, связанные с киевской тюрьмой. Чеслав Милош, написавший потом предисловие, включил этот фрагмент в книгу. Но я знаю, что это был лишь начальный вариант правки.
Закончила я переписывать текст с магнитофонной ленты уже после того, как Александра не стало.
Смерть мужа не была для меня неожиданностью, хотя я и не хотела верить в то, что это может случиться. В течение шестнадцати лет его болезни и нечеловеческих страданий мрачное предчувствие витало в воздухе. Я видела, что Александр предчувствует свою близкую кончину, хотя мы об этом не говорили. Только один раз он сказал в полушутливом тоне: «Как было бы хорошо лечь вдвоем на белые простыни и заснуть. Вместе». Обычно муж никогда не заводил разговоров о своей приближающейся смерти. Он не хотел нагнетать мрачное настроение. Напротив, Александр заботился о моем покое, не хотел, чтобы я жила в страхе. Об этом говорит и «Последняя тетрадь», лежавшая у его ног, когда я увидела мужа уже отошедшим в мир иной.
Он был жизнелюбивым человеком. Никогда не впадал в пессимизм. Когда какое-нибудь лекарство вдруг на время помогало ему, он тут же забывал о страшных болях и начинал строить планы на будущее. Ему хотелось писать, сделать все, что было невозможным во время жутчайших приступов. В минуты облегчения возвращался прежний Александр — талантливый человек, умеющий ощутить вкус жизни, любящий общаться с людьми, отдающий себя творчеству. Он хотел, чтобы и я присоединялась к его радости. Но мне было трудно забыть (я знала), что радость эта дается максимум на неделю и каждый день, каждый час приближает его к новому погружению в отчаяние. Александра мое поведение расстраивало. Он говорил, что, как только чувствует себя лучше, его жена начинает провоцировать новую вспышку болей. Я же была слишком уставшей, хотя, честно говоря, это меня не оправдывает. Тем не менее, посердившись немного, он сам пытался понять меня. И тогда сердце болело еще больше. Мне иногда казалось, что я долж на выходить на сцену, где, несмотря ни на что, нужно улыбаться и быть красиво одетой. Ведь ему было легче, когда я хорошо выглядела.
Александр был, как говорится, человеком «без кожи». Он обладал повышенной чувствительностью. Это свойство отражалось и на его взаимоотношениях с людьми. Нередко он понимал людей лучше, чем они его. К сожалению, это касается и врачей. Когда наступал очередной период усиления болей и лекарство, которое он принимал, уже не действовало, начинался поиск чего-то более сильного. Он очень не хотел принимать морфий. Боялся, что это плохо отразится на его интеллектуальных способностях, что он совсем не сможет работать. Однажды в связи с потребностью в новом препарате муж обратился к двум известным профессорам (один из которых был поляком по происхождению). Эти двое были его последней надеждой. Пока он сидел в ожидании приема, руки его дрожали от волнения. Однако эскулапы приняли это за нетерпение заядлого морфиниста и… выписали ему лекарство еще слабее прежнего.
С тех пор к Александру стал приходить родственник нашей невестки — врач, знающий и человечный. К сожалению, в то время уже ничто не могло помочь мужу. И было решено все же давать ему морфий. Врач сказал, что он не должен терпеть такие сильные боли. Это может убить его. По выражению лица мужа я увидела, что страдания усиливаются, старалась сделать ему этот укол до того, как он начнет сопротивляться, не желая притуплять свое сознание. Правда, шестнадцать лет жутких мучений так изнурили его, что сил отказываться от укола не хватало надолго. Оставалось только сетовать на тяготы и бренность земного существования. Но сдаваться он не хотел. По утрам Ват начинал раскладывать пасьянс, чтобы проверить, как работает «башка», и очень радовался, когда пасьянс удавался.
Я приносила ему письма, приходящие на разных языках, надеясь, что они хоть на миг отвлекут его от болей. Так мы существовали уже после нашего возвращения из Калифорнии. Несмотря на прекрасное жилье, большой балкон, откуда можно было любоваться зелеными газонами, яркими цветочными клумбами, высокими тополями, настроение не улучшалось. Если я звала Александра немного пройтись, он отвечал, что я не отдаю себе отчета в его состоянии. Когда боли не давали Александру спать по ночам, он вставал и тихо нашептывал стихи на магнитофонную ленту. А так как в доме в клетке жила птичка, которая постоянно щебетала, то на магнитофон случайно был записан и птичий щебет. А стихи эти я нашла уже после смерти мужа.
Друзья и знакомые до последнего дня продолжали навещать Александра. К сожалению, он уже не всегда был в состоянии разговаривать с ними. Приходил и Кот Еленский, о котором я вспоминала ранее. У меня до сих пор хранится прекрасный рисунок головы Александра, сделанный Чапским[52] за два месяца до смерти Вата. Приехал и Чеслав Милош. Он долго пробыл наедине с Александром в его комнате. Когда я потом пошла проводить Чеслава до двери, он обнял меня на прощание и расплакался. Теперь я понимаю, о чем они говорили, хотя Милош тогда ничего не рассказал мне. Совсем мало времени оставалось до ухода Александра.
У мужа было записано, какие лекарства, когда и в каком количестве принимать. В основном это были болеутоляющие средства, которые он должен был получать в течение дня. На ночь Александр принимал нембутал. В ту последнюю ночь он взял сорок таблеток нембутала и уснул навсегда.
К этому исходу вела длинная дорога в шестнадцать лет. В последнем письме, лежавшем у его ног, он, прощаясь со мной, признавался, что мысль покончить с невыносимыми муками давно овладела им, что каждый раз, когда совсем не было сил терпеть, он хотел уйти.
Перед смертью он написал свое «Последнее стихотворение». Он хотел уйти — так было и в Париже, и в Италии, и в Калифорнии. Когда уже и морфий перестал помогать ему, когда он не мог даже выйти из дома, а только с трудом перебирался из кровати в кресло, стало ясно, что решительный шаг приближается.
Что поделать, в болезни человек чувствует себя страшно одиноким, даже если рядом его близкие. Александр подолгу сидел в кресле молча, с отсутствующим видом. Часто просил меня не задавать ему вопросов, так как ему трудно разговаривать. Он писал мне на клочках бумаги. Его движения становились заторможенными, какими-то механическими. Оживал он только тогда, когда приходил кто-то, кого он знал и любил, с кем мог вести разговор на интеллектуальные темы. Иногда дни проходили в абсолютной тишине. Я еще надеялась на его интерес к приходящим письмам. На то, что это сможет разрушить царившее молчание и некое отчуждение, вдруг возникшее между нами…
Однажды утром, когда муж принимал ванну, я заглянула, чтобы помочь ему вытереться. Его тело выглядело совсем молодым и даже порозовело от тепла. Взгляд Александра был устремлен куда-то вдаль. Потом, когда мы вышли на балкон, он попросил меня остричь ему волосы. Волосы у него были очень красивые, седые с голубоватым оттенком, мягкие, шелковистые, завитками спадающие на шею. Он наклонился, чтобы было удобнее стричь. А мне было очень жаль его волос. По сей день ощущаю их на своей ладони.
Погода стояла теплая. Легкий ветерок, тишина, изредка нарушаемая голосами играющих вдалеке детей. Все предвещало хороший день. Я не хотела думать ни о чем плохом, но тяжелые мысли не покидали меня ни на миг.
Неделей раньше мне нужно было встретиться с Анджеем, и на какое-то время пришлось оставить Александра одного. Он, нужно сказать, всегда приветствовал мои вылазки из дома, говоря, что я его единственный связной с окружающей жизнью. В тот раз мне пришлось задержаться, и вернулась я только поздним вечером. Подходя к дому, я посмотрела на окна, увидела свет в его комнате, и меня вдруг охватила сумасшедшая радость. Я побежала к нему, чувствуя радость от того, что он еще не спит, что я могу обнять и поцеловать его. Сказать: «Спокойной ночи, любимый».
В тот последний вечер я болтала с кем-то по телефону о каких-то пустяках. А когда повесила трубку, вдруг подумала, что уже поздно. Что он там один в своей комнате, наверное, очень уставший и, возможно, сонный. Вошла к нему. Он смотрел на меня неподвижным жадным взглядом и молчал. У меня перехватило горло. Странное это было молчание. Я пробормотала: «Дорогой мой, ты, наверное, очень устал, хочешь спать, а я тебе помешала». И поцеловала его. Он не ответил, но так вглядывался в мое лицо, словно хотел запомнить каждую его черточку. Потом я поняла, могу с уверенностью это сказать, что если бы он не заставлял себя молчать, то закричал бы так, что мне стало бы понятно его намерение. «Погасить свет?» — спросила я. Он кивнул. Я вышла, легла и стала читать книгу. Была на удивление спокойна. Где-то около полуночи услышала непонятные, похожие на храп звуки. Это было странно, потому что обычно он спал очень тихо. Подумала, что ему стало легче, и он крепко заснул. Погасила лампу и вздремнула. Александр же после того, как я вышла из его комнаты, вероятно, снова включил свет, чтобы положить у своих ног «Последнюю тетрадь» и принять эти сорок таблеток нембутала.
Утром показалось странным, что он мне не звонит. Обычно он, просыпаясь, звонил в маленький колокольчик, чтобы позвать меня. Был уже десятый час. Я тихо вошла в его комнату. Александр казался спящим. Голова лежала на подушке. Выражение лица было спокойным. Я поправила ему одеяло. Меня удивило, что он даже не пошевельнулся, ведь обычно он спал очень чутко. Я дотронулась до его головы, легонько погладила волосы. И только тогда что-то начала понимать. Обняла его за плечи и попыталась приподнять. «Проснись! — кричала я. — Проснись!» Он показался мне вдруг очень легким. Я совсем не ощущала тяжести его тела. Я осторожно опустила Александра, уснувшего навеки, на постель. Его голова, повернутая ко мне, снова покоилась на подушке.
Потом Ясь Лебенстейн, который сидел возле него в затемненной комнате почти до самых похорон, сделал несколько рисунков Александра на смертном ложе. У Анджея сохранилось два таких рисунка, но я до сих пор не в состоянии смотреть на них.
Тогда я не плакала, не кричала. Увидела у его ног «Последнюю тетрадь». На первой странице было написано: «Не спасайте».
«Живи, любимая. Спокойной ночи, свет мой, моя родная. Спокойной ночи, жизнь моя, мое все», — последние его слова, обращенные ко мне. Дальше он пишет сыну и родственникам, прося их позаботиться обо мне.
В этой тетради я обнаружила целый ряд прощаний со мной на протяжении всех этих шестнадцати лет. Он прощался со мной в Париже, в Италии, в Беркли. Оказывается, нестерпимые боли, изнуряющие его, подталкивали Александра к такому решению уже давно. Особенно после того, как он разуверился в том, что ему можно помочь. Александр боялся лишь не успеть, боялся проснуться однажды утром парализованным и уже не суметь осуществить свой план. Этот страх усилился после того, как его передвижения ограничились перемещением из кровати в в кресло. Поэтому он всегда держал при себе нужное количество нембутала.
«Ради Бога, только не спасайте!.. Это будет ужасно, если удастся спасти меня. Не могу даже подумать об этом. Сейчас это — мой главный страх. Не горюйте!..» — так написал Ват в «Последней тетради». Александр умер в пятницу, 29 ноября 1967 года. Похоронили его на кладбище в Монморанси.
После того как я потеряла Александра, мое горе было сопряжено и с переоценкой ценностей, и с переосмыслением собственной жизни, собственной личности. «Больше никогда» — эти слова лишают возможности укрыться за легкомыслием или самообманом, не позволяют что-либо исправить. Смерть высвечивает все, не оставляя убежища для недомолвок и лжи. Страдание, как увеличительное стекло, преподносит нам все события и поступки в мельчайших деталях. Передо мной прошла целая наша жизнь. И никакое «завтра» уже не сможет вернуть ничего из упущенного. Я понимала и чувствовала, как далеко нам до истинной, совершенной любви. И эту правду о себе приняла со смирением. Знаю сейчас, какая я, но также знаю и то, что жизнь тащит нас за собой с огромной, какой-то хищной силой. И если бы мне пришлось пережить все заново, то не уверена, смогла ли бы я быть другой.
Об одиночестве написано много. Знаю, что каждый из нас должен сделать что-то, чтобы было легче смириться. Приходит время, когда мы вынуждены справляться с этим. После ухода Александра я не находила себе места. С невероятным трудом переносила одиночество, а сейчас боюсь его утратить. Ведь в нем Александр со мной.
Помню, это произошло весной. Я гостила в деревне у друзей. Стоял прекрасный солнечный день. Небо было таким голубым, что казалось, будто даже асфальт впитал его голубизну. Вокруг вспаханного поля лоснились борозды жирной земли, поблескивая на солнце. Птицы по-хозяйски то взлетали, то опускались на них с громким щебетом. Деревья были покрыты нежно-зеленой кружевной листвой. Завороженная тишиной, свежевспаханной землей и этой весенней зеленью, я вдруг поняла, что на какой-то миг перестала думать об Александре. Меня охватил ужас из-за того, что я смогла испытывать радость, хотя его рядом не было. И тут, словно для успокоения, на меня нахлынуло воспоминание о том, что он писал о дереве, которое видел из окна клиники, где лежал: «Нет большего чуда, чем зеленое дерево. Уродиться бы в следующем воплощении птицей или зверем, расти вместе с деревом, жить с деревом и умереть вместе с ним».
Дома, оставаясь одна, я в течение долгих лет включала магнитофон и слушала начитанный Александром «Мой век» или его стихи. Все вокруг сразу наполнялось его голосом, его словом, его мыслями, и я переставала быть одна. Это удивляло мою приятельницу, которая боялась, что таким образом я впаду в депрессию. Однако меня голос мужа переносил в счастливые дни.
Обычно мне не дают возможности побыть в одиночестве. Да я и не одна. У меня есть сын, внуки. А ведь сколько людей, которые прожили одинокую жизнь, не зная, что такое настоящие чувства. Вот это — трагическое одиночество.
Сейчас каждый день, едва проснувшись, я сразу смотрю на талисман, который носил на шее Александр. Это крестик. Такие крестики присылали из Лондона в Казахстан вместе с вагонами одежды и продуктов. Этот талисман потемнел, когда муж лежал с тифом в захолустной больнице в Или. Сейчас он висит над моей кроватью. Глядя на него, я думаю — нужно сказать сыну, чтобы положил его со мной в гроб.
Что бы я знала о жизни без тех лет в Казахстане. Что бы я знала о голоде, холоде, безнадежности. О таких разных человеческих судьбах, о существующих зверствах. О людской беде. До войны мне, конечно, тоже было обо всем известно, но издалека. Теперь я понимаю разницу между знанием и опытом. Оказывается, многих людей нужно ткнуть носом в происходящее, чтобы они смогли как следует во всем разобраться. Когда сейчас я вижу по телевидению скелетоподобных голодных детей со вспухшими животами, мой опыт сразу же напоминает о том, что испытывает давно не евший человек, который и не надеется поесть досыта. Хотя сейчас я сыта, и, казалось бы, так легко забыть обо всем. Все, что пришлось пережить, — это мой жизненный опыт. Только со временем понимаешь, насколько велико его значение.
Боюсь, что мое повествование хаотично. Я не всегда следую хронологии событий. Забегаю вперед или возвращаюсь в прошлое. В моих воспоминаниях не хватает каких-то дат, но не думаю, что это очень существенное упущение. Сама же я ощущаю некую целостность написанного. В воображении возникает множество различных картинок, более или менее важных. Человек, решившийся рассказать о том, что хранит его память, в своих воспоминаниях должен быть предельно честным.
Возможно, я чересчур увлеклась погоней за яркими образами, словно боясь утратить их. Но в моем возрасте это простительно. Моя память спешила высветить все важные события прошлого.
Магнитная лента закончилась. Уже поздно. Завтра снова послушаю запись.
Фото
Оля, начало 1920-х гг.
Девятнадцатилетний поэт-футурист Александр Ват, Варшава, 1920 г.
Первая книга стихов Александра Вата, 1920 г.
Рекламный проспект для варшавской шоколадной фабрики PLUTOS бюро Reklama-Mechano, одним из создателей которого был Александр Ват, 1925 г.
«Альманах нового искусства» (1924) и «Литературный ежемесячник» (1929) — журналы, одним из главных авторов которых был Александр Ват.
Девятнадцатилетняя Паулина Лев, будущая Оля Ватова, в доме родителей, Варшава, 1922 г.
Абрам Лев, отец Оли, погибший вместе с женой в Освенциме. 1930-е гг.
Александр Ват и Оля (рядом в центре) с друзьями, Варшава, 1920-е гг.
Оля и Александр с маленьким Анджеем, 1931 г.
Оля с Анджеем в Закопане, 1937 г.
Оля, конец 1930-х гг.
Депортация поляков.
Дом в Казахстане, в котором жили депортированные. Рисунок Элеоноры Бельской, 1940 г.
Карта железных дорог СССР с участком, по которому везли депортированных в 1940 г.
Депортированные польские граждане на поселении.