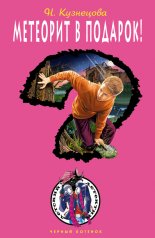А Роза упала... Дом, в котором живет месть Апрелева Наташа

Твое прошлое скрывается в твоем молчании, настоящее — в твоей речи, а будущее — в твоих ошибочных шагах.
Милорад Павич
Все эти тупые буржуа, без конца твердящие слова: «безнравственно, безнравственность, нравственное искусство» и другие глупости, напоминают мне Луизу Вильдье, шлюху ценой в 5 франков, которая однажды за компанию со мной отправилась в Лувр, где никогда прежде не была, и там принялась краснеть, прикрывать лицо руками и, поминутно дергая меня за рукав, вопрошала перед бессмертными статуями и полотнами: да разве можно выставлять на всеобщее обозрение такие неприличности?
Шарль Бодлер. Дневники
You are viewing RumpelstilZchen's[1] journal
01-Июнь-2009 01:22 am
«Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма» (с)[2]
МЕТКИ: СЕЙЧАС
Дверь моей комнаты открывается наружу, распахивается в широкий коридор, где осторожные шаги нежно глушит старая, но все еще прекрасная ковровая дорожка цвета мха. Дорожка фиксируется совокупностью премилых латунных держателей, довольно тяжелых. В детстве они напоминали мне майских жуков и иногда — корпуса летающих тарелок, сейчас не напоминают ничего. Просто держатели. Чуть левее — книжный стеллаж, он предваряет вход в библиотеку, но книг на потемневших от скуки дубовых полках давно нет. Какие-то нелепые сувениры, «Казань — город хлебный», расписные тарелки с фотографиями испуганных детей, пыльные глиняные фигурки слоников, лягушек и прочего никчемного зверья, неработающие часы, пустые коробки из-под чешских бокалов с цветными лошадиными мордами. Но меня привлекают вовсе не они. В первый же день, проворачивая ключ в двери моей комнаты, я упираюсь взглядом в Эту Вещь. Пальцы леденеют и выпускают желтоватый металл ключа, пальцы покрываются инеем, пальцы дрожат от холода, и я настойчиво напоминаю себе, что сейчас очень тепло и вообще — лето. Прислоняюсь к стене, стена дружественно принимает мой обморочный вес.
Мысли путаются, срываются вниз, одна обгоняет другую в стремительном падении, они кружатся себе в удовольствие, сцепившись маленькими подвижными щупальцами, обхватив друг друга поперек юрких округлых фигурок — в этом есть какое-то неожиданное сладострастие. Взаимная любовь собственных мыслей? Слогов в словах? Грохнувшись на ковровую дорожку, они разбегутся, милые. Останется одна.
Неужели я возьму Эту Вещь в руки? И всего-то двадцать лет прошло.
* * *
— Розалия Антоновна! — строго проговорила Юля, аккуратно закрепляя капельницыну иглу на худом предплечье пациентки. — Розалия Антоновна, милая, к сожалению, я вынуждена остановиться на одном вопросе… Знаю, для вас он неприятен. Но…
Розалия Антоновна демонстративно прикрыла выцветшие голубоватые глазки пергаментными веками, изображая глубокий оздоровительный сон.
Желтое восходящее солнце хитро и ловко забросило в комнату на пробу несколько лучей — порезвиться на барочном бюро с причудливой резьбой, высветить затейливыми неравными квадратами старомодные, но прелестные обои, отразиться в начищенной до блеска медной вазе, и — рикошетом — в темных Юлиных глазах.
Юля любит сигареты. Родным и близким, озабоченным состоянием ее здоровья и цветом легких, она легко цитирует Довлатова: «Если утром не закурить, то и просыпаться глупо!..» Предпочитает отшутиться, потому что не будешь же рассказывать всем и каждому, что под белесой папиросной бумагой ты находишь нерезаный вирджинский табак, а мелко наструганные элементы чего-то большого, может быть, сказочного счастья. Такого, как у Лукоморья, где дуб зеленый, или как на золотом крыльце, где по-прежнему спокойно сидят царь-царевич, король-королевич, сапожник и портной.
Юля зажмурилась.
— Силы у вас есть, — настойчиво продолжила она через паузу, регулируя скорость вливания в труднодоступные старухины вены живительного фарм-коктейля, — а вставать отказываетесь… Сидеть отказываетесь. Разговаривать отказываетесь. Что-то еще отказывались делать. Памперсов себе затребовали… Глупость какая! Это нам еще зачем — памперсы?
В дверь просунула лохматую голову Розка, третья, младшая и наименее нелюбимая дочь Розалии Антоновны. Юля подозревала, что хоть как-то терпеть дочерино присутствие старухе помогают их одинаковые имена. Все, относящееся к себе, Розалия Антоновна считала идеальным — по определению.
— Это Лилька натрепала, жопа шерстяная, — помолчав какое-то время, отозвалась Розалия Антоновна, не открывая глаз, — нажа-а-аловалась, курица яйцеголовая. Не имею ни малейшего желания выходить из этой комнаты. Равно как и общаться с толпой этих жирных родственных червей. А если я не имею желания что-то делать, то и не делаю. Как правило. Имей это. В виду, разумеется. А Лильке, сучке толстобрюхой, скажи, чтоб оставила свою вредную привычку вообще ко мне заходить. Так мне угодно. Это все. Оставь меня сейчас. Устала. И еще. Что там с компьютером моим? Починили, нет? Этим дубоголовым овцам ничего невозможно доверить. Узнай ты, прошу. И пусть сразу принесут, жопени-то целлюлитные порастрясут…
Розкина голова испуганно исчезла. Судя по всему, компьютер починен не был.
Юля встала с удобного мягкого стула с гнутой спинкой. К яркой и специфической речи своей пациентки она привыкла, изначально считая умение изящно ругаться определенным видом искусства. В устах старухи оно становилось боевым.
На сегодня все обязанности были выполнены. Разве что поправить плотную штору, равномерно распределить ниспадающие каскады складок, потереться щекой о мягкий бархат… Высокое «французское» окно выходило в Сад, который был прекрасен всегда — и тягучим, как абрикосовое варенье, августовским днем, и бесконечным белоглазым февральским вечером, и нежно намекающим о начале осени сентябрьским утром. Сейчас же — короткая пауза между грязным снегом и опавшими листьями — Сад вообще напоминал рай. В Юлином представлении. Большой, роскошно запущенный, сочетающий, казалось бы, несочитаемые вишни и липы, яблони и каштаны, кусты сирени, жасмина и диких роз. Сад завораживал Юлю, сводил с ума, превращал в язычницу, древопоклонницу. Полгода назад, приехав осматривать свою непростую пациентку (типовое объявление в газете «Из Рук в Руки»: семья воспользуется услугами опытного врача для профессионального ухода за больной женщиной), она влюбилась в старый Дом и старый Сад. Упала в любовь — кто-то так говорит, идиоматическое выражение, наверное, шалуны-французы, определенно они. Юля стыдливо поморщилась. Она приезжала на свидания к Саду, изнемогая от любви, а бедная, трудновыносимая Розалия Антоновна являлась досадной помехой романтическим встречам.
Розалия Антоновна не любит солнце. Если посмотреть на солнце, мир съеживается, чернеет от краев к середине, глазные яблоки засыхают и разламываются от тупой боли, и ты прикрываешь их вялые жопки горячей ладонью, втягивая перегретый воздух потрескавшимися губами. Солнце пахнет сухим жаром, обожженной красной кожей, обугленной черной плотью, раскаленным белым песком, растрескавшейся серой землей, мертвым рыжим деревом, вылинявшим бледным лотосом, когда-то прекрасным. Розалия Антоновна любит дождь. Розалия Антоновна надевает старые туфли, выходит на улицу, идет по лужам, специально идет по лужам, принимает дождь на себя, впитывает воду, вода хлюпает в ее пятках, вода хлюпает в ее сердце, как будто душа. Мокрыми и чистыми становятся мощенные камнем дорожки в Саду, мокрыми и чистыми становятся листья, скамейки, трамвайные остановки и сами трамваи, чугунные диски колодцев, пустые скворечники и полевые мыши, пойманные врасплох. Розалия Антоновна любит дождь. Мокрыми становятся ее волосы, мокрыми становятся ее прошлое, полное тайн, ее скромное настоящее и вероятное будущее.
Оправив темно-золотистую штору, Юля неслышно вышла, притворила тяжелую дверь, наверное, дубовую. Или из иных пород дерева, непременно ценных.
Прошла на просторную веранду с названием Северная, где Розка в ситцевой ночной рубашке и яйцеголовая Лилька в мужских серых кальсонах с рельефно выступающим гульфиком, пытались завтракать.
Вообще картина очень напоминала чаепитие Алисы, сумасшедшего шляпника и мартовского зайца — овальный большой стол, сплошь заставленный посудой, табун стульев и табуреток, общая атмосфера безумия, но милого, такого милого. Юле — вместе со старым Домом и Садом — были симпатичны и его странные обитательницы. Обычно с трудом и небыстро сходившаяся с людьми, она с радостным удивлением нашла в своих работодательницах хороших подруг, близких по духу. Иногда она удивлялась, что их знакомству всего несколько месяцев, но время любит разные шутки и редко течет равномерно.
— Чайку, кофейку, коньячку? — традиционной скороговоркой выпалила Розка, выметываясь из-за стола к ореховому буфету — чертовски антикварному, представляющему собой одни завитки, и только. Ситец веселенькой расцветочки опасно затрещал, Лилька лениво отцепила сестрино одеяние от резной спинки стула.
Розка добавочно споткнулась на каком-то округлом предмете, напоминающем грецкий орех; чччерт, подумала Розка, откуда тут чччертов орех?!
Роза закрывает глаза. Роза не любит орехи, никогда не ест. Розе вообще неприятно думать, что кто-то добровольно помещает в беззащитную атласную пещеру рта эти жесткие шары, неприятно шершавые сферы, напоминающие схематические изображения мозга. Розка помнит: кто-то когда-то грыз орехи, а потом все стало плохо, и лучше не рисковать. Она предпочитает однородную еду, лучше вообще — жидкую, пусть даже от нее — как от горячего шоколада— розовый язык становится коричневым. Овсяная каша, незатейливо сдобренная жирными сливками, прохладный кисловатый кефир, его так приятно слизывать с припухших губ… Роза открывает глаза.
Да бог с ними, с этими орехами.
— Кофе выпью, — с удовольствием согласилась Юля, — спасибо…
— Пирога бери, — распорядилась Розка, — чего-то он прямо удался сегодня, сама удивляюсь…
— Вкусный, ага, — одобрила пирог Лилька, кандидат филологических наук и специалист по русской пословице девятнадцатого века.
Юлю сначала удивляло ее странноватое обыкновение подкреплять почти каждую свою мысль замысловатой русской пословицей. Девятнадцатого века.
А потом ничего, привыкла. Некоторые даже записывала— для воспитания ребенка-Тани, панка и нигилиста. Правда, любимую пословицу Лилии Петровны, доцента кафедры русской филологии, Юля запомнила и так. Пословица была очень проста, безыскусна, выражала вековые настроения соплеменников:
— Хуем по лбу, — отметила опальная Лилька и напряженно поинтересовалась, расставляя чашки и блюдца на столе согласно какой-то одной ей понятной системе: — что там мать?
— Satus idem[3],— ответила доктор Юля, — как обычно… На тебя жаловалась. Из комнаты выходить не хочет. И видеть никого не хочет. Кроме компьютера.
— Мастер чинит, чинит, — заторопилась Розка, — вон, на задней веранде который час уж сидит, у жильцов. Пойти поторопить… Мать нас с дерьмом съест. С дерьмом!
— О-о-о-оссссподи! — простонала Лилька. — Ну что я ей плохого сделала? Вчера судном в меня кинула. Ждала ведь, с горшком в обнимку. И метнула.
Ребро чуть не сломала, даже два ребра чуть не сломала, я уж молчу про купание в экскрементах… Я теперь сама к ней заходить-то побаиваюсь. Битому псу только плеть покажи…
— Купание красного коня, — посочувствовала Юля.
Розка зажужжала кофемолкой, Юля жадно втянула ноздрями вкусный запах. Розка варила совершенно удивительный кофе, в мятой нечищеной медной джезве, ставила его на можжевеловую подставку, подогретые сливки подавала в голубом маленьком молочнике с неброским узором. Это тоже напоминало рай.
— Юль, слушай, а что ты двадцатого делаешь? — осведомилась Розка, подвигая беленькую чашку. — Дежуришь, работаешь?
— Нет, двадцатого точно не дежурю, — вспомнила Юля, — а что?
— У Марго день рождения, — досадливо протянула Лилька, — и одновременно она объявляет о своей помолвке, тоже мне, принцесса Диана… В девках сижено — плакано; замуж хожено — выто! Приехала из Вьетнама, и говорит такая: все, замуж. Помолвка, говорит, у меня.
Юля в некотором удивлении уточнила:
— Замуж за вьетнамца?
— Да нет же, Юль. Вьетнамца еще какого-то удумала… Местный какой-то. Мы не знакомы. Хоть посмотрим на это чудо-мудо. Так я о чем хотела-то? Ага… Не могла бы ты посидеть с мамой? Она может быть очень неадекватная. На Пасху всем рассказывала, что ее морят голодом. Ей потом соседи супчика приносили. Молочка. Кренделька. По доброте душевной. А с колбаской вообще… Помнишь?
Историю с колбаской Юля помнила. Случилось так, что Розка красиво отдыхала то ли в Египте, то ли в Турции, а Лилька выехала в составе этнологической экспедиции в какие-то глухие деревни Сибири, записывать дребезжащее пение старух, пока живых. Розалия Антоновна была вверена заботам Юли, и в первый же вечер добралась до холодильника и съела около килограмма жирной ветчины и мягкого сыра «Эмменталь». Приступ реактивного панкреатита она себе обеспечила бы и ста граммами подобных продуктов. В общем, имела место водная феерия с элементами шоу «танцующие бегемоты» — такую незамысловатую программу предлагал местный цирк, а у сестер все свое было на дому.
«Вы ж мне пожрать ничего не оставили, — фальшиво объясняла свое поведение Розалия Антоновна, — вот я и поела колбаски…»
Грядущая именинница и невеста Марго была третья, средняя сестра с цветочным именем. Юля иногда задумывалась, как был бы назван мальчик, родись он ненароком у ботанически настроенной Розалии Антоновны. Гиацинт? Шиповник? Гербер?
Помимо пока не представленного обществу Маргошиного жениха, мужчин в Семье не было. Розку навещал иногда менеджер среднего звена с веселой фамилией Петрашкин, но сугубо иногда и сугубо факультативно. Юля видела его пару раз, осталась удивлена общей Петрашкинской невзрачностью и немалым животом, привольно колышущимся над брючным ремнем. Уже дошедши до порога, Петрашкин вернулся и выел из конфетной коробки сразу три мармеладины в шоколаде, но Розка веско сказала, плотно закрывая за ним дверь: «Рекомендую — ебет, как города берет». Юля прониклась к Петрашкину некоторым уважением, чего уж там.
Лильку не навещал никто. Отцом ее ребенка-Камиллы неожиданно для себя стал матрос-новобранец, случайный Лилькин попутчик по дороге в Красноярск, то есть под Красноярск — очередное фольклорное путешествие. Как получилось с матросом, Лилька объяснить не могла никогда, его было очень жалко, такой молоденький, а на флоте тогда служили три бесконечных года. Разумеется, о наличии у себя дочери он никогда не узнал. Коллеги по русской пословице девятнадцатого века были либо дамы, либо не по этому делу, а иных мест обитания мужчин Лилька не посещала. Грубая Розка информировала всех желающих, что сестрою, известным ученым, кандидатом наук, поставлен научный эксперимент по саморазведению мужчин в отдельно взятом Доме.
Нежная Лиля не комментирует сестрины глупые высказывания. Лиля любит ходить на рынок, не в переполненный вороватыми подростками, неспелыми авокадо и кока-колой супермаркет, а именно на рынок, ходить по узким говорливым рядам, разглядывая и оценивая те или иные куски говядины, свинины, баранины, влажно мерцающие какими-то такими оттенками красного, названия которым Лиля даже не знает. Ей нравится, что она вольна выбрать любой кусок молодого мяса, на свой взыскательный вкус, и что он будет ее, совсем ее, навсегда ее. Она боится, она не скажет себе, но она хочет, очень хочет, чтобы ее снова выбрали так — куском мяса, влажно мерцающего необозначенными оттенками красного.
Про мужа Розалии Антоновны, отца всех дочерей — много лет не разрешается ни говорить, ни думать. Розалия Антоновна умеет запрещать. В великолепно организованном молчании распальцованной азбукой глухонемых читается семейная тайна, пока неведомая.
На веранду взошел и стремительно скрылся в доме нарядно темноволосый мужчина в темно-сером костюме, блеснули неожиданные для утра запонки, щелкнули каблуками отлично вычищенные черные ботинки. Рядом с серыми кальсонами и ночнушкой в крохотные алые колокольцы он был неуместен, как эфиоп в православном церковном хоре, как ноутбук Макинтош в офисе Билла Гейтса, как учение Менделя в слегка ущербных Сталинских руках.
— Ого, — подавившись кофием, неинтеллигентно удивилась Юля, — а этот, этот что? То есть кто?
— Камилкин репетитор, — охотно пояснила Розка, — по математике. Камилка-то у нас сессию в лицее не сдала, вот и завели педагогов целый дом. Хороводы водят. Плюнуть некуда… Еще эта, англичанка… Как ее?
— Ирина, — спокойно напомнила от двери невысокая женщина, светлые волосы высоко увязаны «конским хвостом», прямые брови и чуть широковатые скулы.
— Извините, — не смутилась Розка.
— Здравствуйте, — наклонила гладко причесанную голову «англичанка», шагнула вперед, длинная полупрозрачная юбка послушным синим облаком полетела за ней.
— Вот, — резюмировала Розка, разламывая пористую плитку шоколада, — педагогов в Доме больше, чем людей.
— Перестань, — угрожающе вскинулась Лилька, — ты не представляешь, какие сейчас нагрузки! Нагрузки! Вот подожди, твоя начнет что-нибудь посерьезнее палочек изучать. Подожди.
— Она пока и палочек не изучает, — доброжелательно поправила Розка, — она только насчет Деда Мороза интересуется…
— Причем здесь Дед Мороз? — не поняла Лилька. — Где Дед Мороз?
— Есть разные мнения на этот счет, — пояснила Юля, примериваясь перевернуть кофейную чашку на блюдце, чтобы погадать на кофейной гуще, — кто говорит, что в Лапландии. А иные утверждают, что в Великом Устюге. Да врут ведь, гады… вот в чем дело…
— Господи, кто врет-то? — Лилька закатила глаза, изображая, как ей мучительно больно общаться с умалишенными.
Юля захихикала.
— Так, погоди, — решительным жестом оборвала ее грубая Розка, — не надо сейчас правду про Деда Мороза… Видишь, Лиля не готова еще к этому.
На веранду с топотом вбежало кудрявое и лопоухое существо. Существо прыгало на одной ножке и издавало различные звуки. Среди них преобладали гласные «о» и «а».
— Привет, Флорочка, — поздоровалась Юля с Розкиной дочерью.
Флора показала ярко-малиновый язык и упрыгала обратно, залив в себя стакан воды из кувшина. Через минуту ее можно было увидеть на дереве. Она плела на ветвях цветущей липы большое гнездо.
— Дай-ка посмотрю, что тут у тебя вылилось, — Розка отобрала Юлину чашку с показательными потеками кофейной гущи, — угу… угу…
— Ну что там, что? — проявляла нетерпение Юля. Появление красавца в запонках взволновало ее.
— Фигня какая-то, — небрежно бросила грубая Розка, пристально рассматривая чашкину внутренность, — какой-то матросский танец. Вот, смотри, как будто бы какие-то кретины пляшут здесь яблочко — ну как умеют… И эти пляшут, вот тут, видишь? Только вприсядку. Бескозырки. Ленточки. Все такое.
— Яблочко еще, — расстроилась Юля.
— И при чем здесь матросы, — вяло отреагировала Лилька, — вечно у тебя матросы…
— Это у тебя вечно матросы, — справедливо заметила Розка, лихорадочно допивая кофе, чтобы быстренько погадать и себе.
Приветствую тебя, человек, неплохо читающий по-русски, вот мы и встретились снова[4], как Малыш с немного вероломным Карлсоном, как три мушкетера двадцать лет спустя, и десять лет спустя, и еще виконт де Бражелон. Спасибо, что ты опять со мной, это приятно.
* * *
— Расскажи, расскажи мне!
— Что, душа моя?
— Про себя.
— Родился в одна тысяча пятьсот тринадцатом году от Рождества Христова в провинции Гасконь, получив при крещении гордое имя Людовик. Последующая счастливая цепь реинкарнаций…
— Так, ну хватит, хватит! Король-Солнце! Реинкарнированный! Я хочу про женщин.
— Про женщин, ага.
— Да, про женщин.
— А что про женщин?
— Ну… у тебя же их было много?
— Кого?
— Женщин, блин!
— Ах, женщин. Вот мы, оказывается, об чем думаем.
— О-о-о-о-о.
— Не о-о-о-о-о-о, милая, не о-о-о-о-о. «Об чем может думать такой папаша? Об выпить рюмку водки, об дать кому-нибудь по морде…»[5]
— Так. У тебя было много женщин? Отвеча-а-ай, иначе я тебя задушу…
— В объятьях?
— Чулком.
— Это серьезно.
— Отвечай.
— Ну, разумеется, много! Десятки, сотни, тысячи! Миллионы и миллионы женщин прошли через вот эти мои мозолистые руки…
— Болван какой! О-о-о-о-о!
— Но никто из них не называл меня болваном.
— Сына-mo тебе кто-то родил.
— Сына — это жена. Жена — это, брат, жена. Особенно прошедшая. Тут прямо ни прибавить, ни отнять.
— Сам ты брат.
— Прости, душа моя!
— Ннет! Ннну ннет! Сначала про женщин!..
* * *
You are viewing RumpelstilZchen's journal
09-Июнь-2009 09:29 am
«Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма» (с)
МЕТКИ: СЕЙЧАС
Забавно, что за двадцать или, сколько там, двадцать пять лет практически ничего не изменилось в Доме, разве что Сад превратился в убогие бессмысленные заросли неизвестно чего, и стоит ли благодарить Господа за происхождение видов, спрашиваю я себя, с сожалением поглаживая ладонью поруганный невниманием малинник, когда-то великолепный, элитного сорта Оттом Близ. Крупная, породистая малина, пахнущая солнцем и собственно собой, мне уже не приходится вкушать твою истекающую соком, нежную плоть. По-чеховски академичный крыжовник не лопнет в моем набитом ягодами и смеющемся рту. Да я и не смеюсь.
Достаточно кинуть мимолетный взгляд на былую роскошь, как становится ясно, что настоящего хозяина здесь нет.
Не был им и мой отец — скромный Садовник, секатор, поливной шланг, и вот приехал грузовик с навозом, я садовником родился, ни на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…[6] Обычно отец шутливо выкрикивал имя одной из дочерей Розалии, и названный цветок со смехом улепетывал в стороны Липовой аллеи, либо нырял в ароматные объятия Jasminum odoratissimum, заботливо остриженного в форме сферы, пирамиды либо эллиптического параболоида. Зависело от настроения отца, или от фазы Луны, или от пожеланий сестер, требующих, допустим, слоненка или перо жар-птицы из песенки про усталые игрушки.
Оглушающе пахнущие венки из жасмина целомудренно украшали их разномастные головы, придавая неуловимо колониальный оттенок всему происходящему: Индия, Индонезия, свадебные букеты, цветок как символ спокойствия и благодати, красно-желтые и яркие праздничные одежды, а также касты, к неприкасаемым относили меня.
Сейчас ни о каких геометрических фигурах и речи не идет, про благодать лучше не упоминать, и про спокойствие, но жасмин остался, Jasminum odoratissimum, и вырождающийся шиповник Rosa majalis Herrm остался, враждебно ощетинился он неухоженными ветками. Розоватые цветки даже густой аромат источают неохотно, почти не привлекая работяг-пчел, кокеток-ос и разных прочих бабочек, бывших гусениц.
Ведь вещи, которые ты любишь, стремятся захватить тебя целиком, проглотить с головой, с головным убором, с помпончиком на головном уборе, с ботинками, каблуками, с набойками на каблуках, так происходит и с одушевленными, и с неодушевленными предметами.
Сейчас в Доме никто не любит кустов шиповника, не обнимается поутру с рафинированными ремонтантными розами hyhrida bifera, полученными в середине XIX века в результате скрещивания розы дамасской и французской (галлика) с чайной.
Но мне-то какое до этого дело?!
Старая сука верна себе, гоняет девчонок, даже не поднимаясь с барской высокой кровати, недовольна в принципе всем, утром затребовала себе категорически запрещенную яичницу-глазунью и трубно кричала, отвергая предлагаемые ей крутые, всмятку и остальные возможные яйца.
Перемены в ее внешности произошли, мне кажется, минимальные, разве что сильно исхудала, в результате лечения полностью облысела и лишилась ресниц и бровей — но это странным образом ее красит, придает утонченный, стильный и немного потусторонний вид. Абсолютно голая, трогательно обнаженная, инопланетная голова на тонкой шее, задрапированной натуральным шелком, — и непременно крупные серьги, «танцующие» — так она называла их в другой жизни. «Танцующие серьги» — красиво. Натуральный шелк — тоже. Тончайшие нити, размотанный кокон бабочки Bombyx mori.
Девчонки ужасны, особенно Розка, особенно Лилька и особенно Марго.
Признаюсь, были опасения и очень серьезные, что меня узнают, опознают, покажут пальцем и завизжат.
Но тут я льщу себе, льщу — никто не помнит, никто не вспомнит забитого подростка с тусклыми негустыми волосами, растущими на юго-восток и юго-запад, выводком прыщей на легко краснеющем и ничем не приметном лице.
добавить комментарий:
Stupor 2009-06-09 11.03 am
Румпельштильцхен, а у тебя были прыщи? Да еще и выводок? бугага. Зашли фотку на поржать!
Umbra[7] 2009-06-09 11.36 am
С каждым днем мне наш «план» нравится все меньше и меньше. Я уже сильно сомневаюсь в какой-то психотерапевтической ценности для тебя всего этого. Предлагаю еще пару дней присмотреться, полюбоваться на старую немощь мадам, офигенную глупость увядающих Цветочков — и все! Все! Не надо больше ничего, давай не будем ничего, пожалуйста, это опасно, это нездорово, это разрушит тебя. И меня. Я откуда-то знаю.
RumpelstilZchen 2009-06-09 11.53 am
Все под контролем. Спасибо тебе, моя милая, что со мной и терпишь. Я не остановлюсь уже, просто не смогу.
На Южной веранде
— Просыпайся! — проныла Кукла и потрясла мужа за плечо. — Котище, просыпайся! Ну доброе утро, что ли! Я уже причесалась даже, а ты спишь! Спишь! Спишь!!! — повторила она и увеличила амплитуду потрясений.
Кот пробормотал что-то малоразборчивое, но оптимистичное.
Насчет «причесалась» Кукла немного преувеличила. Волосы она не подстригала с десяти лет (разве что неохотно подравнивая секущиеся время от времени концы), сначала волею своей тетки, женщины гневливой и скорой на расправу с несогласными, а потом уже и руководствуясь личными пожеланиями. Приведение густой тяжелой драгоценной массы в порядок занимало от часа до бесконечности. Все зависело от того, какие именно «вавилоны» намеревалась изобразить на своей голове Кукла. В ее производстве был даже котелок антикварного английского полицейского, чертовски уместный над шаловливыми живыми темно-вишневыми глазами. Сегодня она наметила ограничиться банальной косой и доплела уже до половины. Ну почти.
Черные глянцевитые пряди привычно скользили в руках, проворные небольшие мысли привычно толкались в голове, представляясь Кукле в виде живых существ, может быть, каких-то миниатюрных акулок.
Одна акулка, самая юркая, называлась: «И какого черта мы все это затеяли, экспериментаторы херовы», вторая, ближайшая к ней — «не было бы, мать вашу, хуже», третья отличалась смелой альтернативностью: «ну уж если так, то пусть быстрее, быстрее! надо уже начинать…»
Все мысли, подозревала Кукла, были немного больны. Больны. Рыбьим СПИДом? Она читала как-то, что есть и такой.
Поймав за хвост вновь родившуюся плавниковую «начинать надо прямо сегодня», Кукла решительно продолжила будить Кота. К раскачиванию его спящего тела она безжалостно добавила аудиопомехи: включила «Наше радио». «Две строчки, строка и шнурок с потолка-а-а-а-а!» — громко и жизнеутверждающе пропел Илья Черт, и Кукла радостно подхватила: «Верному псу — шнурок с потолкаааа!»
Кот испуганно открыл глаза.
— Не пой, а? — жалобно попросил он.
— Не буду, — охотно согласилась Кукла, — не буду, а ты просыпайся! Теряем время! Торчим здесь уже почти неделю! И ни коня, ни воза!
— Неделю? — удивился Кот, со вкусом потягиваясь. — Странно ты считаешь, неделю… Два дня назад приехали. Ну я так думаю. Нет, я точно знаю… Отлично здесь, пупс! Такой дом. Такие комнаты, одна — вся зеленая напрочь. Другая — золотая. Такой сад. С фонтаном! А конь с возом будут… Сегодня же займусь ими. Как и договаривались. А вот фонтан!.. Это сила!
Спросонья Кот был еще больше, чем обычно, похож на лохматого мальчишку из мультфильма про рыжего-рыжего, конопатого, убившего дедушку лопатою. Кукла очередной раз подумала, что все ее мужчины были в какой-то степени рыжими, и это странно, наверное.
— Хотелось бы знать, — ехидно поинтересовалась она, — просто любопытно… Ты фонтан собираешься использовать? Каким-то особым способом? Для нашего дела? Не хочу даже думать, как…
Про Дом. 1920–1945 гг
Двухэтажный Дом светлого камня, потрясающий воображение дачников, гостей, случайных прохожих и иногда даже самих хозяев, был непрост. Полностью симметричное, не перегруженное декором здание в ясном стиле архитектуры русского классицизма. Общая композиция проста: в центре главный Дом, четкие линии веранды с изящными колоннами, по бокам два флигеля, а перед домом — регулярный парк с фонтаном.
Выстроенный в начале двадцатого века богатейшим местным купцом, сахарозаводчиком, меценатом и жуиром в качестве загородной виллы, Дом, после трагических событий Революции, Красного, Белого и прочих терроров, был раздерган на квартирки и пожалован вкупе со флигелями под своеобразное общежитие бравому офицерскому составу ВЧК. Бодрые комитетчики со многими кожаными атрибутами и чистыми руками заселили парадные и остальные покои. Не особенно заморачиваясь в плане санитарии и гигиены, левый флигель, да и фонтан по теплому времени, превратили в общественные уборные. Молодой лейтенант[8] товарищ Старосельцев по праву занял Северную веранду и четверть низа. Правда, организация тогда уже именовалась ОГПУ, что главного не изменило, совершенно. Шли годы, остывали некогда горячие сердца, широко описанные в документальной и художественной литературе события способствовали как обретению чекистами теплых местечек, так и их стремительному взлету с них, а с теплых чекистских местечек тогда улетали далеко. Таким незамысловатым образом к владению четвертью низа Дома капитан уже НКВД Старосельцев присоединил еще одну четверть низа, а также и полверха, чего уж там. Гадить в фонтан соплеменники перестали, чему очень способствовало табельное оружие товарища капитана.
Долгие годы товарищ Старосельцев всего себя отдавал служению Родине и народу, буквально всего. Разве что немного себя оставлял на неизменно веселые гулянки с молодыми веселыми девицами, сплошь выпускницами — кто Бестужевских курсов, кто ФЗУ, а кто семилетки. Общество развратных полуодетых красивых женщин молодой офицер уважал безмерно. Но еще примерно лет эдак десять оставалось ему, чтобы именовать себя офицером вслух, ничего, он подождет, торопиться некуда.
Соответствующий образ жизни — безупречная служба и выдающееся блядство — не способствовал освоению всех пространств вертикальной половины Дома, например, на второй этаж товарищ капитан поднимался раз, много — два, активно пользуя нижнюю обширную гостиную, спальню и удобную веранду.
Законным браком товарищ Старосельцев озаботился не скоро, и не просто так, а по совету партийной ячейки и непосредственно наркома внутренних дел товарища Ежова, которому он был представлен, лично докладывая об успехе одного непростого, масштабного дела на Железной дороге. Шел тридцать шестой год, очень-очень сильно продвинувший их по карьерной лестнице — и товарища Ежова, и товарища Старосельцева. Известно, куда привела служебная лестница «железного наркома», к эшафоту какого унифицированного вида, ну а у его провинциального протеже все складывалось неплохо. Только вот жениться получалось не особо — времени не было. То «особые тройки НКВД», то еще что. Последовательно капитан Старосельцев превратился в майора Старосельцева и останавливаться на этом не собирался. Жена потенциальному товарищу комбригу была уже необходима по статусу. И она появилась.
То есть сначала абсолютно неожиданно пропали старосельцевские домашние совладельцы, вертикальные соседи. Ну просто вышли утром из Дома, а назад — не вернулись. Бывали такие казусы, что характерно, и нередко. Потенциальный товарищ комбриг охотно взвалил на себя полноправные помещичьи права и обязанности.
Левый оскверненный флигель силами подчиненных красноармейцев был безжалостно снесен, а правый очищен и пустовал. До времени.
Фонтан приобрел вид приблизительно прежний, неудивительно: что с чугунным конем сделается? Ничего и не сделалось. Только не функционировал, естественно, фонтан, а оно и ни к чему. Буржуинские изыски.
Лишнее это.
Вот тут и появилась собственно невеста, простая девушка наичистейшего рабоче-крестьянского происхождения, папа которой честно служил Родине в ЦК Партии, чтобы без сюрпризов. Сюрпризы в представлении товарища полковника тоже считались излишними. Девушка нейтрально звалась Еленой и осваивала профессию учителя в педагогическом институте имени В. В. Куйбышева.
Под венец, а точнее, в бюро записи актов гражданского состояния невеста явилась скандально непустой, распирая тяжелым животом с маленькой фигой пупка бело-синее гороховое платье, подарок жениха. Выбеленные невестовы локоны являлись точной копией знаменитой прически кумира миллионов советских людей — Любови Орловой, тонкие полукружья бровей и трогательная рыбка ротика.
Супруга немного посуществовала сама по себе, пометала свое пышное тело по травмоопасным лестницам кружевного чугунного литья, а в положенный срок счастливо разрешилась от бремени прелестной девочкой. Полковник Старосельцев сначала вздумал на жену обидеться — ожидал всею душою сына, преемника, маленького чекистика, но при виде темноволосой и синеглазой (временно, но кто же знал?) малютки восхитился ее немладенческой красотой и ладностью и в припадке изысканности назвал ее Розой, Розочкой, Розанчиком, своим бутончиком.
Розочка подрастала, постигая в нужное время все детские умения — поднимать головку, переворачиваться, сидеть, ползать и ходить, жена Елена тоже не доставляла никаких неудобств, все так и шло.
Каким-то невероятным образом холодный ум или дьявольское везенье ни разу не подвели товарища комбрига, и он не пошел короткой страшной (или длинной страшной) дорогой своих многочисленных сослуживцев и соотечественников, братьев и сестер, а благополучно отслужил как надо военные годы в непопулярной системе СМЕРШ, чуть ли не водрузил знамя чуть не над Рейхстагом и героически вернулся с победой все в тот же светлокаменный Дом. С фонтаном и правым флигелем. Жена его, Елена, пожелавшая теперь называться Лялей, органично и незаметно превратилась в энергичную даму в трофейных шелках и опробованных молью горжетках. Вследствие какой-то неопасной бабьей хвори она более не беременела, что в принципе было семье даже и на руку — очень уж обожал отец свой душистый Розанчик, слишком уж много дел имелось помимо деторождения.
* * *
— Уфф…
— Великолепно. Значит, кроме «уф», душа моя, тебе и сказать нечего. Я, признаться, ожидал продолжительного, эмоционального отчета о фантастических оргазмах. А тут «уф»…
— Уффф!
— Ты такая интересная собеседница, дорогая!..
— Не называй меня «дорогая». Ненавижу это слово. Ну применительно к себе, конечно.
— Так, будь добра, подай мою записную книжку, пожалуйста. Я тут собираюсь записать кое-что. Слова. Запрещенные к употреблению… А то еще задушат чулком. Ненароком.
— Не! Смет! Но! — как сказала председатель совета дружины Лена Доберманова, когда ее стул густо вымазали красной краской «киноварь».
— А никто и не думал смеяться. Что ты! Я серьезен, как президент Ющенко. Нет, как Лена Доберманова в пятнах краски.
— Не надо меня называть «малыш», «драгоценная ты моя женщина» и вот еще «человечек».
— Что за человечек? «Где-то у оранжевой речки? Там сидят грустят человечки? Оттого, что слишком долго нету на-а-ас?»[9]
— Даже если мы расстаемся!..
— Емся!
— Дружба все равно остается!..
— Ется!
— Дружба остается с нами навсегда-а-а…
— Ну я-то ладно. Я семь лет в музыкальной школе солировал. А ты?
— А что я?
— Откуда знаешь эту байду?
— А это я специально разучила. Чтобы с тобой дуэтом пропеть.
— Ага.
— Ага.
— Так ты про человечка хотела.
— Есть у меня одна бывшая одноклассница, Таня Григорчук. Мы с ней не виделись лет пятьсот.
А потом она нашлась на Одноклассниках, там все находятся, кто-то раньше, кто-то позже. Как-то Таня Григорчук была в настроении поболтать и пересказала мне в подробностях историю своей любви с женатым ветеринаром.
— Ветеринаром…
— Да. В частности, она зачитывала некоторые его к ней письма — для дополнительной иллюстрации.
— О, неосторожная!
— Это почему?
— Ну а вдруг тебе бы понравился стиль, и ты бы увела ее женатого ветеринара,? С тобой ухо востро надо держать.
— Можно я продолжу?
— Хорошо, что ты спрашиваешь. Конечно, душа моя.
— Так вот, одно из писем ветеринара начиналось: «Родной мой человечек». А другое: «Драгоценная ты моя женщина».
— А третье?
— Отстань.
— Ну и ты что? В контексте Тани Потапчук.
— Григорчук.
— Прости.
— Подумала, что если, бы меня так назвали, я бы сошла сума от горя.
* * *
— Ал-ло! — сказала Юля между двумя затяжками телефонной трубке. — Алло, дочь, ну я же за рулем, что ты трезвонишь, как пьяный звонарь! Сейчас остановлюсь…
После недавнего ухода Юлиного мужа и Таниного отца Витечки: «Я стремлюсь к самоактуализации. К высшей природе раскрытия моего потенциала, Юля. Абрахам Маслоу, теория гуманистической психологии… ты должна знать… все-таки ты тоже доктор… уровень моего социального интереса к дочери не упадет»[10],— численность небольшой семьи не изменилась, изменился гендерный состав. Отпустивши Витечку прямиком в сомнительные объятия Абрахама Маслоу, Юля и Таня заимели чудную кошку породы Невская Маскарадная, голубоглазую Наташу, у которой на все было свое мнение.
Вот и сейчас Юля очень подозревала, что причина дочкиного звонка как-то связана либо с кошачьим рационом, либо еще с чем-нибудь кошачьим. Режимом дня, например.
Припарковавшись неподалеку от старинной калитки изящного литья в чугунных змеях и розах, меланхолично соседствующей с автоматическими раздвижными воротами, Юля собиралась перезвонить дочери. Закурила еще. Мобильник в ее руках ожил, завибрировал и пропел: «Я смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды… Я ходил по всем дорогам, и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы… Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день…» Традиционно дослушав ровно до этого места, Юля сказала, наконец, свое «алло». Номер был рабочий, кто-то телефонировал из ординаторской, каковую она покинула чуть менее часа назад, благополучно сменившись с дежурства. Вообще-то Юля надеялась чуть-чуть подольше не слышать дорогих товарищей по работе.
— Юлечка Александровна! — заговорила трубка фальшивым сопрано. Юля скорчила недовольную, зверскую физиономию. Сморщила нос и немного вытащила язык. Вне всякого сомнения, это была заместитель заведующего отделением Зоя Дмитриевна. В последнее время ее все чаще хотелось назвать Великим Инквизитором, сеньорой Торквемадой или как-нибудь еще. Наподобие.