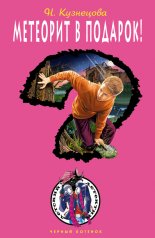А Роза упала... Дом, в котором живет месть Апрелева Наташа

— Ну как вчера? — светски осведомился Юраня. — Мля?
— Вас что-то конкретное интересует? — Лукаш Казимирович выбросил мохнатую травинку и взял Юлин мизинец. Юля улыбнулась.
— Нет, — отказался Юраня, — если вот честно, то меня, мля, нихера из похорон не интересует. Я просто так спросил, уважение сделать… Ритке не сдадите? Я вам сейчас веселое расскажу…
— Конечно же, нет! — горячо уверила Юля, жених Марго казался ей забавным, и, держась за руки с Лукашем Казимировичем, она была не прочь послушать «веселое».
— Я ведь не на работу вчера ездил, — доверительно начал Юраня, устойчиво присев на корточки, — звонит мне вчера подруга моя бывшая, Сонька. Я вот считаю, что с бабами все равно надо дружить, даже после всего. Принцип, короче, такой у меня. — Юраня приосанился.
— Ага, — сказал Лукаш Казимирович, — принцип.
— Принцип, мля! Так вот, звонит Сонька. Рыдает. Говорю: ну что, что случилось? Свидетели Иеговы объявили на завтра конец света? Гарант Конституции снова пообещал электорату лечь на рельсы? Тебя изнасиловал глухонемой карлик? Нет, отвечает, сам ты карлик, и дальше рыдать. В общем, через полчаса с трудом разобрал, что кто-то там ее бросил, и она повеситься хочет. Сонька баба-то серьезная. Думаю, сейчас повесится, а мне что? Всю жизнь виноватым ходи? Ну нет, думаю, сука, не выйдет это у тебя… Сигареткой не богаты? — немного отвлекся Юраня.
Лукаш Казимирович щедро предложил собеседникам угоститься кубинскими сигариллами из желто-клетчатой узкой пачки COHIBA Club. Юля осторожно затянулась, крепкий табак шершаво оцарапал горло и вольно закружил голову в ритме «и-раз-два-три, раз-два-три». Юраня крякнул, оглядел тонкую темно-коричневую сигариллу, уважительно прокомментировал:
— Забористые, уважаю… Ну так вот. Приезжаю к Соньке, открывает, рожа от слез опухла, глаз не видно, но я подготовился, не жалуюсь, достаю водку, мартини этот говенный, сладкая гадость, но бабам нравится. Смешиваю этот, коктейль. Пополам разбодяжил, короче, мартини с водярой, пей, говорю, сука, а то помогать перестану. Выпила. Немного оживилась, смотрю — бутыль вискаря уже тащит, нормуль. Рассказывай, говорю. Порыдала еще малёхо-малёхо. Рассказывает: хахаль ее последний вернулся к своей бывшей. Люблю, говорит, не могу, а ты нахер иди.
Юраня встал и немного походил, поддевая носком солдатского ботинка мелкие комья земли. Задумчиво посмотрел вдаль, где низкое солнце готовилось, поцеловав на ночь плоские курганы, проститься с ними на несколько часов.
— А я ей говорю: а что это ты вообще так переживаешь, непонятно, в первый раз, что ли, вот я тоже тебя бросил, и ничего? Да что ты, машет рукой, что ты, я с тобой чисто потрахаться, а его, сволочь, люблю, мы вместе работаем над проектом, и вообще — повешусь. Тут меня прямо осенило, гадом буду, как живое нарисовалось решение-то. Говорю: давай сюда его номер, ну телефонный, мля. Сейчас дядя Юра тебе все сделает, как надо. А ты выпей пока, вот мартини, зря, что ли, тащил? Звоню. Здрассьте, говорю вежливо так, а вот не подскажете ли мне телефон Софьи такой-то, я знаю, вы трудитесь, типа, вместе. Он насторожился, сука, нет, отвечает, не могу вам дать телефону, потому что не знаю, как Софья на это дело посмотрит. Я настаиваю. Телефон, говорю, гони, очень мне Софья нужна, старинный я ее приятель, говорю, очень хочу видеть и так далее. Тот насторожился еще больше, что такое, спрашивает, означает «и так далее»? Да пошел бы ты, чмо гнилозубое, я ему говорю, не твое собачье дело. Ладно, говорю, другим путем найду дорогую свою Софью, иди отсоси навсегда. И трубку положил…
На полосатое Юранино плечо села изящная прозрачнокрылая стрекоза.
Из окна веранды помахала рукой Лилька, призывая выпить вечернего чаю. В ореоле светлых недлинных волос она напоминала крупного светлячка.
— Ужинать кличут? — забеспокоился Юраня. — Типа, прошу всех к столу? Рванули?
— Нет-нет, — испугалась Юля, — а дорассказать историю?
— Да дальше и рассказывать нечего, — отмахнулся Юраня, не отводя блестящих глаз от Лильки, расставляющей чашки и тарелки на овальном столе, — приехал этот хрен к Соньке, через пятнадцать минут примчал, залупа ишачья… С кем, орет, ты здесь уже замутить успела, лярва, нельзя тебя на один день оставить… А сегодня она звонит, счастливая, говорит — вещи обратно перевез… Спасибо тебе, говорит… Обращайся, отвечаю, снова, если что. Обиделась. Поди пойми этих баб…
Внезапно сияющая Лилькина голова исчезла, будто бы она решила прервать сервировку стола и немного отдохнуть, полежать.
— Эге-ге-гей! — вскричал Юраня взволнованно. — Ты куда, мать твою?
Юля встревоженно встала и, неохотно освободив пальцы из теплой ладони Лукаша Казимировича, пошла к веранде. Мужчины держались за ней, Юраня — что-то неодобрительное бормоча, Лукаш Казимирович — молча.
Пожалуй, меньше всего они ожидали увидеть Лильку, на самом деле лежащую на дощатом полу, на лице ее подсыхала рвота, на губах — пугающе зеленела пена, глаза закатились под лоб, сознание отсутствовало.
Юля мгновенно опустилась на колени и отрывисто распорядилась доставить из Горчичной комнаты ее черную «докторскую» сумку, быстро, быстро, и воды в кастрюле, и таз пустой, и полотенце, быстрее.
Лукаш Казимирович бегом умчался за чемоданом, Юраня заметался по веранде, нашел ведро, распахнул ореховый буфет, с чудовищным грохотом вытащил армию всяческой посуды, включая гигантскую древнюю мясорубку, с кухни принес-таки воду в пятилитровой баклажке, стараясь не смотреть ни на распростертое хозяйкино тело, ни на склонившуюся над ним Юлю.
Юля тем временем мгновенно достала из принесенной математиком сумки рыжий резиновый зонд, устрашающую воронку, повернула Лильку на бок и принялась за спасательные мероприятия. «„Скорую помощь“ вызвать, сейчас же!» — крикнула она появившейся на веранде ошарашенной Марго, Марго схватилась за телефон и выбежала в Сад, звонить.
Подошла Розка, в ужасе зажала руками рот, погнала с веранды детей… Их приняла в свои объятья «англичанка» Ирина, осторожно поглаживая пестрые вихры Флоры, сочувственно сжимая холодную и мокрую от слез руку Камиллы.
Ирина любит воду. Большую воду в больших водоемах, не минеральную в литровке. Чтобы успокоиться, набраться сил, она выходит к воде, благо, в городе есть Река. Иногда Ирина думает, что ей идеально было бы жить на берегу моря, лучше — океана, говорят, моря-океаны пахнут вечностью. Своего мнения у Ирины на этот счет нет, на море она была единожды в далеком детстве и не помнит из этого путешествия ничего, кроме дикорастущих на улицах лавровых кустов. Иринина Река все же не пахнет вечностью, Река имеет течение, и она разная каждую минуту. Глядя на меняющийся цвет и структуру волн, Ирина сочиняет себе красивые, немного странные картины: вот четверо людей танцуют печальное танго в узком кругу, время от времени обмениваясь партнерами, и солнце окрашивает их безмятежные лица в лиловый цвет заката. А вот прекрасная девушка, не выдержав предательства своего неверного возлюбленного, бросается в волны, надеясь обрести покой где-то там. Четверо людей попытаются спасти прекрасную девушку. Осознав невозможность этого, они вернутся к тягучему танго, забыв ее, как забывается все на свете.
Когда через сорок минут приехала «скорая», Лилька, благодаря спешной реанимации, пришла в себя и удивленно хлопала слезящимися глазами, беззвучно шевелила пересохшими губами. На настойчивые Юлины вопросы «что ты ела?» и «что ты пила?» она не отвечала, болело натертое зондом горло, болела тяжелая голова, болели руки-ноги, она устала, очень устала, вот сейчас немного отдохнет, а потом непременно вспомнит, непременно ответит, что она ела, что пила…
— Я поеду с ней, — коротко бросила Юля, — только переоденусь. Послушаю, что в больнице скажут. Позвоню.
Лукаш Казимирович ждал ее у калитки со змеями и розами:
— Я тоже еду, — просто сказал он.
— Ну нет, — нахмурилась Юля, она устала, очень устала, — что мы там будем толпиться, под ногами путаться… Я прекрасно справлюсь, тем более что делать уже нечего. Съезжу, вернусь.
— Я тоже еду, — пожал плечами Лукаш Казимирович и подал ей руку, помогая забраться в белокрасный кузов, где уже лежала на носилках Лилька, бережно укрытая шерстяным пледом.
Совершенно прав человек, читающий по-русски, — гламурное отравление неизвестным пока, но явно несмертельным ядом как-то не удалось, незадачливый убийца досадливо чешет в затылке, пытается понять, где именно он допустил ошибку, и планирует следующую акцию провести не в пример удачнее.
* * *
You are viewing RumpelstilZchen's journal
23-Июнь-2009 00:35 am
«Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма» (с)
МЕТКИ: РЕВЕРС
Дорогая моя, если бы моей задачей было курицу Лильку убить, она бы была безнадежно мертва и общалась бы не с грубым гастроэнтерологом, дышащим ей в живое лицо вкусным водочным перегаром, а с ласковым скальпелем в твердой руке патологоанатома. Мне достаточно паники, что поселилась в Доме. Страх, ужас и всеобщий хаос — вот что я хочу видеть, открывая входную дверь, и я достигну этой цели, причем очень скоро.
Вернусь к своему скромному рассказу, что ли.
Мне, в отличие от известного литературного героя, не нужно обмакивать медовые «мадлены» в липовые чаи, чтобы окунуться в детство[27].
Свое прошлое я и так постоянно таскаю с собой, и как-то особенно возвращаться к нему так же абсурдно, как, собственно, к своей руке, ноге или вот этой смешной яркой родинке.
То знаменательное лето началось в мае, пусть эта фраза нелепа. Лето началось в мае и — в универсаме, вот так, пожалуй, еще лучше.
А почему в мае — да потому, что в мае я возвращаюсь во Флигель. Еще полтора года назад, в восьмом классе, неожиданно для всех я обнаруживаю удивительные способности к ряду школьных предметов, и любящий отец переводит меня в специализированное учебное заведение с уклоном в нужные стороны. Наверное, это стоит ему каких-то денег или добрых услуг, поскольку вот это самое «ты мне, я тебе» — никто не отменял. Недостатков у специализированной школы два: первый — тамошняя заносчивая подростковая элита во всем джинсовом, и второй — добираться от Флигеля до специализированной школы ровно два часа пятнадцать минут — в один конец. Но любящего отца в пароксизме любви не остановила бы и система «Град», существуй она в те времена. Для меня снимается комната у старухи Пивоваровой — точно напротив учебного корпуса. Старухе Пивоваровой было тогда лет пятьдесят, голову она как-то не по-русски увязывает черным шарфом, чистит зубы и свои светлые туфли зубным порошком «Жемчуг» и торгует на оживленном перекрестке семечками и туалетной бумагой. Торговля идет очень хорошо. Отец вменяет ей в обязанности кормить меня завтраком и ужином, обедаю я в школе — бесплатно, набирая для вечернего чая белого подсыхающего хлеба, нарезанного от кирпича по диагонали.
Собственно, так и проходит учебный год, на выходные я иногда приезжаю домой, но чаще — нет, предпочитая болтаться по центральной площади города. На каникулы я отпускаюсь досрочно, сразу после майских праздников, традиционно заполненных у соотечественников посадками картофеля и чего-то еще овощного.
И лето начинается.
Обычный зал съедобного и несъедобного самообслуживания. Пустоватые полки сдержанно украшены стеклянными банками с кабачковой икрой, картонными пакетами с сахаром и брикетами розового химического киселя. Иным счастливчикам везет, и прямо к их дрожащим от неслыханной удачи коленям выкатывают проволочные тележки с увернутым в пергамент маслом, сыром, мотками сосисок в полиэтилене. В гастроном послана Лилька, и она караулит как раз обещанную администрацией курицу, рассматривая в отделе бытовой химии пачки стирального порошка «Лотос» и пахучие бутыли с «Белизной». Я маячу рядом, я — Лильке компания, в бесконечном счастье от такой удачи: таскаться с ней за мертвыми животными, точнее, птицами и склянками с голубым молоком и комковатым кефиром. А еще я куплю орехов.
Наклонившись, чтобы бросить в красную пластмассовую корзину упаковку гигиенических прокладок «Натали», Лилька оказывается схваченной за воротник плаща чьей-то цепкой рукой.
Недовольно крутя шеей, в попытке освободиться, она выпрямляется и въезжает глазами в аккуратную пожилую даму, хозяйку крепкой руки. На голове ее — старомодная маленькая шляпка с кокетливыми отворотами, очень не подходящая к мешковатому и серому пальто, даже какому-то зимнему.
Я оказываюсь мгновенно рядом, мало ли что. Я — надежный друг, верный товарищ, я — помощь в сложных ситуациях.
— Спасибо вам, — грудным и нестарческим голосом проговорила дама, перемещая руку в перчатке с Лилькиного воротника на свой драповый обшлаг, — и благодарю за поддержку.
— Поддержку?
— Да, вот уже несколько лет вы меня удивительно поддерживаете…
— Я не поддерживаю, — отказывается Лилька, испуганно отступая.
Дама не позволяет ей сделать шаг назад, резко тянет за яркую полосатую косынку, увязанную на шее специальном узлом «любви»:
— Помогаешь, — тихо и страшно проговорила она, — помогаешь, ты же пользуешься этими прокладками? Вот сыночки твои, я извиняюсь, где? Где-е-е?
В застиранных глазах старой дамы полыхнули маломощные атомные взрывы, вокруг заплясали языки пламени и разрезвились гамма-лучи, незаметные пока.
— Разрешите пройти! Нет у меня никаких сыночков, я школьница еще… — жалко бормочет Лилька, всхлипывая и хватая меня за руку.
— Школьница! — Голос гремит и возносится к штабелям детского питания «Малыш». — Шлюха ты, а не школьница!
Очень, очень быстро мы оказываемся в прохладном овощном отделе с желто-серой перемороженной картошкой, багровеющей свеклой и гниющим луком. Пахнет сыростью, подвалом и крайней безысходностью. Старая дама правой рукой в перчатке с обрезанными пальцами бережно берет сизую проросшую луковицу. Поднимает глаза, в которых нет больше смерти:
— Маленький мой, — произносит голосом теплым и ласковым, — вот он, мой маленький… соскучился… деточка…
Мы в ужасе догадываемся, что старая дама приветствует луковицу. Чугунные ноги не приподнимаются от серого бетонного пола. Чугунная голова не отворачивается.
— Иди, иди к мамке-то, — глухо, как сквозь ядерное облако, прозвучало недалеко, и в Лилькины вспотевшие от ужаса ладони мягко лег неприятно мягковатый корнеплод:
— Каждый месяц в твоем теле зарождается смерть. Погибшие яйцеклетки мигрируют. Земля оплодотворяет их и превращает в горькие овощи. Взгляни — вот будущие жизни твоих мертвых детей…
Женщина изящно жонглирует ярким редисом, мелькающим в ее руках кровавыми сгустками.
Орехов я не покупаю.
…Почти четыре месяца спустя Лилька проснется с бешено колотящимся и выжигающим подкожную клетчатку сердцем. Неизвестно зачем поднимется с кровати, сделает пару шагов, по ее ногам с силой польется черная кровь, будто бы где-то внутри тела прорвало шлюз.
Опускаясь в соленую теплую лужу, она закроет глаза, радуясь, что сейчас она не спит и не видит во сне проросшие луковицы в темном подвале. Я обнаружу ее часа через два, мягкое августовское утро, мимо моего окна царственно проплывает Марго в импортной плиссированной юбке для тенниса, пятью минутами позже пропрыгает Розка в джинсовом комбинезоне цвета хаки, и никакой Лильки.
Лилька валяется в своей комнате, головой к двери, ногами под кроватью, и, когда я хлопаю ее испуганно по щеке — жестом, сворованным из популярных кинофильмов, она тянет ко мне руки, в чем-то ржавом и сильно пахнущем. Я не успеваю сообразить, что это, Лилька плачет, что-то бессвязно приговаривая детским тоненьким голоском, но я-то все понимаю, потому что это меня Лилька держала за руку, трижды подряд спрыгивая с ворот, заваривая таинственный отвар из петрушки и выкусывая хину из аптечных аккуратных пакетиков с мученическим лицом.
— Помоги мне, — говорит Лилька, я стараюсь не смотреть на ее сжатый кулак, — вот это надо сейчас убрать… а лучше закопать. На месте старого туалета у забора, там земля рыхлая.
— Отец там смородину в прошлом году посадил, — хмуро отвечаю я, — пять кустов. Может, в унитаз?..
— Надо похоронить, — твердо отвечает Лилька. — Ты не поможешь мне? Не надо. Я сама. Сама!
— Помогу, Лиля! Перестань! Будь пока здесь, что ли. Я когда подрою там немного, позову. Ты сама-то как?
— Отлично, — врет она и укладывается обратно в лужу, закрывает лицо руками, — у тебя нет ничего съедобного? Такое ощущение, что я умираю от голода…
Достаю из кармана несколько лесных орехов. Отец уверен в их высокой пищевой ценности. С трудом разгрызаю, используя коренные приземистые зубы. Ядра пропихиваю Лильке в рот. Ладоней от лица она так и не отнимает. Жует несколько минут. Глотает с усилием. И ее немедленно рвет.
Возвращаюсь я за ней через несколько часов. Еле переставляя ноги, ни о чем не думая, пытаясь вообще перемещаться с закрытыми глазами, хотя какая разница — закрыты они или открыты, я вижу одну и ту же немыслимую, страшную картину.
Жирные пласты рыхлого чернозема вдоль чугунной решетки забора, садовая лопатка в моих руках, небольшой, изрядно изменивший своему ярко-синему цвету от долгого пребывания в земле предмет, но такой узнаваемый. И — сразу же — еще один.
Лето заканчивается в этот день. Начинаются другие времена, другая жизнь. Для меня — точно.
добавить комментарий:
Umbra 2009-06-23 01.06 am
Целый день мечтаю остаться одна и наконец выплакаться. Думаю о тебе. Как это тяжело, как это все больно. Где же был Бог, когда тебе пришлось разрывать землю у этого проклятого забора?
SaddaM 2009-06-23 02.10 am
Афтор, нифига непонятно. Лето началось, лето кончилось, вроде бы кто-то забеременел и потом наоборот, а история-то где? Про то лето? Эмоции без истории оставляй себе, бгыг. А что за предмет? Что-то выкопал, что ли?
You are viewing RumpelstilZchen's journal
23-Июнь-2009 02:35 am
«Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма» (с)
Милая, скоро все будет правильно. Пожалуй, мне пора поспать — все-таки немного спать надо. А Бога-то нет, ты забыла..
Ну вот, дорогой русскочитающий друг, добрались до логичного зарывания-разрывания в почвах, по-своему это тоже закон: если в начале повествования есть Сад, то ближе к середине там должны кого-нибудь закопать. Вариант: откопать.
* * *
— Когда мне было лет четырнадцать, ну да, где-то так, я просыпалась и каждое утро фантазировала для себя новое название. Могла велеть называть себя Яблоком. Или Березовым Соком.
— Березовый Сок — хорошее такое индейское имя.
— О-о-о, я в восторге от твоих географических познаний. Индейцы никогда ни одной березы не видали.
— Ну почему. Знаменитейший индейский народный поэт даже посвятил березам несколько пылких строк…
— Это каких? Белая береза под моим окном?
— Не только. Я вообще-то «Во поле береза стояла» хотел исполнить сейчас, душа моя.
— Исполнить, значит.
— Ну да, а раз ты мне помешала, то продолжай про свои детские имена.
— Человеческими я тоже не пренебрегала. Особенно ценила красивые зарубежные: Маделайн, Глория. Еще какие-нибудь обязательно Цветана и Злата.
— Болгарские. Снежана еще.
— Да.
— А я реально поменял себе и имя, и фамилию, и отчество — в шестнадцать лет. Тогда паспорт давали в шестнадцать. Не в четырнадцать.
— Серьезно?! Почему?!
— Ну а я считаю, что это правильно — когда в шестнадцать лет. Ну что там четырнадцатилетний сопляк. Незачем ему паспорт.
— Да при чем тут, нафиг, сопляк?! Почему ты сменил имя, фамилию и отчество?
— Чтобы иметь новое имя, фамилию и отчество.
— Но почему? Тебя звали Ричард Геннадьевич Бляблин? Елпидифор Денисович Телебзда?
— Нет, нет. Гораздо прозаичнее. В какой-то момент разругался с семьей, не желал иметь с ней ничего общего. Вообще ничего.
— Ты меня убиваешь!..
— Нет, нет! Может быть, искусственное дыхание? Изо рта в рот?
— Непрямой массаж сердца, я думаю, поможет.
— Понятно…
— Так как же тебя зовут по-настоящему?
— Не помню.
— Ну что ты врешь всегда!
— Правда, забыл! Я долго старался. Вот, получилось не так давно.
— Так-таки и забыл?
— В основном, душа моя, в основном…
* * *
— Старосельцева, просыпайся, — молодая медсестра с перекрестьем пластыря на румяной щеке потрясла Лильку за плечо, — у тебя сегодня кровь и моча. Мочу вот в эту баночку соберешь, а на кровь через пятнадцать минут в процедурную…
Лилька с усилием открыла глаза, казалось, в них плеснули чем-то ядовитым, например, ртутью. Откуда еще эта ртуть, злобно подумала Лилька, ага, Вэ Вэ Маяковский, «Товарищу машинистке», «Почерк ртутью ест глаза…»
До чего хорошо быть всей из себя филологом, злобно подумала Лилька, на смертном одре элегантно расположилась и цитируешь классиков… А какой простор дает русская пословица девятнадцатого века! Стыд не дым, глаза не выест. Что русскому хорошо, то немцу — смерть. И так далее.
Она подхватила емкость с плотно закрывающейся голубоватой крышечкой и отправилась в туалет. Отправилась в туалет она очень, очень медленно, потому что ужасающе кружилась голова и смешно подгибались колени. Нет, Лильке-то смешно как раз и не было.
Лилька хотела есть. Еды ей, как свежеотравленной, не полагалось никакой, и поэтому она жалко слонялась у дверей отделенческого блока питания. В столовой было малолюдно, многие больничной пищей традиционно брезговали, многие находились в состоянии, идентичном Лилькиному — свежеотравленном.
Высокая и даже огромная женщина, с густо-черными мохнатыми бровями и клочком бумажки на губе, увернутая в полосатый халат, негромко сказала Лильке в ухо:
— Тоже недотраванутая?
Это прозвучало как диагноз.
Лилька испуганно отшатнулась и дополнительно побледнела.
— Травилась, говорю? — огромная женщина повысила голос. — Несбывшаяся самоубийца?
— Нннет, — выдавила Лилька, мелкими шажками отходя к вечнозеленому растению в шершавой кадке, — я случайно… Чего не чаешь, то скорее сбудется…
— Так и я случайно! — обрадовалась собеседница. — Как не случайно! Лолой меня зовут. А тебя?
Она решительно подхватила Лильку почти под мышки и переставила ее к широкому, плохо выкрашенному подоконнику.
— Я ведь в оранжерее работаю, — с чувством начала Лола, поднимая поочередно брови, — смерть, как у нас в оранжерее жарко. Просто ад, я все девкам так и говорю: работаем в аду. Одна радость — выйти и из холодильничка минералки попить. Или там сочку. У нас всегда припасено, сама понимаешь. Или не понимаешь?
Знойная Лола строго осмотрела притихшую Лильку. Лилька мелко закивала, мечтая отделаться от работницы оранжереи и вытянуться на кровати.
— Так вот. Открываю я холодильник, достаю бутылочку нарзану. Ну, думаю, сейчас выпью прохлад ненького… Бутылка прям холодная. Рука немеет. Голимый кусок льда! И что, по-твоему, происходит?
Вряд ли она ждет от меня ответа, меланхолично подумала Лилька, неопределенно пожав плечами.
— Глотаю я эту как бы минералку, и чувствую — помираю… Такая жуткая боль, я заорала и грохнулась без сознания, удачно, в обгцем-то, получилось, потому как от болевого шока и помереть-то недолго было. Оказалось, этот гандон Засечкин своим отсутствующим мозгом додумался набуровить в бутылку из-под нарзана фторной кислоты, ему для своих пидорасовских целей, видишь ли, было нужно… для машины там чего-то… дачу удобрять… жене, суке, от мозолей…
Лола увлеченно и со множеством деталей описывала свои взаимоотношения с назогастральным зондом и с заведующим отделением доктором Родкиным. Лилька внимательно не слушала.
— Ой, что тут было — это война. Короче, Родкин — он же еще преподаватель в институте, ну учит врачей на врачей, я хочу сказать. И вот, насолил он, видно, кому-то из студентов, ему и отомстили. Ага, жестоко так отомстили, намазали ручку от двери его кабинета жидким говном… Родкин выходит такой, массирует ноздри, втягивает воздух и говорит: какие свежие фекалии!..
Лилька молчала. Интересовалась интерьером.
У двери в ординаторскую висел специальный пожарный щиток, традиционно красный. Этакая телефонная трубка под запаянным стеклянным колпаком. Табличка под этой конструкцией гласила: «При пожаре — дождись гудка». Кто-то, очевидно пациенты, идущие на поправку, черным маркером вписали несколько дополнительных рекомендаций. Сверху знака тире. Теперь текст выглядит так: «При пожаре — воруй, убивай, трахай гусей и сестер моложе двадцати — дождись гудка».
Про Дом. 1958–1960 гг
Три дня спустя продолжалась все та же любимая многими страшная майская гроза, крупные капли барабанили по полированным крышкам гробов не хуже молотков, а земля, в которую Розочке предстояло закопать родителей, более была похожа на что-то не-земное, на что-то такое из воды.
…Дождь заливал лобовое стекло представительского генеральского автомобиля, дрожал живой непрозрачной стеной, Розочка прибавила громкость радио и немного фальшиво подпела: я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Генерал сзади откашлялся, потрепал молчаливую генеральшу за бархатное плечо и прокричал, перекрывая шумы:
— Хлещет как из ведра!
— Папа, ну почему надо всегда говорить одно и то же? — скривила недовольную мордочку Розочка, девушка изысканная, студентка филфака университета, романо-германского его отделения.
Если бы она знала, что это будут ее последние слова, обращенные к отцу, наверняка бы она сказала что-нибудь иное, трогательное по-дочернему или ободряющее насчет вечной жизни, подошла бы к этому с ответственностью филолога, но Розочка этого не знала и продолжала досадливо ворчать, выкручивая руль вправо и еще правее:
— Об одном и том же, об одном и том же!
Когда машина чудовищно содрогнулась от сильнейшего удара сзади, многотонный МАЗ легко превратил ее в гармошку, веер или что-то такое, складывающееся, но нераскладывающееся в данном конкретном случае.
Генерал умер мгновенно, генеральша с бедной развороченной спиной прожила лишних минут десять, наверное, это были неприятные минуты, хорошо, что закончились довольно быстро — по общечеловеческим меркам.
Когда Розочке выкатили в морге маму и папу с дырами величиной в кулак по телу, она немедленно начала думать, что это не ее родители, а ее родители — в другом месте, только не здесь. Она принялась повторять вот это самое «только не здесь», чем очень взволновала прикомандированного от военкомата старшего лейтенанта Пеку Копейкина, руководителя похорон.
Старший лейтенант сам по себе был фигурой примечательной, пусть и опальной. Копейкин прибыл в сугубо провинциальный Поволжско-Уральский военный округ из самой Германии, где сначала бодро участвовал в серии операций типа «Чистые руки», «Оборотни в погонах» и «Смерть шпионам», а потом от него вероломно сбежала красавица жена. И не то страшно, что сбежала, ну баба, ну дура, ну что возьмешь, ну сучка не захочет… — так подлая обманщица кинулась коварно прямиком в объятья классового врага, западногерманского банкира херра Решке. Вместо себя жена оставила на частом гребне пяток белокурых волос, на добротном немецком столе недлинную записку, спокойно уведомляющую Копейкина о переменах его гражданского состояния, а в антикварной колыбели, чуть изъеденной жучком — трехлетнюю дочь Луизу Петровну, премилого пупса с северными светлыми глазами. То ли банкиру был генетически неприятен ребенок русского офицера, то ли красавице жене несколько прискучили однообразные обязанности матери, но малютка Луиза получила свой полусиротский статус и новое место жительства — средневолжский город Эн, крупный промышленный центр.
Это бред какой-то, похоже, размышлял Пека, спешно сдавая свои смертыппионские дела. Не может представлять Советскую Армию, ее мощь и сплоченность за рубежом муж изменницы Родины — твердо решило его воинское начальство, — и пусть еще скажет нам спасибо, за то что мы — лояльное воинское начальство и сейчас не те времена… хотя времена всегда одинаковые, конечно. Копейкин в обтрюханной за месяцы скитаний по инстанциям шинели и стоптанных сапогах занял скромный полуинтендантский пост в спецкомендатуре средневолжского города Эн, а Луиза дружно засопливилась в ведомственном детском саду.
В первый же свой рабочий день Копейкин отличился дополнительно. Очень страдая внутренне от несоответствия своих амбиций и несвежих лиц новых сослуживцев, Копейкин решил несколько развлечься, перекинувшись по телефону парой-тройкой слов с бывшим однополчанином, весельчаком Зюзей. Пека и Зюзя — такая у них была слитная формула, типа Тарапуньки со Штепселем, а то и лучше. Разговор и разговор, но ситуация сильно осложнилась тем, что Копейкин плохо запоминал лица. Все человек помнил, фамилии-имена-явки, а лица — нет, вредная чекистская память лица упорно от себя отталкивала. Разговаривая с далеким Зюзей, Копейкин с болью прокомментировал собственное плохое настроение, апатию и непреодолимое отвращение к труду: «Да здесь и выпить-то не с кем… Одно бакланье…» Случившийся рядом незнакомый Копейкину статный военнослужащий с лицом прирученного моржа случайно оказался его непосредственным командиром, вовсе не считавшим себя бакланьем. Так бывает с командирами.
Пека Копейкин получил оскорбительный для офицера наряд вне очереди, Луиза осталась на пятидневке, и ее стошнило молочным супом с вермишелью, похожей на белых юрких червей. Вернувшись домой, Пека внепланово напился в одиночку, клятвенно пообещав мирно сопящему любимому ребенку «никогда больше», «никогда больше», и в дальнейшем действительно исходил преимущественно из ее детских интересов.
А еще Пеку очень огорчали провинциальные дамы. По роду службы посещая различные официальные и чуть менее официальные мероприятия, он постоянно встречал будто бы одну вечную женщину: невысокую грубо сработанную пышку в тесном розовом или лиловом костюмце с выделкой в ромбик. Никогда в длинном платье, никогда с красивой прической. Копейкин очень страдал.
Со временем, разумеется, Пекина жизнь приобрела более-менее внятные очертания, к Луизе была приглашена нянька Никитишна, просторная и добрая, с тромбофлебитными страшными ногами, похожими на дупла для белочек. Она стригла винегрет, варила нежную манную кашу, треугольную гречку из спецпайка и никогда — молочный суп с вермишелью, похожей на белых юрких червей. Луиза росла, великолепно интегрируясь в непростое детсадовское сообщество, чему более всего способствовали ее кудри цвета пшеницы — а давно замечено, что все предпочитают кудрявых детей.
Копейкин осваивал разные отцовские науки, он хотел быть максимально полезным ребенку каждую текущую секунду, и, если Луиза, смешно коверкая слова, спрашивала, к примеру, почему дует ветер, он подробно рассказывал ей о высоком и низком давлении, а также о разнице потенциалов, откуда уже недалеко было и до закона Ома, прихватывал и закон.
Пека понемногу выучился отличать среди прочих товарища командира — прирученного моржа и около десятка сослуживцев еще, это позволило ему упрочить свои позиции в коллективе и обзавестись полезными знакомствами и в некотором смысле «блатом».
Вот и возглавлять похоронную комиссию генерала Старосельцева по блату выпало ему, Пеке, а сложного тут ничего и не было — ритуал знакомый, никаких неожиданностей не предполагал. Траурный оркестр, ордена на шелковых маленьких подушках, троекратный салют — и можно спокойно отправляться домой, играть с любимицей Луизой в дочки-матери или настольный хоккей.
Но тут возникла дочь покойного генерала, с роскошным именем Роза, опухшими от слез раскосыми глазами, спутанными черными волосами и непрерывным «только не здесь» на вздрагивающих губах. А потом и Тамара Мироновна — неловко застывшая обвалившейся снежной бабой на антикварном дубовом паркете, между громоздким шкафом и створкой окна.
Дорогой читатель, вот, наконец, и появились последние из действующих лиц. Как-то это называется в классической драматургии, когда на сцене присутствуют все герои? Вот и я не помню. На сцене присутствуют все герои, а на Северной веранде — к сожалению, не все, не скажу пока, почему. С некоторыми героями опять случились некоторые неприятности, если взыскательный читатель позволит такое умеренное выражение.
— Мандарины? — удивилась Марго, глядя на Юраню, методично выкладывающего на стол маленькие оранжевые мандарины с настоящими зелеными листами. — Откуда? Вроде бы не сезон…
— Сезон-сезон, девки, — пояснил Юраня, расположив цитрусовые в форме большой буквы «О», — мандаринам — завсегда сезон, лучшая закуска в мире, я считаю. Легкая такая, мля…
Марго не ответила, махнула рукой. Было лучшее время дня, немного «между» — еще не вечер и уже не день, время пить чай, смотреть на любимые лица и говорить на приятные темы. Юля только что звонила в больницу, у Лильки было все хорошо, Лилька жалобно просила еды и забрать ее домой.
«Англичанка» взяла мандарин, мгновенно очистила его, резко запахло елкой. Ирина сложила корочки аккуратной горкой, напоминающей пагоду. Ярко-синяя лента в ее волосах была единственным цветовым пятном сегодня: белые волосы, белое лицо, белый сарафан, белая, очень белая кожа.
— Нет-нет, благодарю вас… — Лукаш Казимирович отрицательно покачал головой, отказываясь от хорошо охлажденной водки, бутылка запотела, Юраня нетерпеливо катал ее какое-то время в ладонях, разглядывая математика с укором. — А эта-то где? — вспомнил он наконец. — Розка где? Я огорчусь, мля, если Розка со мной сейчас не выпьет!
Марго прикрыла нежное лицо руками и отодвинула чашку с холодным чаем:
— Я ее с утра не видела. Может быть, закрылась у себя и скрывается в комнате. Приступ аутизма. У членов нашей семьи часто встречается…
Ирина вежливо улыбнулась. Подкатила к себе еще один мандарин.
— Нет-нет, — встрепенулась Юля, — не аутизм. Роза вроде бы на работу собиралась. Что-то там такое. Срочно-важное.
Лукаш Казимирович погладил ее ладонь пальцем.
Юля улыбнулась, подумала и решила выпить водки. Она ужасно устала за вчерашний день, вернулась после мероприятий по спасению Лильки под утро, спала часа два с отвратительными кошмарами, проснулась от телефонного звонка. Долго разговаривала с дочерью о кошке Наташе и с коллегами по работе о текущем ремонте больницы, с заведующим отделения о небольшом отпуске за свой счет.
Юраня почти с любовью осмотрел Юлю с наполненной стопкой и удовлетворенно выпил. Закусил мандарином с листами.
Юля же неожиданно для себя после водочного глотка буквально взбодрилась и сказала обществу:
— Такое, оказывается, увлекательное дело — проехаться по улицам не водителем, а пассажиром. Можно глазеть себе по сторонам. Сегодня глазела, например. Перетяги повесили, через дорогу, пять штук подряд, красно-черно-желтые, с надписью заглавными буквами: ГЕРМАНИЯ СОВСЕМ РЯДОМ. Я прямо испугалась. Немного…
Юраня сочувственно простонал и быстро выпил еще. Марго нервно закурила. Лукаш Казимирович налил Юле водки еще и прокомментировал:
— Германия совсем рядом… Угрожающе…
— Тут еще дело в том, — оживленно пояснила Юля, — что я осенью должна поехать в Германию, в город Висбаден, на стажировку в клинику… И тут — раз! — совсем рядом, говорят. Немного мистически, нет?
«Англичанка» Ирина произнесла с мандариновой долькой во рту:
— Одна моя хорошая знакомая любит гадать на рекламных блоках. Перед началом говорит себе: вот этот сюжет будет иметь важное значение для завтрашнего дня. И ждет.
— И что? — заинтересовалась Марго.
— Смотрит. Если реклама МТС — ждет звонка от абонентов МТС…
— Ага, если Билайн — от абонентов Билайн, — подхватил глумливо Юраня, — если Мегафон — от абонентов Мегафон…
Ирина усменулась и замолчала.
Забытый на перилах Розкин телефон кстати заиграл нечто бравурное, типа марша, но со скрежетом и не замолкал очень долго.
— Да отключите кто-нибудь мерзкий звук! — взбешенно прокричала Марго, ломая в пепельнице недокуренную сигарету.
Телефон замолчал сам.
Лукаш Казимирович очистил мандарин, положил перед раскрасневшейся Юлей и сказал, чудно подменяя «л» на «в»:
— Недавно читаю лекцию по системному анализу, звонит мобильный, оглушительно, обычно я выключаю звук, а это как-то забыл, выхватываю трубку из кармана, вместо кнопки «отбой» впопыхах нажимаю на «громкую связь», и вот по громкой связи мой возбужденный приятель громко требует у меня немедленно координаты дешевых стриптизерш.
— Дешевых стриптизерш!.. — захохотал Юраня, хлопая себя ладонями по коленям. — Ладно бы хоть дорогих!..
Юраня даже привстал, чтобы согнуться от смеха пополам и недолго постучаться лбом о край стола:
— Де-ше-вых стрип-ти-зе-р-ш!..
Последнее слово он умудрился разделить на пять полноценных слогов.
— А-а-а-а-а! — на веранду с криком вбежала Флора, и закричала еще: — А-а-а-а-а-а-а! Там мама! Мама лежит, под вишнями, и не встает! А-а-а-а-а-а-а!
* * *
— …влюбилась в него жутко, конечно. Сам понимаешь, я — восьмиклассница, идиотское коричневое платье, оторванные манжеты болтаются, дурацкая прическа с начесом — такая мода была. Челка, вытравленная гидроперитом. Должна была получиться светлая, а получилась — ярко-рыжая.
— Смешная.
— Точно, оборжаться. A он — ну просто звезда, уверяю тебя, в масштабе школы он и был вполне себе звездой. Сейчас это красиво называется диджей, а тогда — диск-жокей. Не сказать красивый, но — блистательный. Я так в него влюбилась, что перестала даже в школу ходить. А я ведь хорошей была всегда ученицей, даже иногда отличницей. А тут как представлю, что встречусь с ним, а он на меня традиционно — никакого внимания…
— Бедная моя.
— Девчонок вокруг него всегда было… Вечно кто-то прыгал около, танцевал ритуальные танцы, заглядывал в глаза, писал записки, подбрасывал письма, дарил билеты на модные концерты и кинофестивальные сеансы. Отверженные ревели в туалетах и в раздевалках, между шубами.
— Просто роковой мужчина.
— Да, да! И вот представляешь. Такой произошел неописуемый случай. Подходит на перемене ко мне Он сам, лично, и говорит, а я просто вся трясусь как припадочная. И говорит… Совершеннейшие пустяки, в общем-то, говорит…
— Ты сейчас-mo не трясись.
— Не буду. Это я так. Прости.
— Перестань, душа моя, какое еще прости…