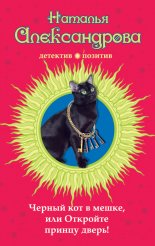В двух шагах от рая Евстафьев Михаил

И действительно, бой продолжался, только старшему лейтенанту словно ватой заткнули уши. Он видел, как кривится рот Сычева, как дергается затвор его автомата, и сыпятся в пыль гильзы, но ни голоса, ни выстрелов не слышал.
Мягкие усики на гранате распрямились. Шарагин прижал гранату правой рукой к сердцу.
…боль, я не сразу заметил ее…
Боль. Она робко притиралась,
…как попутчик в автобусной толкотне…
жалась, осторожничала, вроде бы ластилась; лишь позднее, окрепнув, она перенарядилась в нечто более яркое, волнительное – в алое, в цвет крови, которая исходила из раны; углублялась боль, утверждалась, становилась невыносимой, и стирала,
…как стирают со школьной доски отслужившие слова…
цвета яркие и мысли, и переживания, ныряя в бесконечность, наполняя каждое мгновение ослепительно жгучим светом…
– Связь нужна! – захрипел Шарагин. – …Артиллерию… вызывай!.. Огонь на себя!..
Первый снаряд положили точно по гребню. Шарагин не услышал разрыв – ощутил всем телом, как содрогнулась земля. Он выглянул из-за своего камня-укрытия, чтобы проверить, куда попали. Били четко, один к одному ложились снаряды, будто кто-то корректировал огонь.
…везуха!.. вызывали огонь на себя, а они, как всегда, мазанули…
но как они успели так быстро выйти на связь и передать координаты?
должно быть, я в отключке был… сознание потерял?..
Не знал Шарагин, что весь бой ротный наблюдал в бинокль. Выставили-таки блок, но только в другом месте, два километра с лишним разделяло их. Так что координаты выдал Зебрев, он же корректировал огонь. Видел, что духи спускаются по левому склону. Обошли бы очень скоро взвод с фланга и расстреляли бы в упор.
Последние разрывы на гребне, и жиденькие автоматные очереди Шарагин слышал уже отчетливо: слух вернулся так же неожиданно, как и исчез. Словно волна прибоя накатилась на него, возвращая в мир привычных звуков.
Пока бойцы возились с ранеными и убитыми, Шарагин запрятал гранату в лифчик и занялся автоматом, который так не вовремя подвел его. Он увлекся и злился, будто важнее сейчас дела не было, чем чинить заклинивший автомат, будто и ранения не было, и боли, которая то налетала, то исчезала.
– Товарищ старший лейтенант, Мышковский и Чириков убиты… пять человек ранено, Саватеев и Бурков серьезно, – докладывал кто-то из солдат взводному.
…да-да… что ж ты, сука, подвел меня!..
– Товарищ старший лейтенант…
Шарагин дергал затвор автомата. При каждом рывке сбивалась повязка на шее и начиналось кровотечение. Он схватил камень и что есть силы ударил по затвору. Пошел затвор. И кровь хлынула сильней. Он почувствовал, как теплая струйка побежала вниз под тельняшку.
– Товарищ старший лейтенант…
Шарагин захлебнулся кашлем, искры засорили глаза.
– Олег! – звал Зебрев. – Ты слышишь меня?
…вот и все, я ухожу…
Он, видимо, давно уже лежал без движений. Из ушей и из носа текла кровь. Почти закрыв небо, обступили его напряженным кругом солдаты.
И он понял, что мертв, что и они это знают, и прощаются с командиром.
Глубокое небо утягивало, неслось навстречу, советовало расстаться с земными заботами, и лететь в бесконечность небесную, чтобы раствориться там навсегда.
И последнее, что довелось наблюдать ему перед тем, как умереть, был плывущий самолет, и он обрадовался, что это летит Ил-76-й, который, возможно, уносит из Афгана переживших войну людей,
…кому-то повезло…
а, возможно, возвращается из Ташкента, набитый новичками и отпускниками. Но в последний момент он засомневался, и стал более пристально всматривался в небо, пока не разглядел, что это «Черный тюльпан».
…как же все прозаично закончилось!..
Однако что-то, возможно, удержало в нем дыхание жизни, вернуло назад, к тому мгновению, когда подошел Зебрев. Или просто почудилось Шарагину, что он остался жив?
…с того света люди не возвращаются… наваждение… сколько
времени прошло?..
– Подожди, не двигайся! – говорил Зебрев. – Мы тебя перенесем!
– Не надо, я своим ходом! Помоги встать!
– Выдвигаемся! – командовал ротный, и солдаты из подоспевшего с ним взвода подняли и понесли раненых и убитых.
Шарагин утвердился на ногах, оттолкнул бойцов:
– Я сам!
…надо идти, а сил нет… как полудохлый таракан…ноги
трясутся… кашель…
Только теперь почувствовал Шарагин, что пуля
…или осколок…
в горле застряла.
…прямо комок инородный внутри, маленький свинцовый комок…
– Товарищ старший лейтенант, давайте промедол вколю, – предложил Сычев.
– Отставить!
…вколют – поплыву…
– Раненым колите.
Кое-как держась на ногах, покачиваясь, опираясь на автомат, Шарагин спускался к речке. Ниже по руслу была пригодная площадка, там ожидали вертушку.
Он шел больше километра, предпоследним в цепочке, а впереди бойцы тащили в плащ-палатках два трупа и стонущего Буркова.
Несколько раз он останавливался, просил наполнить флягу, жадно глотал ледяную воду горной речки. Будто из святого источника черпали – силы прибавлялись, вода, как наркоз, замораживала и притупляла на время боль в шее.
В одном месте Шарагина повело. Он удержал равновесие, остановился. Ему захотелось прыгнуть в воду, чтобы унесла река в неизвестность, чтобы сбежать от свершившейся трагедии.
…только бы стерпеть, не отключиться, не потерять сознание, не
скиснуть от жалости к самому себе… буду идти до конца… надо
вывести взвод!..
– Если буду падать – держи, – сказал он поравнявшемуся с ним солдату. Лицо солдата он не разглядел, мутило в глазах.
Колючая пыль, гонимая лопастями вертушки, разлеталась прочь, царапала и кусала Шарагину лицо, и без того обветренное после недели в горах. Сгоревшую на солнце кожу можно было бы, наверное, при желании стянуть, как чулок.
Понесли Мышковского с одним оставшимся целым глазом.
…пустой мертвый взгляд на холодном застывшем лице…
когда рыба лежит на дне лодки и беспомощно хлопает хвостом, ее
засыпающий глаз видит небо, и принимает голубой свет его за
море… целый день рыбачишь себе, поглядываешь на улов… и ни
капли жалости, сострадания… что же это со мной делается?.. солнце
припекает чешую, рыба твердеет, становится будто деревянная…
– В хвост заноси!
За Мышковским последовал Чириков. Пока тянули солдата за ноги, запихивая труп в вертолет, брезент распахнулся, обнажив белобрысую шевелюру и залитое запекшейся кровью лицо. Шарагин подался вперед, накинул сверху брезент.
– Теперь раненые!
– Всех погрузили! – крикнул Зебрев и помог забраться Шарагину. – Держись, Олег! Возьми, – на ладони лежали лазуритовые четки, – у духа одного выпали. Они ему больше не нужны.
Измученный, злой, полу оглохший, Шарагин устроился на полу, откинулся спиной к стенке фюзеляжа. Боль распухла до размеров ревущего вертолета, и даже, пожалуй, больше, заполнила все пространство, зримое и незримое.
Лопасти потащили вертолет вверх.
Из кабины высунулся пилот:
– Мужики! Кто-нибудь, сядьте за пулемет! Здесь район проклятый!.. Дай Бог выбраться!..
…где мой автомат? как я буду отстреливаться?..
– Перетяните жгут, товарищ стар… – попросил-простонал рядовой Бурков.
Шарагин опомнился, встал на колени, чтобы перетянуть перебитую пулеметным огнем ногу, и тут же почувствовал сильное удушье. Видимо, из-за высоты не хватало кислорода. И обмотки на горле сдавили шею. Он рухнул на бойца.
Наступившая вдруг темень не испугала. Он легко поддался ей, зная, что сопротивляться не сможет. Сил на поединок не осталось.
…а дальше тишина…. откуда это?.. Шекспир?.. не помню сейчас… и
рад бы в рай, да грехи не пускают…
Он очень хотел разобраться, что же происходит, что случилось с сознанием, но ухватить хоть одну точку опоры, зацепиться за что-нибудь твердое, чтобы затормозить падение в бездну, не получалось; исчезло прошлое, все разом, о будущем он и подозревать не смел, и настоящее заполнилось тишиной – ни шороха, ни звука, пусть даже очень отдаленного, ни намека на жизнь.
И после миллиона лет тишины, что-то оживилось, и он мог бы поклясться, что в темноте теперь угадывалось чье-то присутствие, по всей видимости, то была смерть, шарившая руками, искавшая истекающего кровью, доведенного до безумия болью, забившегося в сырой угол, спрятавшегося, не готового, не желающего умирать человека.
…вот и всё… конец…
Из нахлынувшей на него пустоты выросла гора шума, вселенная жуткого шума; проваливался он в ту черную пустоту глубже и глубже, повис, застрял, не разбирая, не выделяя отдельные звуки: монотонный сверлящий черепную коробку гул и только. Не понимал Шарагин, ослеп ли он, глаза ли закрыты, или, надеющаяся секунду, минуту, час тому назад на спасение жизнь, покинула его, подтолкнув сюда – в черную пустоту, в предбанник смерти.
Глава одиннадцатая
ГОСПИТАЛЬ
Газ шестьдесят шестой с крестом на крытом кузове, с включенными фарами медленно въехал на территорию госпиталя, затормозил рядом с приемным отделением, где уже выгружали раненых из других машин. К задней двери грузовика подошли солдаты-санитары с носилками, открыли ее, и первым выпрыгнул из кузова худой офицер с синяками под глазами, в защитном маскхалате и кроссовках, с автоматом. Следом вылез солдат-узбек с забинтованной головой. Его взяли под руки, повели в приемное отделение. Далее показался усатый лейтенант с нездоровым возбуждением во взгляде. Тонкие бледные ноги лейтенанта были в крови. Она запачкала носилки.
В приемном отделении набилось больше двадцати раненых.
Подстриженного под ежика солдатика раздели до трусов. Он был в шоке. На подбородке виднелись глубокие порезы. Парень хотел что-то сказать, но речь была невнятная. Медсестра спросила фамилию. «Б-бы-к-ков». Она положила ему на загоревшую грудь клочок бумаги, нацарапала карандашом фамилию, оттянула резинку синих сатиновых трусов, засунула под нее бумажку с фамилией. Парень заворочался: «С-спи-на, у меня б-болит спина, во-вот зд-зд-зд-есь» – говорил он, и пытался дотянуться отяжелевшей от обезболивающих наркотиков рукой до подбородка. Медсестра подложила под правую руку подушечку, перетянула жгутом руку выше локтя, поставила капельницу, позвала врача:
– Рубен Григорьевич!
– Готовьте к операции!
Лейтенанта с голыми ногами покатили по коридору. Врач, только что осматривавший его, устало сказал:
– Придется ампутировать ногу.
Действия медперсонала были спокойными, обстоятельными, они словно жили в ином мире, где не было места для суеты. Говорили громко, отчетливо и совершенно без эмоций, как будто не с живыми людьми занимались, не с ранеными имели дело, а мясные туши разгружали и сортировали, развозили по холодильным камерам для последующей обработки.
Шарагина внесли раньше остальных, но не успели пока оказать помощь, так как выглядел он в общем-то вполне живым, в сознании пребывал и не кричал от боли, как некоторые, не бредил; только шея у него была перевязана, и лицо излишне бледное было; лежал он на носилках в углу, терпеливо ожидал свой черед.
…вот так же после смерти, видимо, сортируют людей… здесь – на
живых и мертвых, там – кому в ад, кому в рай… неужели и там тоже
будет очередь?.. неужто и там тоже придется ждать?..
– Эй! Есть сигареты?
Солдат-санитар сунул руку под халат, вынул из брюк помятую пачку «Донских». Шарагин разминал пальцами сыровато-мягкую сигарету без фильтра, крошки табака вылезали из-под бумаги, слушал офицера в маскхалате с обгоревшим и облупившимся носом, и выгоревшими под горным солнцем волосами:
– …на мине подорвались. Бэтр.бнуло так, что всех разметало метров на двадцать… Я так п.зданулся, что имя не мог собственное вспомнить…бтыть, до сих пор голова гудит. Брякнулся в пыль, лежу, и вижу: летит с неба прямо на меня колесо бэтра… сейчас, думаю,.бнит и п.здец! раздавит к.бени матери. И, слышь, представляешь, двинуться не могу, спина прилипла к земле. А колесо рядом плюхнулось, подскочило, сука, и укатилось. Потом встал каким-то образом. Бойцов собирал, как горох рассыпавшийся. Водила погиб. Ротному совсем плохо было, парализовало, ноги, наверное потеряет. Его увезли раньше. Сестричка, не посмотришь, капитан Уральцев, в какое отделение его определили?
– Дай присмолить! – Шарагин прикурил у санитара, и с первой же затяжки продрало все внутри, до мозга костей. Стал мотать головой, кровь засочилась через бинты. Он сполз на кафельный пол. Не хватало воздуха, задыхался, сознание ускользало.
– Рубен Григорьевич, подойдите сюда!
– Что у вас за ранение? Пулевое, осколочное?
Шарагин перестал кашлять, поднял глаза на врача
…дождался своей очереди…
и прохрипел:
– В шее, – показывая, чтобы тот поверил, пальцем, где именно сидит свинцовый комочек.
– Срочно на рентген! И сигарету выбросите немедленно!
Шарагина бил озноб, руки и ноги немели. Его куда-то катили, раздевали, укладывали на стол, записывали имя, фамилию, звание, часть.
Тревогу и едва различимое отчаяние рождал в нем госпиталь, особенно неприятный лекарственный запах, который перебивал любой другой, даже исходивший от раненых в приемном отделении запах вонючих носок и грязного белья; запах больничный подтверждал, что приключилась беда.
Он больше не принадлежал самому себе, другие люди, совсем посторонние, отныне распоряжались его судьбой, от него теперь мало что зависело.
Перед тем как увидеть над собой лицо медсестры, он услышал тонкий, манящий женский запах, выбивающийся среди медикаментов, бинтов. Запах был давно забытый, свежий, чистый, пьянящий после гари, пота, пороха, смерти, крови. И так захотелось, чтобы запах женщины, запах уюта, заботы, покоя, остался рядом навсегда, и чтобы задушевная, мягкая женская речь не умолкала.
Поставили капельницы, нашатырь кто-то поднес.
Когда стягивали брюки, он попросил санитара:
– Земеля, достань из кармана четки, – сжал в кулаке – холодный полированный камень, трофейные, с пушистой кисточкой на конце, протянул медсестре:
– На, сестричка. Возьми! Лазуритовые! На память…
Судя по едва уловимой неловкости и неуверенности, по выражению лица, которое как бы извинялось перед Шарагиным за причиняемую боль, и сочувствовало излишне, медсестра приехала в Афган недавно; сестричка попалась ему с еще не притупившимся восприятием человеческих страданий и боли.
…угораздило тебя попасть на эту войну… зачем тебе это,
сестричка?.. романтика?..
После рентгена Шарагина оставили на каталке в коридоре. Жутко хотелось пить, а медсестра на мольбу его тихо отвечала:
– Потерпи, нельзя тебе пить, скоро на стол пойдешь, – и проводила влажной ваткой по потрескавшимся губам.
…милая ты моя, зачем же тебе всё это видеть? зачем ты здесь?..
Сухой язык еле-еле ворочался, обветренные губы кровоточили. Он хотел сказать ей что-то ласковое, поблагодарить за нежность, от которой давно отвык, но не смог, испугался, что растрогается.
Выбежал врач со снимками, крикнул санитарам:
– Давай в операционную!
– Погодь. В туалет хочу, умираю. Не дай опозориться офицеру! Я быстро схожу, – и привстал.
Закружилась голова.
– Куда вы! – вскрикнула и подхватила его медсестра. – Возьмите утку.
Она отвернулась, чтобы не стеснять непривыкшего к здешним порядкам офицера. Лучше в такой ситуации уступить. Времени торговаться нет.
– А теперь можете меня пилить, кромсать, – хрипел Шарагин пока его катили в операционную.
Сестричка приготовила помазок с торчащей, как у дикобраза, щетиной, кусок мыла, лезвие «Нева».
– Ой, держите меня, – застонал Шарагин. – Милая, ты когда-нибудь пробовала «Невой» человека брить? Ей же только поросенка скоблить да карандаши точить. Сжалься. Пойди в мужской модуль, попроси у мужиков нормальное лезвие, а то, – он сделал вид, что готовится встать. – А то сам пойду.
Анестезиолог закатился от смеха. Девушка смутилась, но продолжала свое дело. Шарагин держался на одном гоноре, знал, что стоит только замолчать – тут же потеряет сознание. Поэтому перед тем, как его распяли на капельницах,
…как Христа…
и ввели катетер под ключицу, и накрыли маской наркоза, он кадрился с медсестрой, рыженькой, немного застенчивой девушкой, выспрашивал как ее зовут.
– Да Галей ме-ня зо-вут, Га-ля, ус-по-кой-с-я… – расплылась она в улыбке.
…Галя, Галя, Га-ля, Г-а-л-я…
– Сейчас будет немного больно, терпи, – предупредил хирург.
…боль – это не самое страшное, боль я стерплю… вы делайте свое
дело… чтобы поставить меня на ноги, чтобы я смог вернуться в
строй… ноги заледенели… вот она, матушка-смерть… тьма…
тишина… и я лечу вниз… неведомо куда, в далекое глубоко, что-то
мягкое, как пуховая перина, и теплое… мгла согреет меня…
– Пульса нет!
Глава двенадцатая
ЦИРК
Голоса и иные звуки, что-то наподобие хлюпанья и шипенья, доносились с тех мест, где война закончилась, где ее вообще никогда не могло быть. Чей-то голос, это не был голос медсестры, это был не женский голос вовсе, но и не анестезиолога, чей-то незнакомый голос говорил про ледяную воду из горной речки, что она как наркоз, а он не понимал, откуда они это знают; впрочем, эти люди знали о нем все; и удивлялся голос, что привезли офицера живым, потому что с таким ранением не живут.
Чужие глаза поверх повязок наблюдали за ним.
…это не они смотрят на меня, лежащего, это я смотрю на
них сверху вниз, они подо мной… вот я и покидаю вас…
Странным образом боль, ухватившая его за шею и горло, готовая перекусить горло и отделить тем самым голову от туловища, оставила в покое, осталась лежать на операционном столе, вытекла из-под скальпеля, тонкой струйкой крови и застыла, словно сбежавшая с листа ватмана змейка акварели.
Он закрыл глаза, и тогда до него стали доноситься совсем уж незнакомые голоса, будто беседовал кто-то в соседней комнате, а он подслушивал, хотя на самом деле все было наоборот: с ним происходили всякие странности, а те люди подслушивали; он видел перед собой друзей, с которыми воевал почти два года, видел бой и залпы орудий, и разрывы бомб, видел лавой стекавших с хребта духов, видел солдат, обступивших погибшего командира, видел жену и дочь: они стояли на берегу, любовались, как садится в море «колобок», Настя играла с ракушкой, бросала в море монету, а монета падала на гальку, видел события прошедших недель, месяцев; и почти уверен он был, что те люди, которым принадлежали голоса, обсуждают, как украсть его воспоминания, а еще – это он вообще и в мыслях держать побаивался, – еще подозревал он, что люди те пришли украсть его душу. Они, очевидно, услышали его мысли, догадались, что он вычислил, кто они на самом деле и зачем здесь – вот отчего голоса стали громче, и нервозней, и жестче, и вот уже кричали, и перемещались с места на место, то одним, то другим ухом фиксировал он, как скачут голоса.
…они хотят меня догнать… меня они не догонят… я
выскользнул из их рук… я свободен!..
Пространство, в которое он попадал, – будто кто обвязал его веревкой и, то опускал в жутко глубокий кяриз, на темном дне которого обязательно встретятся духи, а он – совершенно безоружен, и только мысль отчаяния: почему же не кинули сперва вниз гранату?! он погружается все глубже и глубже в колодец, – то поднимал наверх, – пространство было и однообразно серым, и заполнено было бесконечной темнотой, после чего превратилось пространство в водную стихию, и он поплыл на спине, понесло его куда-то, покачивая на волнах; через некоторое время волны пропали, и остались только капли росы на руках и ногах, и из этих капель выросли страшные лица, но сперва – мутные слепящие глаза круги.
Боль вцепилась в глаза, лоб, затылок, шею, поглотила целиком.
…я почти освободился, но они не пускают меня…
Он видел свой дом, который на самом деле не был его домом, но в эту минуту он считал, что именно это и есть его дом – один-единственный. Порыв свежего ветра приподнял занавески, с улицы прибежали шаловливые солнечные зайчики, на тумбочке под абажуром заиграла родительская радиола в деревянном ящике, театральные радиопостановки сменялись классической музыкой. С улицы кричала ребятня, мальчишки звали играть в футбол. Он сбежал вниз по лестнице и не узнал двор. Двор не походил ни на один из дворов детства. Посреди двора, спиной к Олегу стояли мужчины в черных пиджаках, которые вдруг развернулись, подбежали и повалили его. Стало тяжело дышать, голову зажали железной скобой. Он закричал и крик растянулся на бесчисленное количество часов.
Боль спугнул бой часов. Они стояли в комнате родителей. Часы пробили девять раз. Он уже на спал, лежал под одеялом и вспоминал вчерашний день.
…Разве могла ребятня удержаться от соблазна проникнуть в Шапито?! Прокатившись по улицам города, вагончики цирка устроились в небольшом парке. И вот уже на глазах у любопытной детворы конструкция железная появилась, а сверху полосатый тент натягивали. Издалека, а потом все смелее, все ближе подбираясь, следила детвора за цирковым городком. Накануне всю ватагу ребят прогнали рабочие прочь, уж больно надоели мальчишки, путались под ногами, шалили, лезли всюду. В этот раз Олег хитрей оказался. Один пошел. Одного не поймаешь, не засечешь так просто. Пролез под вагончиками, затаился мышонком под колесами. Так хотелось подольше побыть рядом с настоящим цирком! А то, известное дело, выступят и укатят вдаль, и жди следующий год. Праздник цирковой так краткосрочен, так призрачен! А кому не хочется зверей разглядеть, артистов разодетых, репетиции посмотреть?! Не заприметили б только, не выгнали, не заругали б циркачи!
Незамеченный на первых порах, пробирался Олег дальше, как разведчик в кинофильмах. Выглянул из-под прицепа – слоны. Сперва он ноги их увидел – массивные такие, как колонны. И хобот; длинный, мокрый на конце, теплый, дышащий, хобот потянулся под прицеп, к Олегу. Слон здоровался с ним! А может быть обнюхивал? А может просил что-нибудь сладкое? Или звал играть?! Вот бы выйти и погладить слона, а, если повезет, забраться и посидеть верхом, а если очень повезет, прокатиться по цирковому городку, по улице! Вот уж позавидуют приятели! Им такое и не снилось! Хобот исчез. Раздетый по пояс, мускулистый, в кожаных сапогах мужчина ударил слона по толстым складкам кожи железным прутом. Несчастное животное дернулось, грустно посмотрело на мальчишку под прицепом.
Где же все артисты?! Скорей сюда! Неужели никто не видит, кроме меня, как избивают слона?! Сделайте что-нибудь! Быстрей же! Ему же больно! За что его так? Гад! Фашист! Вон же рабочие и артисты! Никто не обращает внимания, что бьют слона!.. Слезы на глазах Олега, и отчаяние, и жалость к слону, и нестерпимое желание отомстить за бедное животное, вдруг подменила тревога: он, по сути, единственный свидетель, и если сейчас этот страшный мускулистый мужчина увидит его, Олега, сжавшегося тут же рядом, всего в нескольких метрах, то непременно изобьет его, потому что не должны здесь быть посторонние. Ведь раз он подсмотрел, то может рассказать другим, рассказать о том, что творится на самом деле в цирке!
Не по себе стало от страха. Нет, мужчина не видел его, мужчина продолжал бить слона; он так завелся, что готов был захлебнуться от ненависти. Почудилось, будто кто-то третий стоит совсем рядом и наблюдает за ним. Но кто?
Из-за высокого ящика из досок выглядывал глаз, и одно ухо торчало, и вздыбившийся рыжий парик, и одна рука, и короткая штанина, а из нее – нога в длинном, плоском ботинке с отваливающейся подошвой. За ним наблюдал… клоун! Сначала Олег больно ударился головой о днище вагончика, под которым сидел, и набил себе шишку, после выбежал из укрытия и пустился наутек.
Навстречу попался мальчик в костюме и в галстуке. Он сразу решил призвать парнишку на помощь – вдвоем они устоят против мускулистого мужчины и клоуна! вдвоем хотя бы не так страшно! – но тут он заметил, что лицо у мальчика старое, морщинистое, и что вовсе это не ребенок, а один из лилипутов, один из тех уродливых человечков, которых выпускают обычно на манеж потешить публику.
Дрессировщик опустил железный прут. Клоун показался из-за ящика весь, пестро одетый, взлохмаченный, без наигранной улыбки, в легком гриме. Они задымили сигаретами.
До вечера Олег пролежал на кровати, никуда не выходил, читал, убегая от родителей, школы и циркового кошмара в загадочные, таинственные, наполненные захватывающими приключениями книжные миры. Порой вовсе не обязательно было даже читать, он и так давно уже прочитал и Майн Рида, и Фенимора Купера, и Конан Дойля, и Дюма, и Вальтера Скота, и иногда, перед сном, просто мысленно возвращался к любимым героям. Корешки книг на полке всегда звали мальчика к себе. Он втайне дружил и многому-многому научился у отважного рыцаря Айвенго, у мушкетеров, у Следопыта. Перед ужином Олег успокоился, забыл про цирк.
Серебряные оловянные солдатики шли в атаку на врага, в полный рост, несмотря на шквальный огонь наступали на золотых оловянных солдатиков; всего десять человек их было, почти взвод, и командир – матрос в бескозырке и тельняшке. Солдатиков привез год назад из Москвы дед Алексей, в Москве купил, в «Детском мире», а матроса Олег выменял у одноклассника.
Матроса Олег любил больше остальных. Именно за тельняшку, как у десантников. Золотые оловянные солдатики оборонялись ожесточенно, защищали свой штаб. Им было легче. Обороняться всегда легче. Золотые солдатики заняли господствующие высоты – на коробке из-под обуви, на шерстяном свитере, за разноцветными пластмассовыми кубиками.
Взвод матроса поредел, сразу пятерых серебряных солдатиков подстрелили. Олег повалил их на пол пальцами, оставшихся в живых придвинул к позициям врага. Они вступили в рукопашный бой.
Мама вошла в комнату, когда в живых остался один матрос. Его окружили сразу трое золотых солдатиков. Он должен был во что бы то ни стало выполнить приказ, захватить вражеский штаб! Раненый, безоружный, схватил он в последний момент чей-то автомат, чтобы добить последнего противника, но мама помешала, мама отвлекла внимание, и золотой оловянный солдатик, истекавший кровью, выстрелил первым и смертельно ранил матроса.
– Олежка, а я билеты в цирк купила, – сказала мама. Сказала таким голосом, будто кусочек торта на третье предложила. Вот что помешало матросу выполнить приказ! И стоило ему жизни! – Ты рад?
– Не нужен мне никакой цирк! – Олег щелкнул пальцем, и матрос повалился на пол.
– Как? – мама растерялась. – Ты же так хотел пойти на представление…
– А теперь не хочу, – Олег встал с пола, забрался на кровать, надулся, нахмурился.
– Ничего не понимаю. Поговори ты с ним. Как же так? Я с работы специально отпрашивалась, места хорошие взяла… – Олежа, иди сюда, отец хочет тебе что-то сказать.
Олег вздрогнул. Папу он любил, гордился, что папа офицер, и боялся, с раннего детства, с того первого раза, когда папа ударил его, совсем малыша. В памяти сохранились отрывочные моменты.
Завтракали без мамы. Олегу нездоровилось, он заболевал гриппом, ел кое-как. Отец же решил, что сынишка капризничает, раздраженно велел доедать яичницу, нервно подвинул чашку и чай выплеснулся через край на стол. Вместо того, чтобы вытереть, он вставил в рот сигарету и сердито повторил:
– Доешь, тогда пойдешь!
– Я не хочу больше… – опустив глаза, сказал в ответ Олег.
– Не будешь?
– Папа, я правда не хочу…
Отец плеснул еще горячий чай в лицо, да вдобавок подзатыльник залепил. Ослепленный слезами, Олег сорвался было с места, хотел спрятаться, забиться в угол, залезть под кровать и плакать до вечера, скрыться, навсегда убежать из дома, но отец схватил его за шиворот, начал лупить.
Что-то происходило с отцом иногда. Он будто превращался в чужого человека, недоброго, беспощадного, не умел сдерживать резкие порывы гнева, он вдруг начинал ненавидеть самых близких людей, и его, и маму, и чуть что, распускал руки. Благо, долго в родительском доме Олег не задержался, пошел в суворовское училище. Там тоже разное бывало, бывало что драться приходилось, и битым быть приходилось, но на то и училище, чтобы учиться постоять за себя.
Отец выпил и пребывал в скверном расположении духа, и Олег понимал, что, в принципе, лучше не связываться, не перечить, выслушать, согласиться и уйти. Отец лежал на диване, задрав ноги, смотрел футбол. Один тапочек свалился, второй висел на кончике большого пальца ноги.
– Отойди, не стеклянный, – пробурчал отец. – Чего встал перед телевизором? Ты слышал, что мать сказала? Пойдешь в цирк, и никаких разговоров!
– Я не люблю цирк… – вполголоса вымолвил Олег. Он знал, что нарывается на скандал, но уперся.
– А тебя,.бтыть, никто не спрашивает! Понял?
– Понял…
– Громче!
– Понял.
– Так-то.
Олег буркнул под нос:
– Все равно я никуда не пойду…
– Что?! Ах ты, блядь такая, сосунок! – отец поднялся с дивана, одним прыжком настиг сына, схватил за волосы. На какое-то мгновение Олег повис в воздухе, затем полетел на диван. Возможно, что отец и угомонился бы, если бы Олег от дикой обиды не зашипел:
– Фашист!
– Что? Сволочь! – оттолкнув маму, которая пыталась вступиться за сына, отец возил его за волосы по полу: – Подлец! Советского офицера назвать фашистом! Блядь такая! Где ремень?! Что ты стоишь, дура, принеси мне ремень! Быстро!
Мама пришла к Олегу, когда отец захрапел. Она присела на кровать, долго гладила сыну волосы:
– Олежа, милый… Прости его…
Олег отвернулся к стене, ничего не отвечал. Тогда, чтобы отвлечься от скандала, мама сказала, что в цирк сходить все же надо, потому что переводят отца в другой округ, к новому месту службы, потому-то он и недовольный такой нынче, с командиром поцапался вдобавок, так что неизвестно как все повернется, и, быть может, жить они будут не в таком большом городе, а в маленький городок разве приедет цирк?.. И заплакала.