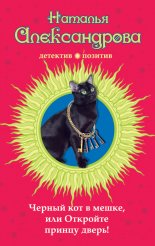В двух шагах от рая Евстафьев Михаил

– Ну-ну, перестань…
– Понимаешь… До сих пор, как вспомню… Зачем я начала? Не хотела ведь рассказывать.
– Успокойся.
– Думала, все забыто. Нет. Как сейчас помню… Вернулся пьяный, в двенадцатом часу, не позвонил, ногой долбил в дверь. Родители легли. Я открыла, а он стоит заросший щетиной, пиджак надет на майку, ботинки грязные, без носок, рваные тренировочные штаны. Аленка проснулась, вышла в прихожую. Надеялась наконец папу увидеть. Три дня его не было. А он даже не поздоровался с ребенком, вошел, и сразу прямиком на кухню, к холодильнику. Вытащил остатки водки, выпил из горла, и в туалет направился. А там на пол свалился. Туалет у нас настолько маленький, что я никак не могла даже войти, чтобы помочь ему встать. Пришлось его за ногу тащить в коридор. А потом он немного пришел в себя, и начал ругаться. Говорил, что я виновата, жизнь ему всю испортила. Что не надо было никакого ребенка заводить. А Аленка тут же рядом стоит и плачет, папочка говорит, папочка, а он будто и не видит ее. Хотела выпроводить, а он меня бить начал. Искалечил бы, если б отец не вмешался. И все на глазах у Аленки…
– Мерзавец!
– Развелись. Пять лет прожили. Вычеркнутые году… Работала в поликлинике тогда. Восемьдесят рублей зарплата. Как хочешь, так и выкручивайся.
– На алименты подала?
– Какие там алименты! Он почти никогда на работу не ходил. И женщина та его выгнала. Даже одно время жалко его было…
– Поделом ему!
– Первый раз подумала о загранице месяцев через шесть после развода. Так, подумала и забыла. А когда приехала подружка из ГДР, наслушалась рассказов, и засосало под сердцем. Заснуть не могла, думала, мечтала. Одна бы и не раздумывала. А Аленку куда девать? Как я металась! Чувствовала, что если сейчас не вырвусь, погибну в этой дыре. Пошла в военкомат. Там сходу заявили, что надо оформлять опекунство над ребенком. При живой-то матери передавать ребенка!
– Так все делают.
– Это я сейчас понимаю, но тогда… И родители пожилые. Я поздний ребенок у них. Как они справятся? Мать сразу сказала, что против. Отец, как обычно, промолчал. Значит: делай как знаешь, не маленькая. После замужества он считал, что воспитание окончено. А как-то вечером, мать в гости к подруге ушла, опрокинул отец пару стопок, зашел ко мне в комнату, Аленка уже спала, и говорит: «Завтра, пойдем в райисполком оформлять опекунство. Будь готова. С матерью я переговорил». Я, помню, оцепенела от неожиданности! И радостно было услышать это, и страшно. Раз отец сказал, я знала, он не отступит никогда. Он у меня упрямый, батя мой. До замужества столько натерпелась! Воспитывал! Стоило вечером из гостей задержаться на полчаса, ремнем порол. До сих пор не понимаю, что случилось с ним. Мать действительно уговорил. Не знаю, как это у него получилось, но уговорил. Я по дурости решила, что вопрос решится в считанные дни, собирала чемоданы. Наивная была, не представляла, сколько волокиты впереди…
– Ну, а дальше?
– Дальше? Райисполком опекунство не утвердил… Ни в первый раз, ни во второй. Вы – мать, вы и воспитывайте, сказали на комиссии. А то знаем вас, сказали! Особенно там одна старая дева все выступала! Найдете, сказала, кого-нибудь, и про ребенка позабудете.
– А ты?
– Вначале держалась, надеялась на что-то. Мать твердила: пора успокоиться, ничего у тебя не получится, что тебя, говорила, тянет в эту заграницу, вон сколько молодых парней!
…снова замолчали… нет, какой-то шум, пошла к больному,
действительно, кто-то стонал…
– Так как же ты все-таки?
– Прошел год, подожди, да, почти год прошел. И вот однажды после работы забирала Аленку из сада, и увидела на улице председателя райисполкома. Чудно как-то было глядеть на него: в руках авоська с хлебом, кефиром. Помню, так поразило это: большой человек, персональная машина, кабинет, вопросы решает масштабные, и вдруг в магазин за кефиром ходит. А сама думаю: что если поговорить с ним по-человечески, с глазу на глаз? Объяснить все, как есть? Вдруг поможет? Неделю ходила с этой идеей, обдумывала, что говорить буду. И решилась. Записалась на прием. Ему было лет пятьдесят. Интересный, надо сказать, мужчина, добрый с виду, немного только толстоват. Жена его, я даже позавидовала ей, наверняка, как за каменной стеной себя чувствует. Раз десять репетировала, что скажу. У зеркала репетировала, поверишь? Что-то подсказывало, что надо сказать прямо и коротко. Он внимательно слушал, кивал. У него в глазах, у него такой взгляд был…
– Какой?
– Не то, что ты подумала… Взгляд настоящего мужика, порядочного, не кобеля. Знаешь, какой-то и оценивающий с одной стороны, но не похабный, и жалеющий, с другой, сочувствующий взгляд, я бы сказала даже отцовский. Выслушал меня внимательно, набрал номер телефона и говорит: «Принесите мне, пожалуйста, личное дело Макеевой». И через минут пять, пока я досказывала свою историю, вошел мужчина с папкой. Валентин Павлович, так его звали, раскрыл папку, пробежался взглядом по документам и сказал: «Вот, смотрите, я подписываю. И члены комиссии тоже подпишут. Удачи вам…»
– Ничего себе!
– За пятнадцать минут вопрос решился. Целый год билась, а тут раз, и оформили опекунство. Хотела сразу побежать в военкомат, но подумала, что сперва надо обнять, поцеловать Валентина Павловича, сказать ему какой он хороший, добрый. А он протянул руку и сухо так немного сказал: «До свидания». Но затем заметил мое разочарование, и радость, и слезы, и улыбнулся. Родителям ничего не говорила, сглазить боялась. Мать обрадовалась и сразу потом скисла. Видимо, свыклась с тем, что я никуда не уеду. Плакала, вплоть до отъезда плакала. Как тут заснуть?! Вставала, открывала форточку, курила, подходила к кровати Аленки, укрывала ее, хотя она девчонка спокойная у меня, обычно не ворочается во сне. Мне казалось, что я предала ее. Так жалко стало. Курила одну за другой в форточку и плакала. Даже, честно сказать, подумывала бросить всю эту затею. А как пошла на работу, ветер дул пронизывающий, стояла на остановке, мерзла, ждала автобус, автобус, как всегда опаздывал, стояла и смотрела на усталых женщин, и решила: если сейчас не вырвусь, никогда уже не соберусь.
– Да-а-а.
– Так вот, слушай дальше. В военкомате оказалось не все так просто. Начальник отделения был майор один. Мерзкий тип, перхоть у него на плечах и спине, он рукой ее стряхивал. Сейчас вспоминаю, прямо тошнит. Именно майор занимался оформлением служащих. И этот гад сразу дал понять, что я ему понравилась. Говорит: «Вы знаете, сколько у меня лежит заявлений!» Тихо так, а сам, сволочь, глазами облапал всю. Если, говорит, вы оставите заявление, оно может пролежать и полгода и год, а может и дольше. У нас, говорит, столько желающих, что оформление займет месяцы. Я рассердилась, и говорю ему: «Вы в прошлый раз сказали, что главное – опекунство оформить!» Он стряхнул перхоть с погон, направился ко мне. Видите ли, говорит, в прошлый раз я не хотел обсуждать с вами все подробности, тогда еще не решен был вопрос с опекунством. Я на стуле сидела, а он подошел вплотную почти, рукой своей погладил меня по голове. В другой ситуации я бы не растерялась.
– Мразь!
– Врезала б пощечину! Но ведь от него все зависело. Захочет, заявление похоронит. Все пойдет насмарку! Не забуду эту морду! Говорит: «Вы заявление оставьте, а сами подумайте, и приходите через недельку, мы поговорим». Так откровенно меня никогда не покупали. Я уже встала уходить, чувствую рука его по спине скользит. Вечером звоню подруге, посоветоваться. Она рассмеялась, говорит: «Что ты дура, что ли, что тут такого? Переспишь с майором, зато будешь уверена, что через месяц документы оформят! А там кто узнает?» Честно говоря, я тогда и на Валентина Павловича подумала, грешным делом, что, будь другая ситуация, он бы так же, наверное, повел себя.
– Все они, мужики, одинаковые! Ничего, все позади. Ты уж прости меня.
– За что?
– Ну, что так резко тогда сказала. Что от начальства никуда не денешься, что на подводной лодке, мол.
– Да ну что ты! Ты ведь права, в принципе.
– Эх, все бабы, что бы ни говорили, приезжают сюда в надежде найти свое счастье…
…счастье… что такое счастье на войне?.. это то, что осталось дома,
та жизнь, которая не с нами, вымышленная, это время в конце
войны, когда кажется, что впереди будет только любовь, это надежда,
которая живет в каждом из нас, это когда тебя не заносят в списки
убитых, когда после боевых рота приезжает без потерь…
Глава пятнадцатая
СОВЕТНИК
Он остановился у столика медсестры, как если бы собрался что-то спросить, однако сообразил, что медсестры нет, и, к тому же, вдруг понял, что забыл, что вылетела из головы нужда, изначально приведшая его сюда.
В палате находилось человек тридцать. Все лежали. Некоторые – накрывшись простыней с головой. Выделялись те, что на вытяжках. Одна нога у таких раненых была подвешена, либо покоилась на наклонной плоскости.
Шарагин направился в дальний конец комнаты, где после нескольких двухъярусных кроватей, отделенная от основной, находилась комната для офицеров.
Стену перед офицерской комнатой расписали яркими красками. Какой-то непрофессиональный художник изобразил русский пейзаж: березки, речка, избушка.
…капельницы, торчащие на длинных палках прямо под потолком… как
надоели мне капельницы, синяки одни на руках, живого места не
оставили, изверги…
И он приподнял рукав больничной пижамы, сначала на левой, затем на правой руке, осматривая желто-синие пятна. Длинные голубоватые вены, напоминавшие притоки Волги, или Амазонки, или Нила безжалостно искололи толстой иглой.
…белое все кругом, белое и синее… все одеты в одну форму…
пацаны лежат плечо к плечу почти что, точно не госпиталь это, а в
строю они продолжают стоять… и у каждого свое неразделенное
горе…
Он пытался вспомнить и не мог. Что привело его в эту палату? Какая такая необходимость была кого-то искать среди этих лиц, зачем ему нужна была травматология? И правильно ли вообще пришел в это отделение? Он искал кого-то, но кого именно он не знал, подводила память, забыл, надеялся, что узнает, если увидит.
…третий слева – парень с забинтованной головой, рука в гипсе,
пальцы испачканы зеленкой… знакомое лицо… похож на… впрочем,
нет, я не знаю его… все солдатики похожи один на другого…
Парень был накрыт простыней. На месте правой ноги простыня прижималась к кровати.
– Дневальный! Принеси утку! Оглох что ли?!
…из дальнего правого угла кричит еще один ампутант…
…и кровати целой не надо – половины кровати достаточно…
На крик спешил дневальный, затюканный боец, из молодых, в пижаме, тоже на излечении, только явно идущий на поправку. Дневальный порхал по комнате бабочкой.
…голый торс, хорошо развитая мускулатура…белобрысый мальчишка,
чем-то на Сыча похож… смотрит на меня, будто я виноват… я тоже
ранен и контужен… что это я оправдываюсь?..
Дневальный помог парню подняться с кровати, поднес сосуд. Солдатик откинул простыню. Обе ноги у него были ампутированы почти у самых бедер. Он облокачивался одной рукой о кровать, другой держал стеклянную баночку – «утку».
И чего это офицер с замотанной бинтами шеей так уставился? Разволновался, и
…желтая моча…
потекла мимо «утки», по рукам и на простыню.
Шарагин отвернулся. Все еще в растерянности, стоял он посреди комнаты, рассматривал остальных ребят. Но взгляд непроизвольно вновь вернулся к парню с ампутированными ногами.
…как он будет передвигаться? он же будет всем по пояс… кто
заметит его, такого маленького, точно распиленного пополам?..
Вошла медсестра. На принесенном ее подносе стояли стаканы и малюсенькие, грамм по сто, баночки с яблочным соком. Дневальный отнес утку, присел за стол, а рядом устроился, прислонив костыли к стене, второй раненый солдатик, и оба они стали ковырять банки консервным ножом, проделывая отверстия.
…ведь тысячи таких вот «огрызков» оставит Афган! и всем будет
наплевать, за что они воевали, где, когда… хорошо, что меня пощадила
судьба!..
Пришла еще одна медсестра, низенькая, с распущенными волосами. Из под белого халата виднелось легкое хлопковое синее платьице в белый горошек. Она несла «хэбэ» и солдатский ремень.
…все в белых и синих тонах…
Она тронула за руку солдата, который спал на животе и сопел.
– Одевайся, борт приходит, через полчаса отправляем тебя в Ленинград, – сказала медсестра тихо, но настойчиво.
…как сказала бы мама, если бы хотела быть строгой…
Худенький паренек понял, закивал головой, сел на кровати. Одна нога была ампутирована по колено.
Медсестра помогла надеть майку.
– Извини, на складе была форма только пятидесятого размера, – она подвернула штанину на отрезанной ноге, заколола английской булавкой. Солдат с соседней койки встал, похлопал по плечу отъезжающего приятеля, вынул из тумбочки лист бумаги, стал записывать адрес.
Шарагин по-прежнему стоял посреди комнаты, в проходе между кроватями.
– Вы кого-то ищите? – спросила медсестра, разносившая сок.
– Я?
…кого-то я ищу… медсестру, как же ее звали? Галя… нет, кого-то
еще…
– Вам плохо?
– Мне?
– Вы из какого отделения?
– Не помню…
– А фамилия ваша как?
– Шарагин, старший лейтенант Шарагин…
– Пойдемте со мной.
В коридоре, около перевязочной, он остановился:
– Понимаете, я ищу друга. Нет, не так. Не совсем он друг – знакомый. Мы лежали вместе в реанимации.
– Как фамилия?
– Шарагин…
– Нет же, приятеля вашего.
– Не знаю, не помню. У него верхняя часть лица забинтована была, но губы я помню, и подбородок… усы, усы у него были…
– Как же вы хотите его без фамилии найти?.. Ну хорошо, звание, имя, ранение какое?
– Стойте, Иван, точно, Иваном его звали. Звание? Не помню. У него, понимаете, две ноги ампутированы были, и еще – слепым он был.
– Вот что, подождите меня здесь в коридоре, никуда не отходите, я скоро вернусь. Постараюсь что-нибудь узнать.
– Постарайся, сестричка.
– Вы сами-то как себя чувствуете?
– У меня все в порядке. Мне бы, вот, Ивана найти…
Два санитара тащили на носилках парнишку. В ногах лежал «дипломат», и стояли новые, не разношенные, прямо со склада, солдатские ботинки. Глаза у солдатика были закрыты, и подумал Шарагин, что он мертв.
…нет же, если б это был труп, его б накрыли с головой и несли
вперед ногами… должно быть спит… а я бы выдержал, если бы
вернулся калекой, если бы комиссовали меня из Вооруженных сил?..
– Узнала, капитан Уральцев, Иван Николаевич. Вы его искали?
…точно!..
– Наверное. Да, конечно же – капитан Уральцев. Где он? В Союз отправили? Он говорил, что его в Союз должны отправить.
– Он ваш близкий друг?
– Да нет вроде, сестричка, говорю же, лежали мы вместе в реанимации, а затем потерял его, меня перевели. Так где же он теперь?
– Умер капитан…
–?..
– Умер, больше недели назад… Вы куда? Постойте!..
– Подонки! Где врачи?! – рычал на санитаров покрытый пылью после езды на броне офицер в панаме. – Офицер умирает, а вы, как мухи сонные ползаете!
– Он мертв, – сказал санитар.
– Молчать! Несите его в госпиталь! Врача сюда!
– Убери автомат! Нечего здесь воевать! – осадил его с крыльца приемного отделения врач.
…Рубен Григорьевич…
– Сделайте что-нибудь! – взмолился офицер.
Врач взял лежащего на носилках за запястье. Отпустил. Кисть руки осталась беспомощно, безжизненно свисать. Затем он дотронулся до лица, будто хотел погладить его, а на самом деле закрыл устремленные в кроны деревьев застывшие глаза.
– Он давно мертв.
Офицер опустился на колени, осторожно приподнял руку погибшего товарища и положил обратно на носилки.
…еще одного снимут с довольствия… и меня могли бы не довести до
госпиталя… лежал бы на спине, утонув в глубоком небе, и взял бы
меня точно также за руку врач… или ангел… и повел бы за собой…
В халате, накинутом на белую майку, с седыми, чуть вьющимися волосами, карими, полными многовековой армянской печалью глазами, напоминал Рубен Григорьевич персонажа из библейских сказок.
– Шарагин!
– Добрый день, Рубен Григорьевич.
…не до тебя мне сейчас… не хочу тебя слушать…
– Будете курить?
– Спасибо, у меня свои.
…«Ахтамар», откуда он их берет?..
– Я, Шарагин, мечтал играть на фортепиано. Пальцы подвели. Пианисту нужны длинные тонкие пальцы. А у меня совершенно немузыкальные, смотри, – он вытянул вперед руки, – короткие, пухлые.
Шарагин и слушал, и не слушал. Волновала его другая проблема:
…что же все-таки произошло той ночью после разговора с капитаном
Уральцевым?.. «вот и ладушки, значит сможешь»… я ничего не
помню… почему он спросил, крещеный я или нет? почему он сказал,
что невелик грех человеку помочь, что мне зачтется это?..
– Кстати, о пальцах. Видишь того солдатика? Вывезли проветриться. Бахтияром зовут. Он пока не ходит, лежачий.
…сдался мне твой Бахтияр!..
– Интересная судьба. Шесть пуль в него духи всадили. В бедро, в руку, в ногу, и три – в спину. Выжил. До сих пор не понимаю как. Вот тебе – жажда жизни. Два товарища его погибли. Они в кишлак пошли за водой.
– Самовольно.
– Это я не уточнял. Отстреливались, пока патроны не кончились. Он притворился мертвым. И представь, когда ему палец отрезали. Да-да, что ты так на меня смотришь? Не пискнул, лежал, как убитый. Боялся одного – чтоб голову не отрезали. Он ведь все понимал, что духи говорят. Таджик.
Шарагин присмотрелся к солдатику, сказал:
– Живчик.
– Когда духи ушли, он перетянул раны на руке и ноге подтяжками, и ждал. Наши кишлак долбили из минометов, его чуть в клочья не разнесли. Вертушка над ним летала. Он курткой махал. Не заметили. Часов пять спустя нашли, – Рубен Григорьевич, явно, искренне проникся к солдатику, – собака с заставы почуяла. Умный пес. Своих привел.
– Зачем вы мне все это рассказываете?
– Я не из тех людей, Шарагин, что переживают, когда в Африке умирают с голода дети. Это очень далеко. Меня это совершенно не трогает. Тысячи, там, десятки тысяч людей. Вот мои больные, в этом конкретном госпитале. И о каждом из вас я беспокоюсь и переживаю.
…господь Бог местного значения…
Я тебя, Шарагин, поставлю на ноги! Главное – чтоб ты сам верил. Если веришь – все будет хорошо. Постарайся побольше говорить о том, что беспокоит тебя. С кем? С кем угодно! Приходи ко мне. Я не психиатр, но я знаю, что происходит в голове, в душе человека. Душа человека – механизм посложней, чем все органы вместе взятые. Органы разные можно удалить, пересадить, проживет без них человек, а душу лечить очень сложно, это такой тонкий инструмент!
…скрипка Страдивари…
– При чем здесь душа? Меня комиссовать могут, если не поправлюсь! А вы мне про душу рассказываете!
– Есть такой термин – «эмоциональная вентиляция». Усмехаешься?! Ты сейчас от боли мучаешься, а когда раны заживут, вот тогда-то настоящие боли и начнутся… Война, в первую очередь, калечит душу… Я, Шарагин, хочу помочь тебе освободиться от собственных страхов, – от зла, что живет в тебе. Пока не поздно. Иначе никто и ничто не поможет. Не надейся.
…боженька поможет…
С ехидством подумал Шарагин.
– А если окажется, что нет никакого Бога, и дьявола нет, что тогда?
…прямо мысли мои читает…
– Тогда…
– Тогда вот что, Олег. Есть у человека душа и совесть. Внутри нас живут и Бог и дьявол. Внутри они и борются за правду и неправду. Разгадку всему надо искать, прежде всего, внутри себя. Человек сам себе судья…
…сейчас, конечно, я начну исповедаться… кого убивал и зачем…
раскаюсь… жди!.. мне мальчики кровавые не снятся!..
А вслух сказал:
– Хорошо, Рубен Григорьевич. Приду.
– Ты хотя бы понимаешь, о чем я говорю?
– Конечно.
…хороший дедушка, но, честное слово, если зациклится на своей
любимой теме, сушите весла! до отбоя будет голову морочить! ты
меня лечи скорей, Рубен Григорьевич, а не мораль читай!.. ушел,
обиделся, что ли? я ж ничего ему не сказал…
Солдат на въезде в госпиталь выбежал из проходной, распахнул ворота, на территорию вкатила «Волга» с афганскими номерами. Из автомобиля вышел подтянутый генерал в камуфляжной форме. Дежурный офицер и замполит госпиталя синхронно козырнули, собрался замполит докладываться важной персоне, но генерал протянул лодочкой руку:
– Я одного советника ищу.
– Сюда, товарищ генерал, – замполит повел генерала к корпусу, где обычно лечились высокие армейские чины.
– Как сыр в масле катаются, – пробурчал безногий офицер. – Напьются. Сердце прихватит, его в госпиталь сразу кладут на восстановление.
Госпиталь Сорокину понравился. Устроились основательно, подумал он, как будто собираемся находиться в Кабуле вечно. И правильно. Э-х, нам бы такие условия в восьмидесятом! Тогда об этом и не мечтали. Тогда…
…Днем внутри наспех развернутого палаточного дивизионного госпиталя можно было сдохнуть от духоты, хуже чем в парилке, поэтому сразу после восхода, пока солнце не раскочегарилось, раненых, человек пятнадцать, выносили на носилках на улицу проветриться, и хромой солдат-узбек на костылях перемещался от одного человека к другому, давая поочередно затянуться одной на всех сигаретой, а тем, кто не мог взять сам, узбек вкладывал сигарету в рот, ждал, пока солдат как следует вдохнет дым, вынимал; у некоторых сигарета без фильтра прилипала к сухим губам, приходилось ее отдирать, отчего нижняя губа оттягивалась…
– …Вы никогда не задумывались, какая у нас огромная власть в Афганистане? Нет? Мы здесь полубоги. Хотим – казним, хотим – милуем. Дома никогда человеческая жизнь у нас не ценилась, а в Афганистане тем более никто не считается. Подумаешь, какие-то там афганцы, миллионом больше, миллионом меньше… – рассуждал советник пока они с генералом шли к скамейке. Советник с загипсованной ногой был одет в синюю госпитальную пижаму, передвигался на костылях. – Хотите, я вам скажу прямо? Путного в Афганистане никогда ничего не выйдет! У себя дома не сумели за семьдесят лет построить ничего путного. А в Афганистане и подавно не сможем ничего изменить к лучшему! Здесь – прорва, черная дыра… Мы уйдем, а она останется навечно.
…это уж точно…
– Зачем же так категорично, Виктор Константинович? – встрепенулся Сорокин, будто стал соучастником страшного заговора, будто испугался, что кто-то может подслушать. Повел головой. Но никого, кроме одиноко сидящего в каком-то трансе офицера с забинтованной шеей поблизости не было. Явно контуженый. Однако, для перестраховки генерал сказал: – Давайте не будем так громко.
Порассуждать на тему «будущее Афганистана» Сорокину было интересно, тем более со знающим человеком. Говорить же на темы, касающиеся Советского Союза, тем более в таком резком ключе, генерал опасался. Непростительно такое поведение для политработника.
– Вы, извиняюсь, сколько в Кабуле, Алексей Глебович?
Сорокин почувствовал, что от советника попахивает коньяком. Значит, и от меня будет пахнуть. Зря я согласился с ним выпить. Он-то уже полбутылки одолел в одиночку. Эстет! Все, как положено: лимончик нарезал, шоколадку наломал в фольге, развернул, разложил.
– В этот приезд – несколько недель, но вы не забывайте, – обиделся немного генерал, – я входил сюда в семьдесят девятом, и почти полтора года… Я, кстати, неплохо знаком с традициями и обычаями афганского народа…
– Алексей Глебович, – перебил советник, – дорогой вы мой. Я не хотел ни в коем случае вас обидеть. Но военные никогда не понимали Афганистан. Вы живете за колючей проволокой, смотрите советское телевидение, читаете советские газеты. Армия давно забыла про афганцев. Армия думает, как ей самой уцелеть. Разве не так?
– Нет, конечно! Армия пришла сюда, чтобы помогать афганцам строить новую жизнь, защищать революцию! – с легкостью парировал Сорокин.
…слово в слово, как Немилов говорил… лапшу на уши солдатам
вешал…
– И мы бы давно навели порядок, если б Армию не ограничивали. Поставили бы вдоль границы с Пакистаном и Ираном несколько дивизий, перекрыли бы все караванные пути, и со всей мощью обрушились бы на бандформирования. Смею заверить, за несколько бы месяцев порядок навели!
– Вьетнам американцы напалмом выжигали. И проиграли… Против партизан любая армия бессильна.
– Вы хотите сказать, что мы заранее проиграли эту войну?
– Я хочу сказать только одно. Армия, дорогой мой Алексей Глебович, бьет по площадям, по большим площадям. Она бомбит сразу целое ущелье. Целый район обстреливает. Одно дело сражаться против регулярных войск, а другое дело против партизанского движения. Армия столько бед натворила! Сотни тысяч афганцев уничтожила! Нет, в Афганистане, повторяю, ничего путного никогда не выйдет. – Советник замолчал, пошевелил пальцами на загипсованной ноге. – Мы привыкли все подгонять под собственные мерки. Пытались добиться в афганской армии дисциплины, схожей с нашей, боеспособности. Что я вам рассказываю? Сами знаете. Наглядную агитацию использовали, которая всегда была малоэффективна и у нас дома.
– Не согласен.
– Да бросьте, Алексей Глебович! Мы не на партсобрании, умоляю вас! Давайте называть вещи своими именами, кстати, нас к этому партия призывает, открыто обсуждать проблемы. Что, скажите, от того что у вас в Москве на соседнем доме весит лозунг из пятиметровых букв: «Решения такого-то съезда выполним и перевыполним», что-то меняется? Нет, конечно. Мы помогли афганцам скопировать все худшее. Бездумно навязали то, что у нас самих не работало. Да что там говорить, – махнул он рукой. – А теперь удивляемся, отчего же это толку нет?! У нас-то еще кое-как, со скрипом, работает. А у афганцев нет. Им все эти наши нововведения как собаке пятая нога. И все наши ошибки повторяют. Один в один. А некоторые, так прямо революционеры-террористы. У меня есть один такой коллега – Мухиб. Да не один он такой. Радикальный халькист, правда, думает, что никто об этом не догадывается. Начальника своего – парчамиста – люто ненавидит. Раскол у них в партии похлещи… нет, хотел сказать похлещи, чем у нас был. И у нас друг друга уничтожали, столько расколов было, столько процессов, просто мы забыли о том… И ничего, работают, ни разу бровью не повел, ни разу слова вслух не высказал. Парчам у власти, а халькисты выжидают своего часа. Только со мной раскрывается. Сколько раз! Бывало, пригласит домой на плов, выпьем водочки, и начнет душу изливать. Прямо-таки второй Троцкий. Всех врагов – в тюрьмы, красный террор, трудовые армии, мечом и огнем! И, знаете, его абсолютно не волнует, если в ходе революции погибнут тысячи людей, хоть и миллионы, он считает, что главное, что будущим поколениям достанется жить в лучшем мире. По приказу таких людей исчезают навсегда. А хороший семьянин, жена русская. У него, знаете, на столе в кабинете портрет Ленина, и очень просил меня привезти значок с Горбачевым и Сталиным, прямо бредит Советским Союзом… Вы скажите – истинный партиец, настоящий революционер. А мне иногда страшно. У нас террор невозможен. Для нас – это пережиток прошлого. А здесь… история повторяется…
– Мне все-таки кажется, Виктор Константинович, что не все так плачевно, как вы рисуете. И определенные подвижки безусловно наблюдаются. – «Подвижки», это слово Сорокин позаимствовал у «папы». Хорошее слово, очень русское и ёмкое, считал генерал. – Москва не сразу строилась. Вспомните, у нас после революции тоже много проблем было. Апрельская революция…
– Революция? Алексей Глебович, спуститесь на землю! В Афганистане не революция произошла, а дворцовый переворот. С самого начала мы по сути дела защищали небольшую группу людей, которые спекулировали на революционных идеях, пробивались к власти по трупам товарищей. Поверьте мне, Алексей Глебович, я знаю лично всех людей в ЦК, которые идеологические разработки и обоснования по Афганистану составляли. На самом верху рассуждали о расширении социальной базы революции, о рабочем классе и передовом крестьянстве. Какой здесь, к черту, рабочий класс! – возмущенно зажестикулировал советник. – Откуда ему взяться? Поедете из госпиталя, обратите лишний раз внимание на местных жителей, посмотрите, куда мы вляпались. Они живут при феодализме. В четырнадцатом веке живут. Большинство из них не то, чтобы не поняли, не знали, что «революция» произошла. Нельзя было войска вводить!