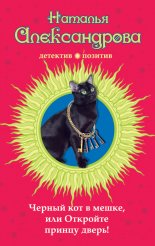В двух шагах от рая Евстафьев Михаил

Некрасов писал про мужика нашего, что тот «до смерти работает, до
полусмерти пьет»… пьяное состояние души – это у нас в крови… но
ведь я же не всегда был таким? или это приходит с годами? я не пил
почти совсем до Афгана… я начал пить именно там… чтобы снять
стресс, и после боевых, и перед, и между… я спиваюсь, я медленно
спиваюсь… ну и пусть! почему мне каждый день хочется выпить?
сначала было в кайф, а теперь оказалось, что я окольцован водкой…
ну и черт с ней! хочу и пью!.. меня тянет выпить: днем, вечером,
перед сном… я так скоро стану похож на этих алкашей… отставить!
мне можно, можно, потому что… потому что… потому что я видел
слишком много раз смерть, а теперь пью, чтобы… чтобы… забыть,
как она выглядит…
Отгораживаясь от всех, словно монах, находил он облегчение в вине и водке, тешил себя надеждой, что отпустит в конце концов Афган, душа выздоровеет, приноровится жить в мире без войны, и тогда можно спокойно ехать домой, ничто больше не разлучит с семьей.
…кроме смерти…
…Смерть явилась в реанимационное отделение Кабульского госпиталя, чтобы забрать кого-то, кто был хорошо знаком Шарагину, кто лежал рядом. Она зашуршала, как крыса в углу, глянула, поднимаясь с пола, поверх выбившихся из-под простыни пальцев на ногах Шарагина, встретилась с ним взглядом, заполонила все помещение, схватила первую жертву. Смерть не церемонилась с тем человеком, просто отняла у него способность дышать, остановила сердце, и ждала, когда, наконец, остынет тело. В первые мгновения, когда она появилась в помещении, Шарагин оторопел и закрыл глаза, а потом увидел, что он вовсе не в реанимации, а в морге.
…голые пятки…
Рядом лежали пожелтевшие мертвецы, но не такие мертвецы, как он видел в бою, это были нагие мужики. И он сам лежал совершенно голый.
…пустые оболочки, готовые к погребению… души их где-то сейчас
стоят в ожидании дальнейшей участи, словно солдаты в строю стоят,
вот-вот, кто там с нами цацкаться станет? построят в шеренгу и
зачитают приказ… на первый-второй рассчитайсь! и весь суд…
ничего страшного… души их давно отделились и покинули этот мир…
только я один продолжаю бороться, все сопротивляюсь… а чего,
собственно, я боюсь? что на меня выйдет не тот приказ?..
– Что же ты не пришел ко мне?! – вопрошал из прошлого Рубен Григорьевич.
…а что же вы меня оставили в беде?!.
– Теперь поздно! Я ничего не смогу сделать! – извинялся Рубен Григорьевич. К нему присоединились другие люди, кивали, мол, поздно, поздно! Они взволнованно обсуждали что-то, и слева, и справа, и за спиной у Шарагина. Что они говорили? Жалели? Звали его? Куда? Голоса линяли, неслись вдогонку за ветром «афганцем»…
Солдат в одной майке и брюках обдал водой тело Шарагина, смыл с лица, и шеи, и груди запекшуюся кровь, ушел.
Теперь он лежал на чем-то холодном, кожа покрылась мурашками. Незнакомый человек с плоскогубцами склонился над одним из раздетых мертвецов, повозился, покряхтел, вырвал
…золотую…
коронку.
Видимо, во рту нашлась вторая коронка. Человек с тонкими, белыми волосами, напоминавшие леску, вновь увлеченно принялся за дело.
…он накажет меня, он сделает мне больно!.. за то, что я видел, как
он вырывает у трупов золотые коронки…
В самом деле, человек с плоскогубцами обернулся.
…вот он – ад! мой черед пришел!..
– Ты думал, что убежал от нас? Ты думал, что перехитрил нас, что мы забыли про тебя?
…кто ты? что тебе нужно от меня?..
– От нас никто не может убежать! Мы всегда рядом с тобой…
…только не надо мне делать больно!..
– Не бойся.
Плоскогубцы гулко ударились об пол. И в тот момент, когда он чуть расслабился и лежал, глядя в потолок, все равно что парализованный, человек достал откуда-то шомпол от автомата, и воткнул его Шарагину в ухо, в то самое ухо, куда только что шептал и брызгал слюной. Шомпол разорвал барабанную перепонку и вошел глубоко в мозг.
Шарагин заорал. Боль пронизала всю голову и ворвалась острием в затылок. Шомпол проткнул голову насквозь, вылез, окровавленный, из другого уха. Кровь текла из ушей, из носа.
В дверь барабанила хозяйка.
– Я тебя давно приметил, я следил за тобой, – сипел человек из морга. – Ты никуда не денешься, Шарагин, ты – мертв, ты давно уже мертв!
…ад… ад… это – ад!..
– И душа твоя останется здесь навсегда!
– Не-е-е-е-е-т!!!
Шарагин вскочил с постели. Он был весь мокрый от пота. Он нащупал в темноте бутылку водки, налил полный стакан. Рука дрожала, граненый стакан стучал на зубах.
– Только не бойся смерти!.. – предупреждал во сне Рубен Григорьевич.
– А я и не боюсь…
– Боишься! Пока еще боишься!.. Помнишь, как писал Толстой? Он писал, что смерть является условием жизни, и если жизнь – это благо, то и смерть должна быть им…
Он открыл счет на имя Лены, перевел на него почти все деньги, сберкнижку положил дома, не на видном месте, а чуть скрытно, но так, чтобы она
…когда придет час…
обнаружила.
Узнав про осколок, Лена повела себя на удивление мужественно. Не зарыдала, не запричитала. Лишь на следующий день сердито выдала:
– Я бы судила этих врачей! Какое они имели право говорить тебе про это! А если они ошиблись?! Ты никогда не думал о том, что они могли ошибиться?! Вдруг там нет никакого осколка?! – и она снова положила голову ему на грудь, будто хотела проверить, есть ли там на самом деле рядом с сердцем осколок.
Дальше они молчали, и делали вид, что действительно оба поверили в то, что врачи ошиблись, играли каждый свою роль, пока ночью вновь не разбудила боль.
И боль же
…больше нечему!..
виновата была, что отношения их портились.
– Ты меня любишь? – спрашивала Лена.
А в ответ – молчание. В лучшем случае прижмет к себе. Но не ответит, не поговорит. Ласки не стало. Погрубело будто все между ними. Что только? Сразу и не выделишь. Яркость исчезла. И пропала, пропала нежность. Нежность еще была в постели, и то скорее заученная, и не глубокая, механическая, не идущая от сердца. Или она ошибалась? Или она требует от него слишком многого? Ведь надо ему прийти в себя сперва. Тяготило ее от того, что вроде бы улетучился весь восторг молодости. И чувства придавливала бытовщина. И это чертово ранение! Да не одни они так живут. Сколько таких примеров! Сколько разводов! Вот что действительно страшно! Все разрушить! Сколько семей поломал Афган! Живут в страданиях. Особенно женщины. И решимости нет поменять что-то. Терпят. Если помоложе, да без детей, еще куда не шло, бывают рвут напрочь, расходятся. Восстают против такой доли. Но редко. А под сорок, да с двумя детьми, куда уйдешь? Те терпят.
Разлюбил? И что тогда ей делать?
Он молчал.
Разлюбил?
Нет.
Почему ж тогда молчит?
…как ей ответить?..
Не потому, что разлюбил. Слов не находил Олег. И еще не хотел пустое, очевидное повторять. И еще обида взяла: как же так она сомневается? Разве не клялся он ей стократно, что никогда не разлюбит, что на всю жизнь, что бы не случилось?! И перед Афганом повторил! Разве забыла она, что он – однолюб? Не могла забыть!
Ребятишки раскачивались на скрипучих качелях, съезжали с горки, визжали. Подбежала Настюша. Он наклонился к ней:
– Нагулялась? Пойдем домой? – потянул за руку.
– Нет, я еще хочу погулять, – вырвалась, отбежала.
– Ну, хорошо.
– Папа, – вдруг подошла и спросила Настя, – а ты плавда плидулок?
– Что?.. – лицо Олега запылало.
– Васька Чистяков говолит, что ты плидулок. А что такое плидулок, пап?..
– Пойдем домой!
– Он же псих! Вы к нему лучше не подходите. Он только что из сумасшедшего дома вернулся. Его в голову ранило на войне! – громко завизжал мальчик школьного возраста, и на всякий случай отбежал подальше.
…вот, значит, как!.. все в городке считают меня сумасшедшим!..
конечно, приехал после госпиталя, после контузии… значит, все
знают про мои приступы?.. откуда?..
– Настюша, – позвал он. – Пойдем домой!
– Шизик! – крикнул мальчишка с деревянным автоматом.
…в городке, как в консервной банке, как кильки в томате плаваем,
варимся в собственном соку… вон мамаша какая-то ребенка зовет,
чтобы домой увезти, а сама в мою сторону поглядывает… будто я и в
самом деле псих!..
Роковой осколок перечеркнул все. Вместо раннего подъема, утренней пробежки, физзарядки, обливания ледяной водой, пришивания белоснежного подворотничка, чистки оружия, выездов в горы, вместо прыжков с парашютом отныне окружала Шарагина пустота. И, самое страшное, впереди кроме этой пустоты ничего не предвиделось.
Просыпался он задолго до того времени, когда надо было идти на службу, сидел на кухне, выкуривал половину пачки, долго завтракал, мало что, впрочем, съедая, а все из-за того, что терялся в мыслях, забывался. По выходным он мог часами наблюдать из окна за прохожими, которые пересекали двор в разных направлениях, с разной скоростью, в разное время, и представлял, что каждый из них тянет следом тоненькую серебряную нить, и как пространство меж домами
…к полудню, к вечеру, через неделю, через месяц…
укроется паутиной.
…из окон выглядывают офицерские жены… что уставились? пусть
смотрят… особенно та вот в парике, небось тоже думает, что я псих…
что я вам сделал?.. кто и когда первым произнес в слух слово
«псих»?.. я все равно выясню!.. Лена знает, что я нормальный
человек, и Женька знает…
Пробовал отвлечься – читал. Как будто читал, а на деле – водил глазами по строчкам, и, в конце главы, ничего не помнил. Газеты – и того хуже, не читал – бегом по заголовкам. Такое множество мыслей набилось в голову, что не пускали они – толкались, толпились, – не пускали внутрь книжных строчек, отталкивали, противились чужому; а то и засыпал с книгой – выпадала книга из рук, и Лена на цыпочках подходила, подбирала, накрывала Олега одеялом, подушечку подкладывала. После такого сна недоверчиво крутил головой: что это? Чудился госпиталь, что квартира – видение, что не его квартира, совсем все чужое.
Иногда размышлял он над выпавшими испытаниями, прикидывал, как бы сложилось все, не окажись он в Афгане, и получалось вот что: не было в Союзе такого простора для человека военного, рано или поздно поехал бы он, напросился бы в Афганистан, потому что воевать там все одно лучше, чем чахнуть и плесневеть в Союзе, в армейской среде, напоминавшей продовольствие из стратегических запасов Советской Армии, что поступало в котлы раскиданных по Афгану частей с пометкой 60-такой-то год выпуска.
Армия, впрочем, как и вся страна, теперь-то видел Шарагин все отчетливо, ржавела, и внутри и снаружи, армия походила как отлежавшие на складах не одно десятилетие бомбы, которые сбрасывали на Панджшер. Некоторые из них торчали вверх опереньем, так и не разорвавшись.
…что сделать, чтобы вдохнуть новый порыв? как возродить себя? как возродить
страну, вдохнуть в людей свежий дух? взорвать ту трясину, что засосала всех?
перекричать тишину безразличия и равнодушия?..
Жалел Шарагин об ускользающей любви к стране, к родине, но обиды тянули прочь, отвернуться, остаться одному, надуться, хлопнуть дверью, – да и начитался он порядком, наговорился, – с тем же Епимаховым проговорил многие мысли вслух, и как бы проверил правильность заключений, и дополнения выслушал, поспорил, от того же Геннадия Семеновича набрался мудрости, на новые размышления натолкнулся, и еще более горько стало. Любовь к некогда священным, дорогим понятиям прошла, и надежда на новую любовь осталась отныне в мечтах, далеких, пожалуй что несбыточных.
…и верные Владимиру люди стали по его приказу рубить идолов
на части, колоть острыми мечами, сжигать, а самого громовержца
Перуна привязали к хвосту лошади и потащили с горы, и при этом
били идола палками…
Нет, он не хлопнул дверью, не поставил перечеркнул жизнь, не возненавидел, и пренебрежительно о стране отзываться не стал, – он теперь просто еще чаще переживал, маялся, расстраивался, досадовал, настолько казались порой очевидными ошибки, просчеты, недоработки, необдуманными иные решения, выдаваемые за исторические, наивными измышления в газетах, оскорбительными плоские, убогие, стандартные призывы-штампы, лозунги-стереотипы, разжеванные, проглоченные, уже тошнило от повторов, и думалось:
…неужто ничего нового не придумают? неужели никто не видит, что пора что-
то менять? перестройка нужна не на словах, а на деле!..
И снова и снова обидно делалось, что дурят, забивают мурой головы людей, и за людей, что не понимали того, заступиться иногда хотелось. Только как?
Более не помещался он в пределах, начертанных самим же, определенных положением в армии, в обществе, в стране, в пределах, вполне достаточных раньше.
Стесненным почувствовал, маловато места осталось, душновато сделалось. Но и оказаться выброшенным за пределы привычного казалось страшно. За пределами выбранной раз и навсегда территории обитания, существования, мироохвата, не видел он места. И потому надеялся, как многие образованные люди, на скорые перемены, на сообразительность и понятливость тех, кто засел наверху, кто командует парадом. Надеялся вновь войти в знакомый, уютный и безопасный мир объясненных, родных начал, мир, расширенный теми, кто определял направление движения всей великой страны.
…а сколько понадобиться сил, чтобы армию удержать от развала!.. а
удастся ли вообще сохранить ее после этой войны?..
…русским, стоит только засомневаться в собственной правоте – всё,
конец, пропало! все рушится, разваливается… трехсотлетняя
династия Романовых – превратилась в ничто за какие-то часы… а мы,
сумеем удержаться, раз больше не верим в идеи, которым жили
семьдесят лет?..
откуда в одном человеке столько пессимизма?!. я разучился верить
кому либо и во что либо… неужели я теперь так и останусь просто
циником? нигилистом? неужели больше никогда не будет ничего
святого для меня?.. а как же жить дальше?..
В Афган входил он с мыслями стройными, с набором святынь. Сейчас же все спуталось, обесценилось, как будто осиротел; святыни, которым он присягал на верность, незаметно поблекли, а найти твердыню взамен расколовшейся, раскрошившейся не удавалось так сразу.
…не легко вновь уверовать… да и во что? а легко ли было людям
отказываться от язычества, отворачиваться от грозных идолов и
входить в реку, креститься в иную, незнакомую веру?..
…я и молитв-то не знаю, и каяться не научен, и смирению научен лишь на
армейском уровне… разве что в колокольный звон уверовать,
который звал меня тогда на охоте к себе?..
…а меня ли он звал?.. вот и Лена говорит, мол молилась за меня, потому-то я и
выжил, сходить бы, говорит, надо, свечку поставить…
…а что если это – погребальный звон?..
…не пойду, ни к чему… пустое это… не верю никому, ни во что!..
Однако продолжать жить дальше, не выстроив, не возведя, как фундамент, новую веру, представлялось невозможным.
…у русских удивительная черта – жажда верить, часто граничащая с
самообманом; русские упрямо, с надрывом набрасываются на идею,
обещания, иногда заранее зная, что они утопичны, и все же
позволяют себе увлечься сладкими грезами, гибнут, но не
сдаются, и испытывают противоречивые чувства, даже когда
убеждаются в ложности этих мечтаний, чувства обиды, досады,
разочарования и жалости… прямо как дети…
Скоро комиссуют, спишут в запас, выкинут, как старую вещь! Это – неизбежно. Шарагин сидел в штабе, усердствовал над документами, рапортами, справками, стучал двумя пальцами по машинке, и холодок пробегал по спине, стоило кому из старших офицеров, из штаба полка заглянуть в батальон.
…лучше бы сгинул я на войне, чем мыкаться здесь никому, в сущности,
ненужный!..
Принять смерть в Афгане, нежданную, нахрапом выпрыгнувшую из какофонии боя, было б проще, отчасти даже естественно, решиться же уйти из жизни добровольно, рядом с домом, без понятных на то причин для людей близких, оказывалось чертовски тягостно.
…смертный приговор вынесен, просто отсрочили исполнение…
Подспудно понимал он, пожалуй, что надо остаться одному перед тем как случится «это», что Лену делать заложницей мучений нельзя. Но как? Как спасти их с Настюшей? Как?
Нельзя же просто взять и прогнать их! Нельзя и резоном действовать – не согласится Лена, не такая она, не бросит, не оставит.
Как-то после ужина Лена мыла посуду, и неожиданно посетовала на то, что квартиру им никак не дают, что лишко денег уходит, впустую ведь тратятся, на ветер, по сути дела, выбрасывают они, снимая квартиру.
…это гарнизонные бабы на нее так воздействуют, она ведь
раньше совсем другой была, кроткая и скромная… все ходит по
подружкам, а те науськивают ее, сучки!..
– Ты слышишь меня или нет? Сколько же нам придется еще жить здесь?
– Не знаю, – отмахнулся Олег.
– А что, если вообще не дадут?
– Может и не дадут! – ответил он раздраженно.
– Но ведь другие получают… – обиделась Лена. – Дали вон, я слышала, какому-то капитану новенькому, меньше месяца, как прибыл. Чистяковы почти сразу получили.
– Мало ли кто и как получает!
– Тише, не кричи, Настя услышит.
– Пусть знает, что отец в ноги кланяться не будет. Придет время, получим квартиру.
– Но ты же ничего не делаешь для этого, только рассуждаешь. Попробуй, сходи к полковнику Богданову, вы же с ним в одном полку служили. Неужели он не поможет, наверняка знает, что ты такое ранение перенес…
– Откуда ты про Богданова знаешь?!
– Знаю. Сходи, что тебе трудно сходить?
– Замолчи! Прошу тебя!
…в Афгане Богданов был и здесь надо же было угодить под его
командование!..
– А что я такого сказала? Что ж ты такой дерганый стал! Ничего ни скажи! Мне Нина Чистякова говорила, что Богданов мужик нормальный, может помочь.
…ах вот как?! значит правду говорят, что она под Богданова легла,
чтобы квартиру быстрей получить…
– Замолчи!
– Хочешь, я схожу к нему, если ты такой гордый?!
– Я тебе запрещаю даже называть фамилию этого гаденыша!
– Да все у тебя плохие, – не сдержалась Лена. – Так и останемся навсегда без собственного угла… А потом ты опять в госпиталь ляжешь, что нам тогда с Настей делать?
– Замолчи! – он хлопнул дверью, стекло вылетело, разбилось вдребезги.
– Совсем с ума спятил. Смотри, что ты наделал! – она наклонилась поднимать кусочки стекла, волосы ее растрепались. Он первый видел свою нежную, добрую Лену в ярости.
…это не моя жена! моя жена всегда другой была!.. это ведьма!..
– Поезжай-ка к маме!
– Я бы давно уехала, – неожиданно жестко заявила Лена. – Ты нас уже и замечать перестал совсем. Спросить у тебя ничего нельзя.
– Тогда собирайся! Мы с Настюшей вдвоем справимся как-нибудь, – сказал, и пожалел, но деваться было некуда. Вышел из положения: – Няню найду!
– Что?! Ишь чего захотел! Уеду я только вместе с ребенком. Неужели ты думаешь, что я ее оставлю в квартире с… с ненормальным?! Олежка, прости, я не хотела!
– Уезжайте!
– Что же я несу такое! Ради бога, прости! Что с нами творится такое?! Олежка! – она обняла его, зарыдала.
– Отпусти, – он расцепил ее руки.
– Прости, Олежка, – Лена отпрянула от него, отвернулась, всхлипывая, повторила, умоляя: – Не гони. Мы должны быть вместе, один, один: ты пропадешь.
– Не пропаду!
– Пожалуйста, – плакала Лена.
– Успокойся. Я говорю: успокойся. Хватит слез! Собирай вещи. Утром посажу вас на поезд.
В привокзальном буфете
…вот повезло!..
продавали пиво. Шарагин воротился в пустую квартиру, уселся в кресло, открыл бутылку, закурил в гостиной, где обычно не курили, вздохнул с облегчением: отвязалась, никто не жалеет, не ворчит из-за разбитой посуды, не зудит насчет квартиры, не вздыхает за спиной по поводу осколка под сердцем. Так лучше – один на один с болью и мыслями.
…справлюсь как-нибудь!.. не пропаду!..
Не справился. Средь бела дня вспучилась, навалилась боль, тормошили мысли, недобрые, беспорядочные, ускользающие, надрывные, атаковали, путали все в голове, будто и прямо сходил он с ума. Он набрал Женькин номер:
– Слушай, приходи прямо сейчас. Что-то неладно, что-то со мной не в порядке.
– Порядок, Олег, не беспокойся, главное, что у нас выпить есть, – Чистяков обрадовался холостяцкой обстановке. – Подумаешь, осколок какой-то! Ты, главное этих идиотов-врачей не слушай. Они вечно всякую ерунду придумывают. Перестраховщики! Знаешь, у меня, блядь, дед есть, не родной, какой-то там двоюродный. Так у него по всему телу осколки сидят. Штук десять. И в голове, и в груди, и в ногах, везде, короче. Деду дали понять, что он не жилец, что максимум год протянет, а скорее всего – несколько месяцев. И что ты думаешь? Живет себе до сих пор припеваючи. В деревне живет. Самогон, блядь, глушит, нас с тобой за милую душу перепьет. Самосад курит. У меня у самого полпечени осталось после гепатита, и ничего, жив, как видишь, и литр запросто выпиваю.
…«у нас чай в столовой никогда так не заваривают, жидок сплошной,
какого цвета моча при желтухе становится – чифирь прямо-таки… ",
говорил Моргульцев, который сам переболел гепатитом…