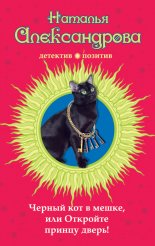В двух шагах от рая Евстафьев Михаил

Дед сидел на кухне в майке и тренировочных штанах. Обрадовался компании, отложил газету, снял очки, двумя руками поправил назад седые волосы:
– Не спится?
– Заснул, да вот…
– Чай пить будем?
– Я поставлю, – Олег наполнил чайник, зажег от плиты сигарету.
Помолчали.
Два фронтовика. Два офицера.
Кто-то, видать, в их роду, – не одно поколение Шарагиных предано верило в армию, забылось вот только, не осело ни в чьей памяти, не передалось в семейных рассказах, кто именно – какой-нибудь там прапрадед, крепостной мужик, не иначе как ноги широко при ходьбе держал, и выделялся, таким образом, среди служивых шагом необычным, от того-то и прозвали его шарагой; не иначе как, на парадах или смотрах, лучше иных маршировал, или же в походе выносливей товарищей оказывался; потому-то и фамилию придумали ему соответствующую. И сколько километров нашагали по фронтовым дорогам разные Шарагины, сколько войн перевидали, сколько годков посвятили армейскому делу, на благо России матушке?! Не счесть.
Шагал прапрадед, и прадед, и дед, а Олег нынче – летает.
…уж когда как придется…
В Афгане вот в инфантерию превратили десант! По заставам разбросали! Парашюты запретили, и… ша-ом марш!
…все одно, что крылья обрезать птице…
Шагал их предок четко, как часы, без сбоя, и, видать, службу нес также точно, исправно, не занимаясь дурацкими переспрашиваниями, не своевольничая, служил верой и правдой, и умереть готов был за царя-батюшку,
…позднее – за народ, за Россию, за революцию, Советскую власть,
а в целом – за отечество, такое, какое понимал, и любил, в которое
верил, за Родину…
Прорезало, заколотилось:
…а мы за что воюем в Афганистане?..
– Совсем плохи там наши дела? – прервал молчание дед.
– Увязли крепко.
– Надолго, видать?
– Да. Тебе сколько заварки?
– Все-все-все, а то вообще не засну. Кипяточку побольше. Чего это ты не доливаешь? Давай-давай, еще, вот так, до са-амого края, чтоб сатана в чашку ноги не свесил. – Дед откусил кусочек сахара, отхлебнул чай.
– Как ты можешь кипяток пить?
– Привычка. С фронта.
– Я так не могу, – Олег отставил чашку.
– Может, по рюмочке? – предложил дед.
– А есть?
– А как же?! НЗ. Резерв ставки главнокомандующего, – он сходил в гостиную, порылся, не зажигая свет, в сумке, принес завернутую в бумагу бутылку. – Посмотри, что-нибудь есть на закуску?
Шарагин сунул голову в холодильник:
– Колбаска осталась, и черный хлеб порежу.
Дед! Как же здорово сидеть и слушать деда.
– Меня на фронте научили спирт пить… Под Моздоком мы стояли. Немцы рвались к бакинской нефти. У них дивизия была горная, элитная.
– «Эдельвейс».
– Совершенно верно. Берия тогда лично приезжал. Наш батальон направили его охранять. Вот тоже, – хмыкнул дед, – бои идут, а тут целый батальон снимают с фронта ради одного человека… Видел я его несколько раз. На белом коне разъезжал. Сам маленький-плюгавенький… Но властный человек, железный, и говорить умел хорошо, без бумажки речь держал, по делу говорил… Тогда у нас одна часть перевал не удержала, отступила. Немец здорово воевал. Обучены были фрицы грамотно, специально для боевых действий в горах их готовили. А мы что? Пехота… Так вот, устроили показательный суд перед строем. Жалко было смотреть на этих офицеров. Без погон, без ремня. Военный человек без ремня – ничто. Что за вид без ремня?
Олег закивал.
– Приговорили их к расстрелу, за трусость и дезертирство. Первым капитана повели мимо строя. Он так до последнего момента и не верил, что расстреляют. А когда понял, ноги у него подкосились, колени подогнулись, не слушались совершенно ноги. Его два солдата поддерживали. Так и повис у них на руках. Подошел к нему со спины горбоносый старлей и выстрелил под затылок. Профессионально, видать не в первый раз казнил. Потом второго вывели. Он ногами упирался, головой вертел, все повторял: «Что же это? как же?» А мы стояли как вкопанные. Весь строй будто дышать перестал. Только чуть вздрагивали от каждого выстрела. Мертвецов навидались. А тут советские офицеры… Так вот… Под конец прямо страшно было смотреть на горбоносого. Глаза у него блестели, словно у сумасшедшего.
…как у Богданова на перевале… только этот своих расстреливал, а
Богданов – афганцев…
– Он настолько вошел в раж, что остановиться не мог… Ну вот, а потом потопали мы строем, и никто до вечера ни слова не проронил. Тогда комбат приказал принести канистры со спиртом, и каждому по кружке налили. Я сперва глотал как воду, а под конец прервался, воздух набрал и как меня перехватило. Обожгло все внутри, дыхание сперло. Комбат велел на утро старшине провести обучение. Старшина, хохол у нас был там один, зачерпнул кружку воды, протянул: «Пей залпом». Я выпил, да не за один присест. Вторую кружку протягивает. Я говорю, куда же, не лезет больше. А старшина не отступает, пей говорит, и все! Четыре кружки воды, большие кружки, выдул, пока не научился. Да-а-а… У вас там дезертиры были?
– В нашем полку нет, а так, в принципе, случалось. И в плен попадали, и убегали из части.
– Да… А нас как-то поместили на ночь в пустовавший коровник. На Кавказе дело было. Много хлопцев тогда по деревням набрали, из Грузии, Азербайджана, они на фронт ни в какую не хотели. Мыло хозяйственное всем выдали, кто-то подсказал, что если мыло съесть, в госпиталь отвезут и комиссуют. Они и нажрались этого мыла. Там же щелочь одна. Вспучило. На подводе с десяток трупов увезли. А один решил руку себе прострелить. Тоже подсказал какой-то умник. Сделай дырочку в руке, тебя и комиссуют.
…все как у нас…
Солдатику руку перевязали, а в анкете пометили «СС» – самострел. А вечером пришел офицер из СМЕРШа, и «ССовца» увел. Больше мы его и не видели.
…слава Богу, хоть этого больше нет…
– Я в полку за знамя отвечал. Эстафета знамени… Слыхал про такое?
– Мы, дед, в атаку со знаменами не бегали.
– По знаменосцу всегда первым делом огонь ведут, причем с разных позиций. Почти верная смерть. Потому-то и несколько человек мне выделяли всегда. Сколько раз на волоске от трибунала находился. И сам бежал. Два бойца погибли подряд, я подхватил и побежал. Первое ранение тогда получил. Эх…
– Странно вы, дед, воевали, со знаменами бегали.
– Война-то, Олежка, она на самом деле всегда одинаковая, – разливал водку дед. – И всегда одинаково потом о ней вспоминают. Вернее, стараются ничего не вспоминать. Меня тут недавно в школу на утренник приглашали. Я все думал, что приду и расскажу, что такое война на самом деле, чтоб не думали ребятишки, будто война – это только героизм, как в кино у нас показывают.
– И что?
– Вышел на сцену и растерялся. Никогда раньше не выступал. И полезли из меня какие-то сплошные казенные слова…
…и мне в детстве никто не объяснил, что такое война…
– Будь здоров, дед!
– Ты вот растолкуй мне, Олежка, ерундистику эту. Мы приезжали с фронта и радовались жизни. Война закончилась! Мы были счастливы, старались скорее забыть про войну. А ваше поколение наоборот, будто не хочет ее забывать.
– Потому что она еще идет.
– Ну и леший с ней. Пусть идет! Тебе-то что? Тем более, что отслужил положенное, ранение перенес. И забудь о ней. Ладно бы война где в России была, а то у черта на куличках, в каком-то Афганистане!
– Это, дед не просто, забыть.
– Я не знаю, – покачал головой дед Алексей. – Наше поколение другим было.
– Другим, дед.
– Времена были тяжелые, послевоенные. Жили не Бог весть как. Голодно жили. И холодно. Но ведь вера была в нас!
– В Сталина…
– Верили в него. Он много сделал для страны! Пусть его там поносят нынче! Верили, что осилим разруху, что выправим все, что самые счастливые на свете! А твое поколение, Олег, какое-то потухшее.
…не потухшее, дед… с разоренными душами поколение…
Вернулся недавно тут у нас один комбат. Так пьет он и мечтает в Афганистан опять уехать. Что же это такое с людьми делается? Да чтобы мы на войну рвались после пяти лет! Только если б страна потребовала и приказала! Да что там говорить! Песни ваши «афганские» послушаешь, тоска берет, безысходность полная!
…разоренные души… и великая тоска…
В наших песнях радость звенела, надежда! Про победу, про подвиг советского народа пели!
…мы с тобой дед в разные эпохи и за разные идеалы сражались…
твои идеалы и теперь с тобой, а я в сомнениях, я растерян,
обманут…
– …в госпитале все телевизор смотрел, газеты читал, разговоры разные слушал, сюда пока добирался присматривался, и такое чувство, я тебе скажу, будто вся страна переменилась. Не узнаю я ее. Перестройка, ускорение… Люди совсем другими стали за те два года, пока я воевал… Что-то изменилось, а вот что конкретно уловить не могу…
– Нет, Олежка. Страна не изменилась, и люди точно такие же, как были.
Это ты стал другим.
…без веры гибнет русский человек, без веры превращается в ленивого,
беспринципного, никудышного человечка, спивается, без веры русский
человек пропадает…
Боль приехала вместе с ним, и прописалась в доме, так же, как и он, на равных правах, вот только до поры до времени не подавала виду, обживалась, осваивалась. Пока гостили у родителей, боль не напоминала о себе, а стоило перебраться на новое место службы – оживилась.
Женьке он, естественно, все рассказал в первый вечер, и как в засаду попали, и про госпиталь, только про боли умолчал. Женька, правда, больше расспрашивал про госпиталь, а именно – симпатичные ли там медички. И, что больше всего обидело Шарагина, перебивал его несколько раз, чтобы напомнить про собственные былые подвиги, и про собственные похождения после ранения.
Он думал, что оставил боль в госпитале, что лекарства, которые он принимал, защитят его, а она объявилась снова, насмехаясь над медициной, и поселилась рядышком, как селится домовой, и ожила ночью, как домовой.
Именно ночью пришла боль, когда он был наименее защищен, и желал погрузиться в сон, забыть о дневных заботах и мучительных раздумьях о будущем.
Боль схватила за затылок, и постепенно отвоевывала всю голову, сводила с ума. Иногда в своем воображении болезненном он представлял девчонку-отличницу в школе, в одной из школ, где он учился. У той были шикарные волосы, заплетенные в толстую
…как угорь…
длинную косу. Мальчишки на перемене подбегали к ней сзади и таскали ее за косу. Девчонка кричала от беспомощности собственной, но ничего сделать не могла. И Олегу теперь боль его нынешняя рисовалась, как коса; боль физическая и боль душевная сплелись воедино в длинную косу на затылке, которую кто-то сильно тянул назад.
Боль медленно добивала, и он понимал, что она не уйдет, пока жив он, чтобы там не обещали врачи, и какие бы лекарства не прописывали, что она будет с ним до самого конца.
Он стонал, и боялся, что разбудит дочь.
…что будет, если она проснется? что она подумает? что отец
напился? она может сильно испугаться!.. будет потом бояться меня…
А когда боль усиливалась до предела, дальше которого терпеть был не в силах человек, ушел в ванную и бился головой о стену. Долго бился, пока не притупилась боль.
…я больше не могу! лучше смерть, чем эта адская боль… я не хочу,
не могу так больше жить! не могу больше ее терпеть! лучше
умереть… нет, я никогда вас не брошу, мои милые… чтобы ни
случилось, я всегда буду с вами… девчонки мои любимые!..
– Олежка! Открой! Пожалуйста, – умоляла Лена. – Не закрывайся от меня! Я прошу тебя, открой дверь. Я знаю, что тебе плохо, открой мне, пожалуйста, милый, любимый! Открой.
…она не должна меня видеть!.. кровь… откуда на мне столько крови?
я весь в крови… я разбил себе до крови голову?! и стена вся в
крови…
– Олежка, открой.
…сейчас, Леночка, сейчас я открою… подожди… нет сил подняться…
сейчас, надо подняться из ванны… почему я лежу в ванне?..
На утро как будто полегчало, и он лежал в постели и с затаенным любопытством наблюдал, как Лена расчесывала у зеркала Настю.
– Видишь, папу разбудили. Что ты не спишь? Спи. Рано еще совсем. Опаздываем в садик, – спохватилась она, глянув на будильник, заторопилась.
Он заснул и проспал с час. Лена вернулась домой после детского сада и магазинов, готовила на кухне. Она стояла к нему спиной, и он чувствовал, что она боится той минуты, когда закипит чайник и будут готовы бутерброды, и придется повернуться к столу, и поставить чашки и тарелки, и налить чай, сначала из заварочного, затем добавить кипяток, и после придется поднять глаза, и заговорить о том, что случилось ночью, о страшном приступе…
А однажды Лена повела Настюшу в детский сад, а когда вернулась, Олег катался по полу, сжав голову руками, и громко стонал.
– Уйди! – закричал он. – Уйди!
Лена плакала, но не уходила.
– Уйди! Уй-ди-и-и!
Что же такое происходило с ее любимым Олежкой? Что же такое страшное творилось с ним? Что за боль жила в нем, отдаваясь наружу стонами, лихорадкой, метаниями, дрожью, сдавленным криком?
Шарагин проспал до вечерних новостей. Проснулся разбитый, подавленный.
– Иди скорей! Афганистан показывают, – крикнула Лена. Олег курил на лестничной клетке. – Скорей-скорей!
С хрипотцой в голосе вещал мордастый корреспондент об интернациональной помощи и вылазках бандформирований.
– Словоблуд! – Шарагин не стал слушать, ушел.
Заварочный чайник выскользнул из рук, разбился. Вбежала Лена:
– Мой любимый чайник.
– Только без вздохов! Ничего страшного! Новый купим!
– У тебя на все один ответ: купим, ничего страшного! Так скоро и денег не останется! Где ж ты такой купишь?
Олег не ответил, хлопнул дверью. Вернулся после полуночи, выпивший, хмурый. Принял душ, быстро уснул.
– Подъем! Две минуты на сборы! – на пороге стоял Женька Чистяков. – Едем на охоту. Машина внизу ждет.
– Какой из меня охотник?
– Что ты, как баба, ломаешься!
Лена закивала Женьке, мол, молодец!
– Не выспался, – но в голосе Шарагина категоричных ноток не слышалось. – Предупредил бы хоть заранее, – нехотя, Олег поплелся одеваться.
– Папа, ты куда?
– На охоту.
– А я?
Олег подумал, решил:
– Поехали.
Лена снова закивала:
– Сейчас соберу. Иди скорей свитер одень. И шерстяные носки! – девочка побежала в комнату.
– Нет, – скривил лицо Женька, – я тебя умоляю! Только без детей.
– Тогда не поеду.
– Что она там будет делать?
– Мы будем гулять в лесу.
– Э-э-э… Черт с тобой! – сдался Женька.
Охотники предупредили Настю: вести себя тихо! Потому что, сказали серьезные дяди, на зайца охотиться дело непростое, можно зверюшку запросто спугнуть. Наслушалась по пути девочка заядлых охотников, и очень переживала, сидя у папы на коленях, прижималась к нему, и шептала на ушко: «Плавда, ты не будешь зайку убивать?», особенно когда хвастались дяди, кто каких зверей подстрелил. Пожалела Настюша зайчиков, и лосей, и волков, и лисичек, и кабанов, и птичек. Потому-то, как только приехали в лес, отбежала она от машины и закричала громко-громко: «Зайка, беги! Зайка, беги отсюда, сколей!»
Как же не хватало Шарагину все это время русского леса! Осанистых березок, запрятанных от чужих глаз полянок, поросших мхом пеньков… Русского воздуха ему не хватало! Русского духа! Русского простора!
…нескончаемых просторов! Господи, кто бы знал, как душа радуется, когда
предстает такая картина!
…столетиями собирали земли!.. только беспримерная отвага и мужество
великого народа нашего могли снискать господство над такими просторами!..
Не хватало ему на той войне русской дали, не хватало русского пейзажа: толщиной с ниточку леса на горизонте, убегающей вдаль безымянной речушки, безмолвно покоящейся на возвышении белокаменной церквушки.
Церковь виднелась издалека, не пройдешь – не проедешь мимо, неминуемо остановишь взгляд, полюбуешься.
…умели же строить, и место подобрать самое выгодное!..
И запало, резануло:
…а ведь сколько веков стоят! и жгли, и взрывали, и под конюшни
определяли! и татары, и свои же! а неистребимы оказались
православные храмы… все пережили, переждали… твердо
стоят… непоколебимо… все меняется, уж в который раз, а они
стоят…
Чтобы добраться туда, пришлось бы переходить где-нибудь речку, и после подниматься вверх по чуть проступающей в траве тропе.
…надо будет Настюху крестить… как же она у нас некрещеная-то?..
Тянула его церковь, звала к себе, но Шарагин так и не нашел брода, походил вдоль берега, повернул обратно.
…в другой раз… не пускает к себе…
На опушке развели костерчик, перекусили бутербродами, поделили пополам яблоко, согрелись сладким чаем из термоса.
…или я не готов? а не мешало бы зайти… постоять… покаяться…
– Что такое? Что случилось? – Настя испугалась, вскочила – муравьи ползали по
ней, муравейник-то они и не заметили, когда на привал устраивались. – Ишь, какие!
Отряхнулись. Посмеялись:
– Муравьишек испугались!
Пересели.
– Муравьи – полезные. Их обижать нельзя.
– Мулавьи – доблые, они не кусаются, – сказала Настя.
– Ты когда была совсем маленькой, ты так смешно всегда говорила: «Сябака кусаиса, а коска не кусаиса…»
В лесу, на природе, на свежем прохладном воздухе расслабился Олег,
…благодать-то какая…
отключился от городской суеты, от служебных дел, о вечном задумался.
…Россия… и мать и мачеха, одна-единственная, беспощадная и
милостивая, как и все мы, вся в противоречиях, загадочная и
очевидная…
Столько, казалось, России повидал на коротком веку Шарагин. По округам в детстве наездился, следуя за отцовскими назначениями, из-под купола парашютов любовался землей необъятной, из поездов,
…изгибы рек, поля, поля, дороги и бездорожье, степи, леса, леса,
вновь дороги, развилки, и города, города, деревни, деревни… и
людей-то сколько… и какие все разные…
а осмыслить так и не сумел, не хватило половины человеческой жизни.
…и целой не хватит… и двух не хватит… десять веков уж минуло, а мы
все ищем и спорим… и единого мнения нет… и не будет… не дано
человеку понять… Россия – выше человеческого понимания… такой
уж, видать, задумал ее Творец… и вложил в нее особую мысль свою…
…самую сокровенную…
…велика земля наша русская, столько мудрости, столько сил – не
сразу вникнешь, не сразу зачерпнешь…
…не оправдали надежд мы Твоих, Господи… заплутали, заблудились…
веру поменяли… потянулись от вечного к сиюминутному, к
бренному… веру выдумали новую, да уж больно скудна вера эта… не
долго протянула… рассыпалась… в прах превратилась…
Зайка убежать не успел… Под вечер смотрела Настюша на мертвых зайчиков в багажнике Женькиных Жигулей и всхлипывала.
– Ну, чё ты ее потащил с собой! – ворчал Женька. – Сидела бы себе дома.
Разложили закусон прямо на капоте, откупорили бутылки. Обмыли с егерем удачную охоту, заговорились. Стемнело. Пьяные, набились в машину.
Настя задремала у Олега на коленях. Стекла от водочного угара запотевали, их терли рукавами и ладонями, спорили куда поворачивать на развилках. Попеременно закуривали, хотя Шарагин и просил из-за ребенка не дымить в машине.
– Ага, – согласно кивали плохо контролировавшие себя после водки офицеры. – Две затяжки. – Делали по три, по четыре, по пять затяжек, наконец, выкидывали сигарету в окно или тушили об пол, а через пять минут кто-нибудь вновь начинал дымить.
– В следующий раз – никаких детей, – злился Женька. – Где ты видел, чтобы на зайца детей с собой тащили?!
Пошел дождь. Заплутали в темноте, разворачивались, прыгали по ухабам, матерились.
На следующий день Настюша расчихалась, раскашлялась. Померили лоб – батюшки! Горит вся, а по ней не сказать: светиться в улыбке
…как ангелочек…
и силенок не утратила, возится, играет. Лена перепугалась:
– Скоренько скоренько, в постель.
Она не противиться. Ей все – и простуда, как игра. Обложилась мягкими игрушками. И в постели весело.
– Давай еще поставим гадусник, может уже нет теляпюньки, и пойдем гулять! – просила она папу.
– Нет, бельчонок, надо выздоравливать, придется несколько дней дома посидеть. Видишь, как мы с тобой в лесу простыли.
– Папуля, – вдруг сказала Настюша. – Папуля, я видела…
– Что ты видела?