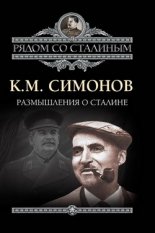Воспоминания провинциального телевизионщика Пивер Леонид
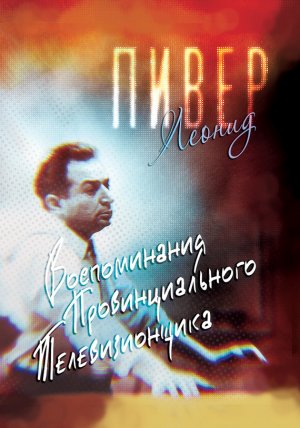
– Мотор! – отзываюсь я. – Дубль два!
– Ваам-парам-пари! – отзывается оркестр. Доходим до партии валторны, – опять неправильно! И тут у меня возникает гениальная мысль:
– Натан Григорьевич, – предлагаю я, – в фонотеке областного радио есть запись вашего оркестра с этой симфонией! Представляете, звучать будет другой оркестр, а наш – просто имитировать исполнение в кадре!
Я думал, что маэстро просто умрет от счастья! И валторнист, наконец, выдаст свой основной репертуар! А Рахлин спокойно так говорит:
– Нет, нет, ну что вы, друг мой, нет, нет, это неприлично… Давайте еще разочек!
– Мотор! – вступаю я. – Дубль три!
Звучит спасенный оркестр, дело доходит до валторны… И я чувствую, что сыграно так же, как и в предыдущих дублях!
– Стоп! – вырывается у меня.
Оркестр замирает. Становится тихо настолько, что я слышу свои мысли:
– Боже мой! Что я наделал! Народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии продолжает запись, а я останавливаю!
Мне, еще только начинавшему на телевидении, показалось, будто музыкант опять ошибся.
И вдруг, среди этого потока мыслей:
– Как зовут молодого человека? – обращается Рахлин к оператору Игорю Бузуеву, второму большому специалисту в области неоконченных симфоний.
В моем сознании проносится вся моя жизнь, показавшаяся такой мелкой, незначительной:
– С улицы взяли, на улицу и выгонят! И что я буду делать без любимой работы? Как жить?
– Леонид! – между тем радостно сообщает оператор, которому, как и многим, я досаждал наставлениями во время съемок.
И Рахлин повторяет радостно:
– Леонид!
– Да, – отвечаю «уволенным» голосом.
– Лёнечка, – продолжает он. – Лёнечка, спасибо, а то я никак не мог с ним справиться!
Поднялся хохот. Смеялся оркестр, смеялся даже оператор, не дождавшийся на этот раз моего увольнения. И моя жизнь опять потекла в творческом удовлетворении…
Здесь можно было бы поставить точку, или, как говорят режиссеры, стопнуться. И ощущение незавершенности выразило бы полное соответствие моего рассказа «Неоконченной симфонии». Но, в отличие от Йозефа Гайдна, создавшего бессмертное творение в знак протеста против сумасбродства покровителя – графа Эстергази, я никому и ничего не пытаюсь доказать. А пробую только рассказать!
И тут нельзя не рассказать (прошу прощения у читателей, сведущих в классической музыке!), что по воле автора «Неоконченная» исполняется при свечах, зажженных на каждом пульте. И, по мере приближения произведения к финалу, исполнители, отыграв партию, гасят свечу и уходят со сцены. Создается необычайно эмоциональная обстановка: уходит медь, задув свечи, уходят скрипки… В общем, публика, как правило, рыдает.
И когда мы записывали картинку для рахлинского исполнения, хотелось передать эту волнующую атмосферу. Но как? О свечах не могло быть и речи – их бы просто не заметили в свете студийных софитов, по яркости соперничавших с дуговой сваркой. Тогда вспомнили про канделябр, завалявшийся в реквизите. И помощнику режиссера весь эфир пришлось ползать под камерами со старинным осветительным прибором и, по моей команде, когда очередной музыкант покидал сцену, взмахивать им перед объективом. Зритель замечал мелькнувший в кадре канделябр и понимал, что имелось в виду.
Так, изобретательностью, граничащей с художественным хулиганством, мы компенсировали скудость технического арсенала.
«Амати» в студию
Мы не догадывались, но та гастрольная поездка Мстислава Ростроповича была последней перед вынужденной эмиграцией. Из сообщений газет, радио и телевидения невозможно было понять, что происходит. Мелькали фамилии Ростроповича, Вишневской, Солженицына, но в чем дело – никто не знал.
Оркестр Мравинского в полном составе, с солистами, среди которых был великий русский виолончелист, приехал к нашим соседям – в Курган, чтобы выступить в непривычном качестве. Музыканты неделю трудились на строительстве ортопедического центра Г. А. Илизарова, где в это время лечился великий русский композитор Д. Д. Шостакович. Неизвестно, играл ли оркестр на стройке или музыканты носили раствор и кирпичи, но Челябинская филармония договорилась с маэстро о концерте в студии. Все с нетерпением ждали этого события, а режиссеры музыкальной редакции находились в отпуске. Лично я рыбачил на озере Тютняры.
Так, в рыбацком снаряжении, которое не слишком отличалось от театрального, я и примчался на студию, разорившись на попутную машину.
Через полчаса приехал маэстро.
– Мстислав Леопольдович, это режиссер, – представили меня.
И сердце захлестнула волна радости, когда великий артист заключил меня в объятия.
Правда, потом, из воспоминаний Галины Вишневской, я узнал, что ее супруг дарил это необычайно теплое, дружественное объятие всем знакомым, малознакомым и незнакомым людям.
А тогда – маэстро репетировал, мы готовили студию. Во время непродолжительного отдыха перед началом записи я подошел к инструменту. Виолончель небрежно лежала на стуле, и я хорошо рассмотрел инструмент гения. Он был старым, обшарпанным. Казалось, передо мной – участница сцены драки из знаменитой комедии Г. Александрова «Веселые ребята». Место, которого касалась рука маэстро, было словно изодрано тигриными когтями.
И я решил пошутить, но не как с мировым гением, а как с одногодком:
– Мстислав Леопольдович, вы такой великий музыкант, а у вас такой инструмент…
– Да, это ужасно, друг мой, – согласился Ростропович. – И тем более ужасно, что это Амати…
Ну, кто такой Амати, я уже знал. Включив воображение, я представил, как пять веков назад, в Кремоне, старый седой мастер при тусклом свете свечи нежно трогает струны, проверяя звучание сотворенного им дивного инструмента.
– И цена его восемьсот тысяч долларов… – продолжил маэстро.
Тут мое воображение отключилось. Как выглядит без малого миллион долларов, я не представляю до сих пор. Так что не ищите меня в списках Форбса!
Тут вошел он
В 1958 году в стране широко отмечался юбилей комсомола. Мы тоже не могли отстать от страны. Благо в то время многие участники исторических событий были еще живы. Они с удовольствием встречались с молодежью, делились воспоминаниями. Нам не составило труда отыскать в городе двух делегатов самого первого съезда комсомола, пригласить их в студию. Тогда это была еще малая студия, маленькая площадка. Но отметить событие хотелось грандиозно.
Чтобы оживить студийный интерьер, соорудили шалаш – не бутафорский – настоящий. Поставили два пенька, чтобы хоть как-то приблизить ту атмосферу, в которой, по нашему мнению, и должен был зарождаться будущий союз молодежи. Привезли из ближайшей школы третьеклассников в галстуках и белых рубашках. Окружившие ветеранов ребятишки радовали глаз, одновременно являя грядущую комсомольскую смену. И последнее было идеологически правильным.
Договорились, что первой на программе выступит Клавдия Ивановна, а после слов «Тут вошел он!» продолжит Николай Васильевич.
Прозвучало, как обычно:
– Внимание! Эфир.
Ведущая отрапортовала:
– Сегодня у нас в студии ветераны ВЛКСМ…
И Клавдия Ивановна начала делиться воспоминаниями. Делилась она долго. Почти столько времени, сколько прошло со дня памятного съезда. У пионеров, сидящих под нашими софитами, уже пот стекал ручьями.
А ветеранша не умолкает. И вдруг, сквозь пламенную речь, слышу храп.
– Что такое?! – кричат на пульте.
– Ветеран заснул! – понимаю я.
Наконец, звучит пароль:
– Тут вошел он…
В ответ – только храп. Разморило старичка.
Клавдия Ивановна, не получив поддержки, усиливает посыл:
– Тут вошел он! Николай Васильевич, вы, конечно, его узнали… Храп.
Она громче:
– Николай Васильевич! И тут вошел он…
– И мы его все узнали… По лысине! – молвил внезапно проснувшийся Николай Васильевич.
– Всех разгонят! Поубивают! – хаотично соображал я. – За что? Что плохого я сделал комсомолу?
Между тем гости напропалую пустились в воспоминания. Всплывали фамилии, явки, пароли… Я отчетливо представил выражение лиц сотрудников курирующей нас организации.
– Там был… – Клавдия Ивановна называет фамилию, – помните, он потом оказался провокатором…
– Не может быть! Я его видел в прошлом году на рынке… Забыв о том, что старикам везде у нас почет, прошу оператора, стоящего ближе к участникам:
– Сережа, покажи, чтобы закруглялись!
Сережа руками показывает ветеранам большой круг.
– Это куда? – спрашивает Николай Васильевич.
И, поймав окончание очередной фразы, мы убрали картинку. Дали песню «Взвейтесь кострами» и на оптимистической ноте ушли из эфира.
… С тех пор я настороженно отношусь к ветеранам. В том числе, и к себе.
Утро туманное
В 60-е годы популярных артистов мы часто видели по центральному телевидению. Их популярность была невероятной. Но когда звезды появлялись в провинциальных студиях, то с удивлением обнаруживали полное отсутствие суматохи и возгласов:
– Ой, это вы?
У провинциалов собственная гордость…
Однажды в Челябинске гастролировал народный артист СССР Борис Штоколов – прекрасный певец, гордость отечественной оперной сцены. И между прочим, наш земляк, уралец. Тогда Штоколов был еще молод, но уже выглядел чрезвычайно представительно.
Когда он пел, его бас словно обволакивал слушателя. Микрофоны уважают такие голоса.
И вот, перед началом телепрограммы, Борис Тимофеевич признаётся:
– Ребята, я люблю крупные планы!
А я, уже немного попритершийся к «звездам», не спорю:
– Замечательно! Всё дадим крупным планом. А как же…
По графику подается команда в студию, светится табло «Микрофон включен» – передача начинается. В кадре идет средний план, хороший свет – черно-белый, который мне так нравится, микрофон работает…
Звучат несколько произведений. Увлекшись, я совсем позабыл о крупном плане…
Диктор объявляет: – В заключение исполняется старинный русский романс «Утро туманное».
Звучат первые аккорды. Вступает голос певца… Нивы, согласно тексту, печалятся… И тут я, вспомнив про крупный план, имею неосторожность скомандовать оператору: – Наезжай! Камера едет.
– И еще немножечко… Стоп! Камера замирает. В мониторе наблюдаю «поясной» план исполнителя, слышу строки рвущего сердце романса… Потом замечаю изменение ракурса… Камера опять идет на укрупнение.
– Куда? – торможу оператора. Он бормочет в микрофон: – Лично я – никуда, это меня…
А монитор по-прежнему заполнен крупным-прекрупным планом народного артиста. Вот объектив сканирует мощную грудную клетку… Я – опять к оператору, еще настойчивее: – Отъезжай!
– Не могу, – злится оператор. – Он камеру к себе тянет! И тут я соображаю, что происходит. На старых студийных аппаратах спереди, ниже объективов, как хобот у слона, торчал толстенный кабель питания. И Штоколов, то ли в творческом экстазе, то ли из любви к «крупнякам», схватился за этот электрический шланг, а объектив-то был широкоформатный. Техники в панике: – Лёня, мы видим печень! Я кричу оператору: – Отъезжай!
И вижу, как между ним и певцом начинается нечто вроде состязания по перетягиванию каната. Причем оператор тянет сознательно, а Штоколов, похоже, бессознательно. Он-то не видит, что происходит в кадре. А мы видим огромное нёбо певца и другие детали вокального аппарата – в общем, цех по производству «Утра туманного», хотя смотреть это было невозможно. Наконец, оператор вырвался, отъехал, но камера еще долго дергалась, словно не могла отдышаться. Это было невероятно!
Борис Тимофеевич, несмотря на то, что очень скучал без соседства камеры, достойно закончил романс. И потом, уже за кадром, спросил:
– Ну, как получилось?
Что можно было сказать дорогому гостю?
– Замечательно! Крупные планы – просто прелесть, – отвечал я.
Но оператор и камера еще долго не могли успокоиться.
За одним столом с Сергеем Эйзенштейном
В конце шестидесятых мы решили пойти на эксперимент. К этому времени, имея опыт телевизионных съемок, небольшую практику кинопроизводства, мы решили снять произведение, о котором написали бы в афишах: «Смотрите цветной художественный фильм».
В художественном совете было много дискуссий. Кто-то предложил снять полнометражный цветной фильм об уральских золотоискателях с метражом примерно час-час двадцать. И когда уставшая комиссия уже почти решилась на это предложение, вспомнили, что Москва нам выделила пленки всего на две киночасти – ровно двадцать минут. «Золотой лихорадки» не получалось…
На следующий день комиссия продолжила заседание. Было решено снять недавнюю премьеру Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки – спектакль «Болеро» на музыку Мориса Равеля. Время балета и количество пленки совпадали. Спектакль шел 18 минут и четыре секунды. Сделанный выбор был явным признаком высокого профессионализма нашего худсовета.
И началось! Те, кто видел фильм «Время, вперед!», могут представить себе размах строительных работ. Сооружался громадный деревянный помост, имитирующий сцену оперного театра. К этому времени студия заполучила профессиональную кинокамеру «Родина». Нам, привыкшим к портативным съемочным средствам, эта камера казалась необъятной, как и сама наша страна.
Кажется, каждую секунду съемок я помню до сих пор. Работали по ночам, когда в студии заканчивались программы. Актеры приходили на телевидение после вечерних спектаклей.
Оформление, представлявшее, по нашему мнению, испанскую Севилью, делали «вскладчину»: декорации взяли в театре, а «хлопушка» была наша.
– «Болеро», дубль один!
– «Болеро», дубль два!
Танцовщики были молоды, энергичны. Они испытывали эмоциональный и творческий подъем уже оттого, что впервые записывались на телевидении. Даже усталость от ночных съемок не отражалась на общем уровне накатывавших чувств.
И так продолжалось десять ночей. Потом двадцать дней монтажа. И все это время звучала музыка Равеля: ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам. Вот это, скажу я вам, пытка! Даже в средневековье не было более изощренных истязаний. Ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам!!! Не верите, – послушайте!
И наконец прозвучало:
– Снято!
Девушка с «хлопушкой» заплакала… Это были слезы радости.
Полет души закончился – начались банальные телевизионные проблемы. Например, студийный проявочный комплекс не позволял обрабатывать цветную кинопленку. Возникли сложности с монтажным столом. Проявка, копирование, сведение…
– Куда мы влезли? – паниковал я. – Это целая индустрия… Надо ехать в Голливуд!
Ближе всего к Голливуду оказался Куйбышев (Самара), где дислоцировалась студия документального кино. Там можно было проявить пленку, но не было возможности смонтировать. Так, радуясь, что и Куйбышев – тоже не Голливуд, мы с ассистентом отправились на вокзал.
Очередную схватку за Равеля мы выиграли у проводницы: в вагон нас не пустили, поскольку пленка была горючей. Ее полагалось сдать в багаж, оплатить провоз… А все, что касалось оплаты наличными, при социализме приравнивалось к государственной измене… И тут меня озарила очередная творческая находка: рулоны пленки были извлечены из коробок, делавших ее негабаритной, и растолканы по чемоданам.
Оказавшись в купе, мы разместили чемоданы с бесценным содержимым под нижними полками. И когда устроились на этих полках, то почувствовали себя, как на пороховых бочках.
В Куйбышеве пленка была проявлена, с нее был сделан позитив, призванный при монтаже спасти оригинал-негатив.
А монтировать фильм пришлось в Алма-Ате. Среди казахстанской экзотики я оказался впервые. Но даже знаменитые манты попробовать не успел – безвыходно сидел c оператором в монтажной. Спустя неделю работа подошла к финалу. Cобытие было скромно отмечено в местном ресторане. Какое счастье! – у оркестра в тот день был выходной. И мы с Равелем отдохнули!
На утро был назначен просмотр. Спускаемся в фойе – а там толпятся люди. И их настроение совсем не соответствует нашим радостным лицам.
– Что случилось?
– Юрий Гагарий погиб!..
Просмотр, естественно, отменили. Мы тихо вернулись в Челябинск.
Спустя какое-то время наш фильм показали. Кто-то из музыкантов-профессионалов заметил, что в паре мест не стыкуются картинка и музыка. Ну, профессионалам виднее. Зато никакие профессионалы не смогли понять, что балетное действо было снято одной камерой, в одной студии и c одной точки!..
И еще один штрих. В финале этой длинной истории я хочу вспомнить монтажную комнату алма-атинской киностудии. И табличку у входа: «Здесь великий советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн монтировал вторую серию фильма „Иван Грозный“». Тот фильм не понравился Сталину и не вышел на экран. К счастью, наш фильм не разделил эту печальную участь. Челябинский зритель его принял. В конце концов, кому-то должно было повезти…
Был ли в вашей семье Шерлок Холмс?
Конечно, поклонники классического детектива знают, что великий сыщик практически безвыездно жил в Лондоне, на Бейкер-стрит, 226-Б. Но в деятельности детектива известен период, когда место его проживания кардинально изменилось.
Все началось с того, что в начале восьмидесятых ко мне обратился наш инженер Юра Татаринов:
– Лёня, есть у меня польский журнальчик «Пшекруй»…
А надо сказать, что немногое из стран так называемой народной демократии тогда разрешалось. Вспомнить хотя бы знаменитый Кабачок «13 стульев» на Центральном телевидении.
– … С играми и криминалистическими задачками на сообразительность, – продолжал Юра. – Главные действующие лица – инспектор полиции Варнике и сержант, его помощник…
И, читая в моих глазах интерес, предложил:
– Хочешь, переведу?
– Ты знаешь польский? – удивился я.
– Нет, но перевести могу!
А кто тогда не владел любым иностранным со словарем? В общем, Юра сделал доступными для нашего понимания гры братского в то время народа.
Идея цикла журнальных детективных историй была несложной. Конечно, для ее воплощения требовалась определенная доля читательской наблюдательности, логики, дедукции, психологии… Но весь набор – в рамках среднестатистического интеллекта. Например, мнимая жертва преступления рассказывала, как преступник ворвался в комнату, но проницательный инспектор обнаруживал, что дверь в комнату открывалась совсем по-другому. Значит, врет – значит, преступник. Были и еще любопытные истории…
В общем, мы решили переселить Варнике на местную почву, инсценировав некоторые эпизоды блестящей сыскной карьеры. А поскольку передача была адресована широким зрительским массам, то малоизвестного в народе инспектора заменил знаменитый сыщик. И название родилось соответствующее: «Есть ли в вашей семье Шерлок Холмс?». Свои истории мы старались наполнить приметами челябинской жизни, дописывая и переписывая журнальные тексты. Вот наш Шерлок Холмс ловит преступника, который скрывается в геологическом музее. И на вопрос сыщика: «Что вы тут делаете?» – отвечает, что пришел полюбоваться виденным здесь в прошлом году минералом. Но инспектору-то известно, что таких минералов на Урале нет и в помине. Значит, врет – значит, преступник.
Моим соавтором в части сценария стал Самуил Гершуни, редактор по должности, прекрасный человек по призванию, фронтовик. Инспектора играл актер нашего драматического театра народный артист России В. Коноплянский, но первым исполнителем этой роли стал Арон Михайлович Кербель, который не был профессиональным артистом, но, преподавая в институте культуры, прекрасно знал театр и кино, а кроме того, обладал колоритной внешностью. Всё это вкупе способствоало успеху программы.
После эфира первой передачи нам позвонили из ближайшего почтового отделения:
– Что случилось? Почему столько писем?
Бедным почтальонам пришлось доставить на студию больше тысячи конвертов, пакетов, свертков… Дедуктивные способности демонстрировали все: от первоклассника до доктора наук. Наш кабинет был завален корреспонденцией. Возникало ощущение, будто в каждой челябинской семье есть Шерлок Холмс.
В общем, знаменитому сыщику в Челябинске понравилось. Наша затея стремительно набирала популярность. В съемках участвовали челябинские актеры и заезжие звезды. В одной из серий допросу вездесущего инспектора подверглась Анне Вески и в подтверждение алиби пела на эстонском языке.
Исполнители менялись, передачу, в соответствии с законами детективного жанра, то убирали из эфира, то восстанавливали. Но Шерлок Холмс жил.
Как раз в то время работал в Москве бывший наш ассистент режиссера Виктор Крюков. Он стал известным режиссером, одним из создателей популярной программы «Веселые ребята». А однажды позвонил:
– Знаете, я предложил Шерлока на Центральное телевидение.
– А они? – поинтересовался я без особого энтузиазма.
– Заинтересовались.
Так я поехал в столицу с несколькими нашими сценариями…
И вот я на Центральном телевидении. Мы делаем нашу программу, которую почему-то назвали «Игра в детектив».
Конечно, первые дни пребывания на Центральном – сплошные потрясения. Аппаратура, суета… Под кабинет инспектора была выделена специальная студия. И едва только я пришел в себя после установки декораций, как слышу:
– Леонид Григорьевич, надо проводить кастинг.
Я постеснялся спросить, что такое «кастинг». Конечно, про отбор актеров я знал, но с этим заморским словом не сталкивался.
– Мне бы сначала на актеров взглянуть, – говорю.
– В тринадцатую комнату, – посылают меня.
Захожу, а там – картотека, с адресами, телефонами…
– Ну, думаю, сейчас с ними пошучу.
Перебираю карточки… Рядом – женщина-ассистентка. Сидит тихо, творить не мешает…
– Инспектор… – вслух думаю я. – Инспектор…
– Мне кажется, – обращаюсь к даме, – с этой ролью неплохо бы справился Евгений Евстигнеев… Нет, только Евстигнеев! Именно Евстигнеев!
Дама пишет…
– А помощник, – продолжаю резвиться, – лучше всего удастся Леониду Ярмольнику.
– Ну, – думаю, – сейчас у дамы терпение иссякнет… И готовлюсь услышать надменное:
– А пойдите вы вон, Пивер!
Вместо этого:
– Так и запишем – Леонид Ярмольник.
Я не унимаюсь:
– Генри Фокс – Владимир Сошальский. Ведущий – Юрий Яковлев.
Дама:
– Сошальский. Яковлев.
– Cлужанка – Ирина Розанова, – продолжаю я виртуальный кастинг.
– Ирина Розанова – служанка, – пишет ассистентка.
– Господи, – думаю, – ну откуда ей знать, кто такая Розанова? Ведь та только начала появляться на театральной сцене.
И тут мне попадается карточка – «Светин». Кого же дать сыграть выдающемуся комику?… Не проблема, напишем нового персонажа! Впрочем, знаю, что Светин живет в Ленинграде.
– Светин! – говорю я твердо.
– Светин, – пишет ассистентка без всякой интонации.
– Он же в Ленинграде, – подсказываю я.
– Ничего, есть ночной поезд «Красная стрела», – строчит дама. И завершает:
– Я всё передам!
Кому и что она передала, не знаю, но через пару дней меня приглашают на встречу с актерами.
– С какими актерами? – пугаюсь я.
– С теми, которые прошли у вас по кастингу.
– Боже мой, – думаю я. – Пропал! Это с нашими артистами я чувствовал себя спокойно… А что я скажу самому Евстигнееву?
Оказалось, волнения были напрасны. В назначенное время действительно собрались актеры, о которых я и мечтать не смел. Замысел передачи и весь материал понравились. Начали репетировать.
– Хватит репетировать! – вдруг говорит Евстигнеев.
И мы стали снимать «набело» по фрагментам. Когда «Игра в детектив» была готова, ее увидела вся страна. Большей части СССР понравилось. И я вернулся домой.
Сделали в Челябинске еще несколько программ. Они по-прежнему пользовались успехом. Возможно, потому, что наш детектив объединял людей не только приключениями. Однако мы все яснее понимали, что продолжать делать передачу в существующих условиях невозможно. Кем мы были? Провинциальным телевидением с вечным дефицитом времени, пленки, помещений… Смонтированные для Шерлока декорации каждый раз приходилось стремительно разбирать, поскольку с коварством профессора Мориарти по графику подкрадывалась программа «Кукурузоводство в области»…
Не всегда великие сыщики погибают в схватках с преступниками. Иногда они умирают своей смертью. И как-то незаметно наш «Шерлок Холмс» ушел на покой…
А у меня на душе неспокойно до сих пор. В то время тотальный дефицит всего заставлял стирать прекрасные концерты, спектакли, представления, поскольку требовалась магнитная лента для новых записей. Зритель любит новенькое… Представляю, скольких ценнейших документов не досчитаются историки культуры.
А студийные архивы! Помните надпись в конце почти каждого советского художественного фильма: «Снят на пленке Шосткинского химкомбината»?… Будто по качеству нельзя было понять: не «кодак». Кроме всего прочего, «шостка» прекрасно горела. И однажды поступила команда пожарных: с архивных лент смыть и сдать фотослой, содержащий серебро, а целлулоидную основу – сжечь!.. Мне, уже немолодому человеку, хотелось плакать…
А еще мне очень хотелось сделать так, чтобы провинция была лишь местом жительства, а не образом жизни. Я старался сделать все, что мог.
С проблемами и без
Как пишут классики, шли годы, менялся коллектив. В восьмидесятые на студии стали появляться люди со специальным образованием из свердловских, ленинградских ВУЗов и выпускники гуманитарных факультетов местных учебных заведений. Сложнее и интереснее становились телевизионные программы. Мы, будучи сугубо практиками, в волнении стали присматриваться к молодежи внимательнее… И – успокоились.
Телевидение – специфический вид искусства: то, что знали, умели и могли мы, молодежи еще только предстояло освоить. Некоторые из «вновь прибывших» и вовсе вскоре поняли, что телевидение не для них, или они – не для телевидения. Потом я встречал их фамилии под материалами челябинских газет, во входящих тогда в информационный обиход пресс-релизах. Одна из известных челябинских журналисток, чьи материалы уже много лет с удовольствием читают южноуральцы, до сих пор при встречах выражает мне признательность за свое нетелевизионное счастье. А тогда она не то что ушла – убежала со студии, когда мои разносы на редакционных летучках превысили критическую массу ее терпения.
Из тех, кто пришел – и остался, не могу не назвать Ирину Коломейскую, с которой я проработал более десяти лет. И лишь потом осознал, что за ее интеллигентностью и мягкостью кроется «железная леди», умудрявшаяся доводить до конца все задуманное.
Мне везло на хороших людей, коллег. В одной команде со мной были спокойная в любых ситуациях ассистент режиссера Наталья Гордиенко, понимавшая все режиссерские замыслы художник Люся Лисицкая, часто не согласная со мной, но скрупулезная в деле Наталья Булатова, ассистент ПТС Людмила Комякова, чей женский шарм, обаяние помогали в решении многих организационных вопросов.
Одной из наших совместных работ стала программа «Нет проблем», задуманная в начале девяностых, когда студия уже заматерела, распрощавшись с энтузиазмом и молодым задором. «Монстр» центрального телевидения поглощал все творческие задумки. Тем не менее мы решили сделать нечто свое, оригинальное. За это я и люблю провинцию, что та же, казалось бы, форма, то же содержание здесь могут существовать в иной реализации. Ведь даже остро говорить о каких-то вещах можно без цинизма, но с иронией, шуткой. Да и людей, склонных к самоиронии, на периферии куда больше, чем в столице. В общем, мы хотели сделать программу с добрым, мягким юмором и со своим лицом. Впрочем, правильнее будет говорить не об одном лице, а о множестве ликов. В кадре у нас присутствовали и дельтапланеристы, и укротители тигров, и одаренные дети…
Для музыкального оформления привлекались ведущие челябинские коллективы: ансамбли «Ариэль», «Уральский диксиленд». Музыканты с удовольствием откликались на наши предложения. Да и разве могли отказаться те, кого я знал еще мальчишками, кому помогал делать первые телевизионные шаги за горизонт будущей популярности?! Блистательного трубача, ныне народного артиста России Игоря Бурко я впервые снимал в составе оркестра ЧТЗ еще в 1959 году, когда музыканту было всего пятнадцать… Сейчас Игорь «забронзовел». Не верите? Сходите на Кировку – там, напротив здания Законодательного собрания области, красуется барельеф трубача. Возможно, это единственный случай, когда российского джазового музыканта увековечили при жизни.
С особой теплотой я вспоминаю свой любимый коллектив – Государственный русский народный оркестр «Малахит». Работа с ними на телевидении была одним удовольствием. Показывая женщин, я чувствовал себя, словно на фотосессии. А мужчины – даже балалаечники! – сплошь казались «мачо». Особая интонация отношений в коллективе была и остается заслугой Ольги и Виктора Лебедевых. Ольга Ивановна – «мать Тереза» оркестра! А Виктор Григорьевич – камертон! И я одно время имел честь быть солистом этого оркестра. Несмолкаемые аплодисменты, которыми я был награжден после выступления в программе, посвященной народной артистке СССР Клавдии Шульженко, звучат во мне до сих пор. Жаль, что я исчерпал свой репертуар…
Был у нас на программе и прекрасный ведущий – Владимир Пенежин, удивительный человек, блестяще знавший английский язык, причем не только в литературном варианте. Несмотря на официальный статус владельца первой в городе частной фирмы, занимавшейся переводами, у нас он работал безгонорарно.
Кроме собственного бизнеса, Владимир обладал низким тембральным голосом, разительно отличавшимся от скрипящего полутенора, заполонившего все видеосалоны того времени. Пенежину, вообще, было очень уютно в эфире. Вторым ведущим был Олег Плотников, обладавший огромным количеством музыкальных записей. Пользуясь грянувшей бесцензурностью, «Нет проблем» помогали массовому зрителю получить ту информацию, которой он был лишен прежде. Выходя за рамки «местной тематики», мы делали передачи о Фрэнке Синатре, об Элвисе Пресли, Лайзе Минелли, Барбре Стрейзанд. Эксплуатируя лингвистические способности Пенежина, мы выдавали в эфир старые американские фильмы, которые не были дублированы на русский. Иногда без всякой репетиции Владимир приходил в студию, надевал наушники и сходу, практически безошибочно, делал закадровый перевод… А когда Владимира до обидного рано не стало, его вдова выпустила сборник пенежинских стихов «Комета падала мне в сон», и мы поняли, что далеко не всё знали об этом талантливейшем человеке…
Конечно, «Нет проблем» не могла обходиться без внутренних проблем. Но как вся творческая группа радовалась, когда удавалось придумать новую тему для программы, найти необычные съемочные места, показать интересных людей, хороших артистов!
К сожалению, передача не попала в число телевизионных долгожителей. И не потому, что разонравилась публике. Просто настали другие времена. Изменился формат местного вещания – оно стало более информационным, а потом – только информационным. Но зато новости на местном канале стали младшим братом новостей на центральном, и наша подача уже не уступала московской.
Канул в лету, безвозвратно ушел стиль телевизионного провинциализма. И, наверное, уже никогда не возродится тот дух, та изобретательность, та выдумка, с которыми мы делали свои передачи. Нет, они не были хуже московских. Просто были сделаны иначе. Поскольку у нас «рука, лежащая на пульте», была связана не с плечом – с сердцем.
Любимый автограф