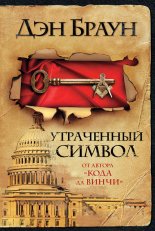Триумфальная арка Ремарк Эрих Мария
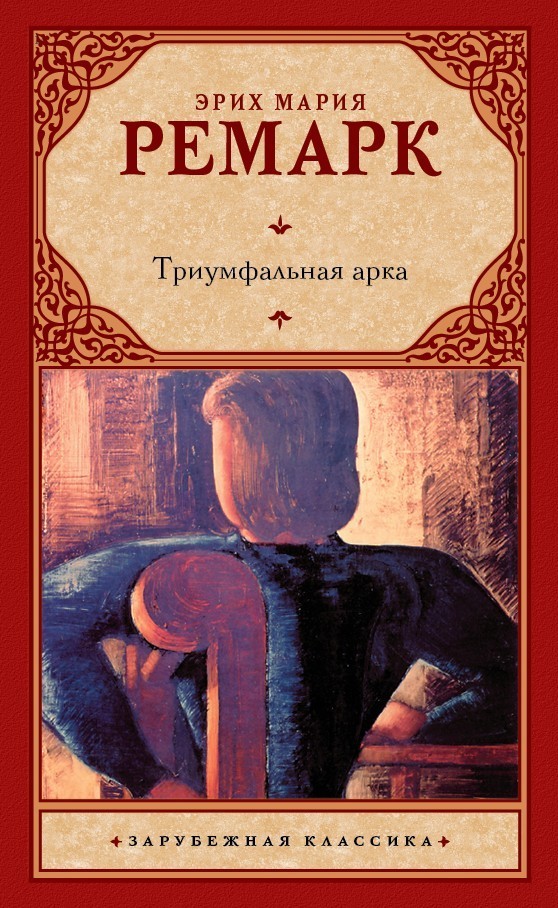
– Я тоже.
– Вы же знаете, вы всегда могли полагаться на мою щедрость. Не понимаю, откуда вдруг такая меркантильность. Мне даже как-то неловко в такую минуту, когда пациент знает, что его жизнь в наших руках, говорить о деньгах.
– А мне нет.
Дюран смерил его взглядом. Его морщинистое лицо с аристократической испанской бородкой излучало благородное негодование. Он поправил свои золотые очки.
– И на какую же сумму вы рассчитывали? – пересилив себя, спросил он.
– Две тысячи франков.
– Что? – Дюран дернулся, как подстреленный, который еще не осознает, что в него попали. – Не смешите, – бросил он затем.
– Прекрасно, – не смутился Равич. – Вы легко найдете кого-нибудь еще. Вызовите Бино, он отличный хирург.
Он потянулся за пальто. Дюран не сводил с него оцепенелого взгляда. Сложная гамма переживаний отразилась на его благообразном лице.
– Погодите, – выдавил он, когда Равич уже взял шляпу. – Не можете же вы просто так меня бросить! Почему вы вчера мне ничего не сказали?
– Вчера вы были за городом, и с вами нельзя было связаться.
– Две тысячи франков! Вы хоть знаете, что я даже запросить не могу такую сумму? Пациент мой друг, я возьму с него только возмещение расходов.
В свои семьдесят лет Андре Дюран внешностью напоминал доброго боженьку из детских книжек. Диагност он был неплохой, но хирург никудышный. Блестящая слава его клиники зиждилась главным образом на прекрасной работе его бывшего ассистента Бино, которому, однако, два года назад удалось наконец-то обзавестись собственной практикой, обретя долгожданную независимость. С тех пор на всех сложных операциях Дюран использовал Равича. Тот умел работать на минимальных разрезах, да и послеоперационные рубцы оставлял почти незаметные. Зато Дюран был знатоком бордоских вин, желанным гостем в высшем свете, где и вербовал большинство своих пациентов.
– Знал бы я раньше, – буркнул он.
На самом деле он всегда это знал. И именно поэтому за день-два до операции всегда уезжал в свой загородный дом. Избегая таким образом предварительного разговора о гонораре. После операции все было куда проще, ведь всегда можно пообещать что-то на следующий раз, чтобы потом повторить обещание снова. Однако на сей раз Равич застиг Дюрана врасплох, явившись за полчаса до назначенного времени, еще до начала анестезии. И тот не мог оборвать разговор под предлогом срочности неотложных действий.
Приоткрыв дверь, в кабинет заглянула медсестра.
– Можно приступать к наркозу, господин профессор?
Дюран посмотрел на нее, потом на Равича, безмолвно воззвав к его человечности.
Равич ответил ему вполне человечным, но непреклонным взглядом.
– Что вы скажете, господин доктор Равич? – спросил Дюран.
– Решать вам, профессор.
– Минутку, сестра. Мы еще не все этапы обсудили.
Сестра покорно испарилась. Дюран воззрился на Равича.
– Ну и что? – спросил он с укором.
Равич сунул руки в карманы.
– Отложите операцию на завтра. Или на час. Вызовите Бино.
Бино чуть не двадцать лет вкалывал на Дюрана, делая за него все операции, причем без малейшего для себя проку: Дюран методично пресекал ему все пути к самостоятельности, всем и каждому объясняя, какой он замечательный ассистент. Равич знал: Бино Дюрана ненавидит и запросит не меньше пяти тысяч. Дюран тоже это знал.
– Доктор Равич, – начал он снова, – не стоит ронять престиж нашей профессии подобным торгашеством.
– Я тоже так считаю.
– Почему бы вам не довериться моей деликатности, моему чувству справедливости, наконец? Ведь прежде-то вы всегда были довольны.
– Никогда.
– Но вы ни на что не жаловались.
– Смысла не было. Да и интереса особого тоже. А на сей раз интерес имеется. Деньги нужны.
Снова появилась медсестра.
– Пациент нервничает, господин профессор.
Дюран вперился взглядом в Равича. Равич невозмутимо ответил ему тем же. Он знал: выбить деньги из француза – задача почти непосильная. Даже из еврея проще. У еврея на уме хотя бы расчеты и деловой интерес, а француз, кроме денег, которые вот сейчас, сей же час, придется отдать, вообще ничего не видит.
– Минутку, сестра, – отозвался Дюран. – Измерьте температуру и давление.
– Уже измерила.
– Тогда приступайте к наркозу.
Сестра удалилась.
– Хорошо, – вздохнул Дюран, приняв наконец решение. – Дам я вам эту тысячу.
– Две тысячи, – уточнил Равич.
Но Дюран и не думал сдаваться. Он пригладил свою холеную бородку.
– Послушайте, Равич, – заговорил он с особой теплотой в голосе. – Как беженец, не имеющий права работать практикующим…
– Я не имею права оперировать и у вас, – спокойно перебил его Равич. Теперь оставалось дождаться традиционной тирады о том, как он должен быть благодарен за то, что его еще не погнали из страны.
Но этим доводом Дюран решил пренебречь. Видимо, понял, что не поможет, а время поджимало.
– Две тысячи, – вымолвил он с такой горечью, словно каждое слово – тысячная купюра, вылетевшая изо рта. – Из собственного кармана придется выложить. А я-то думал, вы не забудете всего, что я для вас сделал.
Он все еще выжидал. «Удивительно, – подумал Равич, – до чего эти кровопийцы обожают мораль разводить. Вместо того чтобы устыдиться, этот старый прохвост с розеткой ордена Почетного легиона в петлице еще имеет наглость попрекать меня в том, что я его использую. И даже свято верить в это».
– Значит, две тысячи, – подытожил он. – Две тысячи, – повторил он. Это прозвучало как «Прощай, родина, прощай, Господь Бог, и зеленая спаржа, и нежные рябчики, и запыленные бутылки доброго старого «Сан-Эмийон»!» – Ну что, можем приступать?
При довольно хилых ручках и ножках брюшко у пациента оказалось очень даже солидное. На сей раз Равич в порядке исключения случайно знал, кого оперирует. Это был важный чиновник по фамилии Леваль, в ведении которого находились дела эмигрантов. Это Вебер ему рассказал, для пикантности. Среди беженцев в «Интернасьонале» не было никого, кто не слыхал бы эту фамилию. Равич уверенно и быстро сделал первый разрез. Кожаный покров распахнулся, как учебник. Он закрепил края зажимами и глянул на выползающие подушки желтоватого сала.
– В качестве бесплатного одолжения придется облегчить его на парочку килограммов, – сказал он Дюрану. – Ничего, потом снова наест.
Дюран не ответил. Равич удалял жировые отложения, торопясь добраться до мышечной ткани. Вот он лежит, царь и бог всех беженцев, думал он. Человек, в чьих руках сотни эмигрантских судеб, в этих слабых ручонках, что безжизненно покоятся сейчас на операционном столе. Человек, выдворивший профессора Майера; старика Майера, у которого уже не было сил на новый крестный путь эмигрантских скитаний и который накануне высылки попросту взял да и повесился у себя в номере. В платяном шкафу, потому что подходящего крюка нигде больше не нашлось. И у него это даже получилось: он настолько отощал от голода, что крючок для одежды запросто его выдержал. Мешок тряпья, костей и удавленной плоти – вот и все, что наутро нашла в платяном шкафу горничная. А наскреби этот вот пузан в своей душонке хоть каплю милосердия, Майер был бы еще жив.
– Зажим! – скомандовал он. – Тампоны!
Он продолжил работу. Точность безошибочного лезвия. Ощущение правильности разреза. Раззявленное чрево. Белые черви скрученных кишок. У этого, который сейчас тут разлегся, даже моральные принципы имелись. По-человечески он даже посочувствовал старику Майеру, однако он, видите ли, осознавал и то, что позволил себе назвать своим долгом перед нацией. Вечно они выставляют перед тобой своего рода ширму – начальника, над которым висит другой начальник, предписания, директивы, приказы, распоряжения, служебный долг, а пуще всех самое страшное чудовище – многоголовая гидра морали. Суровая необходимость, неумолимая логика жизни, ответственность, – да мало ли еще найдется ширм, чтобы отгородиться от проявлений элементарной человечности.
А вот и наш желчный пузырь, гнойный, совсем никудышный. Это сотни порций турнедо с гренками и паштетом, фаршированных желудков, обжаренных в кальвадосе, утки в красном вине и жирных соусов вкупе с сотнями литров доброго старого бордо и скверным настроением так его доконали. Старик Майер от подобных неприятностей был избавлен. Оплошай он, Равич, сейчас хоть немного, сделай разрез чуть шире, чуть глубже – и через недельку в затхлом кабинете, где все провоняло молью и старыми скоросшивателями, а под дверями дрожащие эмигранты ожидают решений, от которых зависит их жизнь или смерть, воцарится другой, возможно, более душевный начальник. Хорошо, если он будет лучше прежнего. А если хуже? Вот этот, в беспамятстве распластанный сейчас на столе под ярким светом ламп шестидесятилетний экземпляр человеческой породы, несомненно, считает себя очень даже гуманным. Он, наверно, заботливый отец, любящий супруг – но стоит ему переступить порог своего кабинета, и он превращается в неумолимого деспота, закованного в броню непререкаемых отказов, начинающихся словами «Не можем же мы…» или «Куда бы это нас завело…» – и так далее, и тому подобное. Ничего бы с их драгоценной Францией не сделалось, позволь он несчастному Майеру и дальше раз в день съедать свой скудный обед, а вдове Розенталь и дальше ютиться в «Интернасьонале» в убогой каморке для прислуги, дожидаясь своего сыночка, давно уже насмерть забитого в гестапо; не убыло бы от их Франции, если бы бельевщик Штальман не отсидел полгода в тюрьме за незаконный переход границы, чтобы вскоре после освобождения умереть, в страхе дожидаясь высылки из страны.
Отлично. Разрез нормальный. Не слишком широкий и по глубине в самый раз. Кетгут. Узел. (Перетяжка? Лигатура?) Желчный пузырь. Он показал Дюрану. В ярком белом свете пузырь лоснился от жира. Выбросил в ведро. Дальше. И почему это они во Франции зашивают ревердином? Зажим прочь! Теплое чрево чиновника средней руки с жалованьем от тридцати до сорока тысяч в год. Откуда, кстати, у него тогда десять тысяч на операцию? Чем и на чем, интересно знать, он еще зарабатывает? А ведь когда-то этот пузан тоже, наверно, в камушки играл. Так, шов хороший. Стежок за стежком. А у Дюрана на физиономии все еще две тысячи франков, даже когда пол-лица и бородка маской закрыты. В глазах стоят. Ровно по тысяче на каждый глаз. «Все-таки любовь портит характер. Если бы не любовь, разве стал бы я без ножа резать старикашку Дюрана, подрывая его несокрушимую веру в божественные устои эксплуататорского мироздания?» Завтра он с елейной улыбочкой уже будет сидеть возле койки пузана и милостиво выслушивать благодарности за свою блестящую работу. Стоп, тут еще один зажим! Пузан – это неделя в Антибе. «Неделя солнца для нас с Жоан под пеплом и дымом готового к извержению лихолетья. Просвет небесной синевы перед грозой». Так, теперь брюшная стенка. С особой тщательностью, за две-то тысячи. Оставить, что ли, ему там ножницы на память о Майере? Шипящий белый свет ламп. Отчего это мысли так скачут? Наверно, от газет и от радио. Одни болтуны да трусы. Лавина слов, где уж тут сосредоточиться. Запутавшиеся умы. Растерянные. Распахнутые для любой демагогической дряни. Отвыкшие грызть черствый хлеб познания. Беззубые умы. Чушь какая. Так, это тоже в порядке. Теперь только этот кожаный мешок. Через пару недель снова будет выдворять трясущихся эмигрантов. Может, теперь, без желчного пузыря, он малость подобреет? Если не помрет. Хотя такие помирают не раньше восьмидесяти, в почете, гордясь собой, окруженные благоговением внуков. Готово! Все, с глаз долой!
Равич стянул с рук перчатки и маску с лица. Важного чиновника на бесшумных колесиках уже выкатывали из операционной. Равич посмотрел ему вслед. «Знал бы ты, Леваль, – подумал он, – что твой высокопоставленный желчный пузырь обеспечит мне, распоследнему нелегальному беженцу, неделю абсолютно нелегального отдыха на Ривьере…»
В предоперационной он начал мыться. Рядом с ним медленно и методично мыл руки Дюран. Руки старика гипертоника. Тщательно намыливая каждый палец, он в такт движениям медленно двигал нижней челюстью, словно перемалывая зерно. Переставая намыливать, прекращал и жевать. Возобновлял мытье – челюсть снова принималась за работу. В этот раз он мылся особенно медленно и долго. Должно быть, хочет еще на пару минут оттянуть расставание с двумя тысячами, подумалось Равичу.
– Чего вы, собственно, ждете? – немного погодя спросил Дюран.
– Вашего чека.
– Деньги я вам вышлю, когда пациент со мной расплатится. Это еще несколько недель, пока он из клиники не выпишется. – Дюран уже вытирался полотенцем. Потом плеснул на ладонь немного одеколона и протер руки. – Надеюсь, уж настолько-то вы мне доверяете, или?.. – спросил он.
«Вот мерзавец, – подумал Равич. – Хочет, чтобы я за свои деньги еще и поунижался».
– Вы же говорили, пациент ваш друг и вы возьмете с него лишь возмещение расходов.
– Ну да, – уклончиво ответил Дюран.
– Но расходы-то невелики, сколько-то на материалы, что-то на сестру. Клиника ваша собственная. За все про все франков сто набежит… Можете их удержать, потом отдадите.
– Расходы, доктор Равич, – горделиво выпрямляясь, заявил Дюран, – к сожалению, оказались гораздо выше, чем я предполагал. Две тысячи вашего гонорара, несомненно, тоже в них войдут. И мне, следовательно, придется поставить их в счет моему пациенту. – Он понюхал свои надушенные руки. – Так что сами видите…
Он улыбнулся. Желтоватые зубы неприятно контрастировали с белоснежной бородкой. «Моча на снегу, – мелькнуло у Равича. – Заплатит как миленький, куда он денется. А деньги эти я пока что просто у Вебера займу. Унижаться перед этим старым козлом – ну нет, не дождется».
– Прекрасно, – бросил он. – Если для вас это так затруднительно, вышлите мне деньги после.
– Для меня это нисколько не затруднительно. Хотя требования ваши, не скрою, оказались полнейшей неожиданностью. Это просто порядка ради.
– Хорошо, сделаем все порядка ради. Раньше, позже, не все ли равно.
– Это отнюдь не все равно.
– Главное, я все равно их получу, – сказал Равич. – А теперь извините, я должен выпить. Всего хорошего.
– Всего хорошего, – растерянно протянул Дюран.
Кэте Хэгстрем улыбалась:
– Почему бы вам не поехать со мной, Равич? – На своих длинных, стройных ногах она стояла перед ним, изящная, уверенная, руки в карманах пальто. – Во Фьезоле в эту пору, наверно, уже вовсю цветут форситии. Настоящее желтое пламя по всей садовой ограде. Камин. Книги. Покой.
На улице прогромыхал по мостовой грузовик. Фотографии в рамках на стенах маленькой приемной боязливо задребезжали стеклами. Это были виды Шартрского собора.
– Ночью тишь. Вдали от всего, – продолжала Кэте. – Неужели вам бы не понравилось?
– Еще как. Только вряд ли бы я долго это выдержал.
– Почему?
– Покой хорош, только когда он и на душе тоже.
– Но я вовсе не покойна.
– Вы знаете, чего хотите. Это почти то же самое, что покой.
– А вы разве не знаете?
– Я ничего не хочу.
Кэте Хэгстрем неторопливо застегивала пальто.
– Что так, Равич? С горя? Или от счастья?
Он нервно усмехнулся:
– Скорей всего и то и другое. Как обычно. Не стоит слишком над этим раздумывать.
– А что тогда стоит делать?
– Радоваться жизни.
Она подняла на него глаза.
– Для этого никто другой не нужен.
– Для этого всегда нужен кто-то другой.
Он умолк. «Что я тут несу? – думал он. – Предотъездная неловкость, напутственная болтовня, пасторские наставления».
– Я не о маленьком счастье, о котором вы говорили когда-то, – продолжил он. – Оно-то расцветает где угодно, как фиалки вокруг пепелища. Я о другом: кто ничего не ждет, тот не обманется. При таком взгляде на жизнь у вас полно новостей и не бывает разочарований.
– Это все пустое, – возразила Кэте. – Годится, только когда ты совсем немощный, пластом лежишь и даже думать боишься. А когда ты уже встал и ходить начал – все. Забываешь напрочь. Тебе этого уже мало.
Косой луч свет из окна перерезал ее лицо надвое: глаза оставались в тени, и только губы пылали, как чужие.
– У вас есть свой врач во Флоренции? – спросил Равич.
– Нет. А что, нужен?
– Да мало ли какая болячка может вылезти. Всякое бывает. Мне спокойнее было бы знать, что у вас там есть врач.
– Но я вполне хорошо себя чувствую. А если что – я же всегда могу вернуться.
– Конечно. Это только так, на всякий случай. Я знаю хорошего врача во Флоренции. Профессор Фиола. Запомните? Фиола.
– Наверняка забуду. Мне ведь это не нужно, Равич.
– Я вам запишу. Он за вами присмотрит.
– Но зачем? У меня все хорошо.
– Обычная перестраховка всех медиков, Кэте. Больше ничего. Я ему напишу, и он вам позвонит.
– Ради Бога. – Она взяла сумочку. – Прощайте, Равич. Ухожу. Может, из Флоренции я сразу поеду в Канны, а оттуда на «Конте де Савойя» прямиком в Нью-Йорк. Будете в Америке, разыщете вместо меня домохозяйку где-нибудь на ферме, при муже, детях, лошадях и собаках. А ту Кэте, которую вы знали, я оставляю здесь. У нее даже маленькая могилка имеется – в «Шехерезаде». Не забывайте хоть изредка помянуть, когда там будете.
– Хорошо. Водкой, конечно.
– Ну да. Только водкой. – В полумраке приемной она все еще стояла в нерешительности. Полоска света переползла теперь с ее лица на одну из шартрских фотографий. Резной алтарь с распятием.
– Странно, – сказала она. – Мне бы радоваться. А я не рада.
– Так всегда при прощании, Кэте. Даже если расстаешься со своим отчаянием.
Она стояла перед ним, все еще медля, какая-то по-особому трепетная и нежная, исполненная решимости и печали.
– Самое верное при расставании – просто взять и уйти, – рассудил Равич. – Пойдемте, я вас провожу.
– Да.
За порогом теплый уличный воздух обдал их сыростью. Закатное небо раскаленным железом пылало между домами.
– Сейчас я подгоню вам такси, Кэте.
– Не надо. Хочу пройтись до угла. Там и подхвачу. Ведь это чуть ли не первый мой выход на улицу.
– И каково это?
– Пьянит, как вино.
– Может, мне все-таки сходить за такси?
– Нет-нет. Хочу пройтись.
Она смотрела на мокрую мостовую. Потом рассмеялась.
– А где-то в глубине души все еще сидит страх. Это тоже нормально?
– Да, Кэте. Это нормально.
– Прощайте, Равич.
– Прощайте, Кэте.
На секунду она опять замешкалась, словно хотела еще что-то сказать. Потом осторожным шагом сошла вниз по ступенькам, тоненькая, все еще гибкая, и двинулась по улице – навстречу фиалковому вечеру и своей кончине. Больше не оглянулась.
Равич шел назад. Проходя мимо палаты, где лежала Кэте Хэгстрем, из-за двери услышал музыку. От удивления он даже остановился. Новый пациент еще не мог туда въехать.
Осторожно приоткрыв дверь, он увидел медсестру: та стояла на коленях перед радиолой. Девушка вздрогнула и испуганно вскочила. Радиола проигрывала старую пластинку – «Le dernier valse»[20].
Девушка смущенно одернула халатик.
– Это госпожа Хэгстрем мне подарила, – сообщила она. – Американский аппарат. Здесь такой не купишь. Во всем Париже не найдешь. Один-единственный на весь город. Вот, проверить хотела. Он пять пластинок подряд играет. Автоматически. – Она сияла от радости. – Такой тысячи три стоит, не меньше. И пластинок в придачу еще вон сколько. Пятьдесят шесть штук. В нем еще и радиоприемник. Вот счастье-то!
Счастье, подумал Равич. Опять счастье. На сей раз это радиола. Он постоял, послушал. Скрипка порхала над оркестром голубкой, сентиментально и жалостливо. Одна из тех душещипательных мелодий, которые иной раз берут за сердце похлеще всех шопеновских ноктюрнов. Равич обвел глазами палату. Кровать голая, матрас поставлен на попа. Собранное белье грудой валяется у двери. Окна настежь. В них с усмешкой заглядывает вечер. Улетучивающийся аромат духов и стихающие аккорды салонного вальса – вот и все, что осталось от Кэте Хэгстрем.
– Мне все сразу не забрать, – посетовала медсестра. – Слишком тяжело. Отнесу сперва аппарат, а уж потом, и то в две ходки, пластинки. Если не в три. Вот здорово-то. Хоть кафе открывай.
– Отличная идея, – заметил Равич. – Смотрите, не разбейте ничего.
15
Равич мучительно выбирался из сна. Какое-то время он еще лежал в странном небытии между сном и явью – сон, уже блеклый, обрывками, все еще был с ним, – и в то же время он осознавал, что уже снова спит. Он был в Шварцвальде, неподалеку от немецкой границы, на каком-то полустанке. Поблизости шумел водопад. С гор веяло густым хвойным настоем. Было лето, знойный воздух напоен смолой и травами. Ленточки рельсов багряно поблескивали в закатном солнце – словно сочащийся кровью товарняк проехал по ним. «Зачем я здесь? – думал Равич. – Что мне понадобилось в Германии? Я же во Франции. В Париже». Но мягкая, убаюкивающая волна уже опять уносила его в сон. Париж… Париж уже таял, тонул, растекался в туманной дымке. Нет, он не в Париже. Он в Германии. Каким ветром его снова сюда занесло?
Он расхаживал по платформе. Возле газетного киоска стоял дежурный по станции. Это был мордастый мужчина средних лет с выгоревшими соломенными бровями. Он читал «Фёлькишер Беобахтер»[21].
– Когда следующий поезд? – спросил его Равич.
Дежурный нехотя оторвался от газеты.
– А куда вам надо?
В тот же миг Равича окатило удушливой волной страха. Где он вообще? В каком месте? Как хоть станция называется? Сказать, что ему во Фрейбург? Черт, да как же это он не знает, где оказался? А сам тем временем украдкой посматривал на перрон. Нигде никакой таблички. Ни указателя, ни названия. Он улыбнулся.
– Да я в отпуске, – сказал он.
– Куда вам надо-то? – повторил свой вопрос железнодорожник.
– Да я просто так, катаюсь. Вышел вот тут, наобум. Из окошка вроде понравилось. А теперь уже вроде как нет. Водопады терпеть не могу. Хочу вот дальше ехать.
– Хотите вы куда? Должны же вы знать, куда вам надо?
– Послезавтра мне надо во Фрейбурге быть. До тех пор время пока есть. Вот разъезжаю просто так, для собственного удовольствия.
– Фрейбург не на этом направлении, – глядя прямо на него, сухо изрек дежурный.
«Что я такое творю? – лихорадочно думал Равич. – Зачем вообще полез с расспросами? Нет бы помалкивать. Как хоть я сюда попал?»
– Я знаю, – откликнулся он. – Но времени-то еще полно. Где тут можно вишневки выпить? Настоящей, шварцвальдской?
– Да вон, в буфете, – ответил дежурный, все еще не спуская с него глаз.
Равич неторопливо двинулся по платформе. Каждый его шаг по бетону гулким эхом разносился под станционным навесом. В зале ожидания первого и второго классов сидели двое мужчин. Он спиной ощутил на себе их взгляды. Две ласточки пронеслись вдоль перрона под навесом. Он сделал вид, что следит за их полетом, а сам краем глаза глянул на дежурного. Тот сложил газету. И направился вслед за Равичем. Равич заглянул в буфет. Здесь воняло пивом. Вообще никого. Он вышел из буфета. Дежурный все еще торчал на перроне. Увидев, что Равич в буфете не задержался, он пошел в зал ожидания. Равич ускорил шаг. Он вдруг понял: его уже заподозрили, «засекли». Дойдя до угла станционного здания, он оглянулся. На перроне никого. Он стремительно двинулся вдоль багажного отсека, миновал пустующее окошко багажной кассы. Пригнувшись, проскочил вдоль багажной стойки, на которой громоздилось несколько молочных бидонов, а потом и мимо окошечка, за которым выстукивал телеграф, и оказался на другом конце платформы. Быстро осмотревшись, пересек железнодорожные пути и цветущим лугом побежал к лесу. На бегу он сшибал серые шары одуванчиков, оставляя за собой марево их разлетающегося пуха. Добежав до ельника, оглянулся: дежурный и двое из зала ожидания уже стояли на перроне. Дежурный заметил его, показал, и те двое не раздумывая побежали в его сторону. Равич отскочил в тень и кинулся в глубь леса напролом. Колючие еловые ветки хлестали по лицу. Он резко метнулся в сторону и, пробежав метров сто, остановился, чтобы не выдать себя. Услышав, как ломятся через ельник преследователи, побежал дальше. Но все время прислушивался. Когда треск стихал – он тоже мгновенно останавливался, выжидая. Треск возобновлялся – и он полз дальше, теперь уже по-пластунски, лишь бы не шуметь. Когда прислушивался, сжимал кулаки и задерживал дыхание. Страшно, до боли в мышцах, хотелось вскочить и помчаться опрометью – но этим он бы только выдал свое местонахождение. Двигаться можно, только когда те двое бегут и его не слышат. Он лежал в глухой чащобе среди сине-голубых цветочков печеночницы благородной. Hepatica triloba, вспомнил он. Печеночница благородная. Hepatica triloba. Печеночница благородная. Лесу, казалось, не будет конца. Треск теперь слышался со всех сторон. Его прошиб пот, с него текло, как из губки. И почему-то вдруг слабость в коленях, ноги не держат. Он попытался встать, но ноги не слушались. Как будто под ними трясина. Он огляделся. Да нет, вроде нормальная твердая почва. Дело в ногах. Они как ватные. А преследователи все ближе. И идут, он слышит, прямо на него. Он рванулся, но колени опять предательски подкосились. Выдергивая ноги из этого болота, он чапал вперед, через силу, из последних сил, а треск за спиной все слышнее, все ближе, и вдруг сквозь сучья голубизной проглянуло небо, там опушка, если быстро не проскочить, он знал, ему хана, он дернулся, подавшись вперед всем телом, а когда оглянулся – увидел мерзкую рожу Хааке, его наглую ухмылку, и нет спасения, его затягивает, засасывает все глубже, уже по грудь, уже по горло, уже нет воздуха, сколько ни барахтайся, сколько ни рви на себе рубаху, он стонет…
Это он стонал? Где он? Он понял, что руками держится за горло. Руки все мокрые. И шея тоже. И лицо. Он раскрыл глаза. Все еще не вполне понимая, где находится – в том лесном болоте или еще где-то. Парижа и в мыслях не было. Неведомо где белая луна застряла в черном кресте. Бледный свет безжизненно повис на этом кресте, словно распятый нимб. Блеклое, мертвенное сияние беззвучно вопило с бледного, чугунно-серого неба. Полная луна за перекрестьем оконной рамы гостиничного номера отеля «Интернасьональ» в Париже. Равич приподнялся. Что это было? Товарняк, истекающий кровью, уезжает по окровавленным рельсам навстречу летнему закату – сотни раз виденный-перевиденный сон, он снова в Германии, его обложили, преследуют, вот-вот возьмут гестаповцы, эти заплечных дел мастера на службе у кровавого режима, узаконившего убийство, – в который же раз ему все это снится! Он смотрел на луну, что своим отраженным светом высасывает из мира цвета и краски. О, эти сны, полные лагерного ужаса, чехарда неживых, окоченевших лиц убитых товарищей и бесслезная, окаменевшая боль в лицах тех, кто выжил, боль расставаний и одиночества, боль, что уже по ту сторону стенаний и жалоб, – днем еще как-то удается от нее отгородиться, обнести себя защитным валом выше уровня глаз, – он долго, годами этот вал в себе возводил, удавливая желания и порывы цинизмом, захоронив воспоминания под коростой бессердечия, вырвав из души и памяти все, что только можно, вплоть до имени, зацементировав все чувства, а если вдруг, несмотря ни на что, бледный лик прошлого по недосмотру сладостно-призрачным видением и стоном прорывался в сознание, его можно заглушить алкоголем. Но это днем, зато ночью ты все еще бессилен – тормоза выдержки отпускают, и тележка катится вниз все быстрее, чтобы вынырнуть уже где-то за горизонтом сознания, и тогда прошлое восстает из могил, тает ледяная судорога памяти, поднимаются тени, дымится кровь, мокнут раны, и черная буря сметает все бастионы и баррикады забвения напрочь. Запамятовать легко, покуда мир вокруг тебя высвечен фонарем твоей воли; но стоит фонарю погаснуть, стоит тебе услышать шорох могильных червей, когда разрушенный мир былого, словно затонувшая Винета, восстает из вод и оживает снова, – это совсем другое дело. Этим тяжелым, свинцовым дурманом можно напиться до одури – стоит только пригубить. Из вечера в вечер, глуша в себе все живое, ты торопишься превратить ночи в дни, а дни в ночи, ибо днем сны все-таки полегче и ты не столь заброшен в этой пустыне беспросветного мрака. Да разве он не пытался? Сколько раз возвращался он в гостиницу вместе с ползущим по улицам слабым, еще робким рассветом. Или дожидался в «катакомбе», в компании с любым, кто готов был с ним выпить, когда вернется из своей «Шехерезады» Морозов, чтобы пить уже с ним, в этом склепе без окон, под искусственной пальмой, где только по часам на стене и можно было понять, воцарился ли свет на улице. Все равно что напиваться в подводной лодке. Со стороны-то, конечно, легко укоризненно покачивать головой и взывать к благоразумию. Только ему, будь оно все проклято, совсем не сладко приходилось! Разумеется, жизнь – она и есть жизнь, она и всего дороже, она же и не стоит ничего, можно и отбросить – это тоже просто. Но это значит – вместе с ней отбросить и месть, а еще все то, что изо дня в день, из часа в час подвергается поруганию, измывательствам, осмеиванию, но что вопреки всему по-прежнему можно считать чем-то вроде веры в человечность и человечество. Даже впустую прожитую жизнь зазорно отбрасывать, как стреляную гильзу. Глядишь, она еще понадобится, еще пригодится в борьбе, в свой час, когда этот час наступит. И не по каким-то личным мотивам, и даже не ради мести, сколь бы глубоко ни внедрилась ее жажда в твою кровь, не из эгоизма, но и не из всеобщего человеколюбия, сколь бы ни важно было пособить и хоть на один оборот колеса подтолкнуть этот мир вперед, вытаскивая его из крови и грязи, – нет, в конечном счете надо сберечь ее хотя бы ради того, чтобы, дождавшись своего часа, выйти на борьбу и просто бороться, бороться до последнего вздоха. Только вот ожидание съедает силы, к тому же, быть может, ты ждешь безнадежно, а тут еще и страх, что когда дело до дела дойдет, ты будешь уже слишком слаб, слишком этим ожиданием измотан, слишком вял и безразличен в каждой клеточке своего духа и тела, чтобы встать в строй и пойти вместе со всеми. Не из-за этого ли ты столь яростно пытаешься втоптать в забвение весь этот морок, терзающий нервы, беспощадно и небезуспешно выжигаешь все это сарказмом и иронией, напускной черствостью и ернической сентиментальностью, а теперь вот и бегством в другого человека, в чужое «я». Покуда снова не накатит свирепая оторопь ночи, отдавая тебя на растерзание призракам и снам…
Дородная луна нехотя сползала с оконного перекрестья. И никакого тебе больше пригвожденного нимба – это просто жирный, наглый соглядатай, шарящий зенками по комнатам и постелям. Равич окончательно проснулся. Это еще довольно безобидный сон. Не чета другим. Хотя в последнее время ему давно ничего не снилось. Он попытался припомнить – пожалуй, почти все время с тех пор, как он спит не один.
Он пошарил возле кровати. Бутылки не было. С некоторых пор она стоит не у кровати, а на столе в углу комнаты. Он еще колебался. Особой нужды пить вроде не было. Потом все-таки встал, босиком прошел к столу. Отыскал стакан, откупорил бутылку, выпил. Это были остатки старого кальвадоса. Он поднес стакан ближе к окну. Лунный свет наполнил его опаловым блеском. Спиртное нельзя держать на свету, вспомнилось ему. Ни под солнцем, ни под луной. Раненые солдаты, в полнолуние пролежавшие ночь под открытым небом, ослабевали раньше других. Он тряхнул головой и выпил. И тут же налил себе снова. Но, обернувшись, увидел, что Жоан открыла глаза и на него смотрит. Он замер, не зная, спит она или проснулась.
– Равич, – сонно пробормотала она.
– Да…
Тут она вздрогнула, будто только теперь очнулась окончательно.
– Равич, – повторила она уже нормальным голосом. – Равич, ты что делаешь?
– Пью кое-что.
– Но почему… – Она приподнялась. – В чем дело? – растерянно спросила она. – Что стряслось?
– Ничего.
Она поправила волосы.
– Господи, как ты меня напугал!
– Прости, я не хотел. Думал, ты не услышишь.
– А я чувствую: тебя нет рядом. Холодно стало. Словно ветерок какой. Ветерок страха. Гляжу, а ты вон где стоишь. Случилось что-нибудь?
– Да нет. Ничего. Ровным счетом. Просто я проснулся, и захотелось выпить.
– Дай-ка и мне глоточек.
Равич плеснул ей кальвадоса и со стаканом подошел к кровати.
– Ты сейчас совсем как маленькая девочка, – сказал он.
Она взяла стакан обеими руками и принялась пить. Пила медленно, глядя на него поверх стакана.
– С чего это ты проснулся? – спросила она.
– Не знаю. Луна, наверно.
– Ненавижу луну.
– В Антибе она тебе понравится.
Она поставила стакан.
– Мы правда поедем?
– Да, поедем.
– Прочь от этого дождя и тумана?
– Да, прочь от этого проклятого дождя и тумана.
– Налей мне еще.
– Спать не хочешь?
– Не-а. Жалко спать. Во сне столько жизни пропускаешь. Налей мне еще. Это наш, тот самый? Мы его с собой возьмем?
– Не надо ничего брать с собой.
Она вскинула глаза.
– Никогда?
– Никогда.
Равич подошел к окну и задернул занавески. Они сошлись не до конца. Настырный лунный свет, проливаясь в проем, делил комнату на две сумеречные половины.
– Почему ты не ложишься?
Равич стоял возле софы по другую сторону лунной дорожки. Отсюда он лишь смутно различал Жоан. Ее волосы тяжелым золотистым потоком падали за спину. Она сидела в кровати голая. Между ними, как между двух темных берегов, сам по себе, в никуда, лился рассеянный свет. Пролетев бесконечный путь по черным безвоздушным просторам эфира, отразившись от холодной, мертвой звезды, претерпев магическое превращение из теплой солнечной неги в холодный свинцовый блеск, он втекал в укромное пространство комнаты, еще сохранившее в себе тепло сна, втекал струясь и оставаясь недвижным, вливаясь в комнату, но так и не заполняя ее до конца.
– Ну что же ты не идешь? – спросила Жоан.
Равич прошел к ней, сквозь тьму, потом свет, потом снова тьму, всего несколько шагов, но ему показалось – бесконечно далеко.
– Бутылку принес?
– Да.
– Стакан тебе дать? Который час?
Равич глянул на свои часы со светляками делений на циферблате.
– Почти пять.
– Пять. Могло быть и три. Или семь. Ночью время останавливается. Только часы идут.
– Да. Хотя происходит-то все как раз ночью. Или именно поэтому.
– Что?
– Все. То, что потом днем выходит на свет.