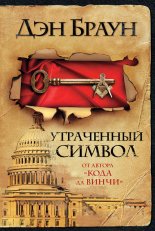Триумфальная арка Ремарк Эрих Мария
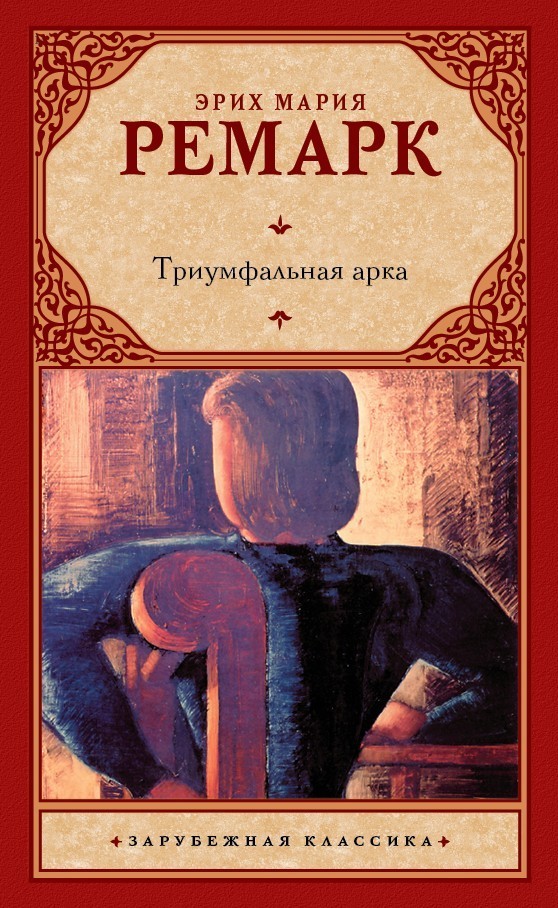
– К шефу.
Равич понятия не имел, к какому именно шефу. Впрочем, покуда это не директор немецкого концлагеря, ему более или менее все равно. По-настоящему страшно в нынешнем мире только одно: безоружным оказаться во власти неприкрытого террора. Остальное все пустяки.
В такси имелся радиоприемник. Равич включил. Сперва сообщили о ценах на овощи, только потом – политические новости. Полицейский зевнул. Равич покрутил ручку настройки. Музыка. Модная песенка. Лицо провожатого просветлело.
– Шарль Трене[25], – пояснил он. – «Менильмонтан»[26]. Шикарная вещичка!
Такси остановилось. Равич расплатился. Его отвели в приемную, которая, как все приемные на свете, провоняла скукой и страхом ожидания, потом и пылью.
Он просидел с полчаса, читая старый номер «Ля ви паризьен», оставленный кем-то из посетителей. После двух недель вовсе без книг газетенка показалась ему чуть ли не шедевром литературной классики. Потом наконец его препроводили к шефу.
Прошла, быть может, минута, прежде чем он этого толстенького коротышку узнал. Когда оперируешь, к лицам пациентов обычно вообще не присматриваешься. Они тебе безразличны, все равно что номера. Единственное, что интересует, – это оперируемый орган. Но на это лицо Равич тогда все же взглянул не без любопытства. И вот он восседает перед ним, жив-здоров, пузцо уже снова наел, без желчного пузыря, Леваль, собственной персоной. Равич только сейчас вспомнил, что Вебер обещал подключить Дюрана, и никак не ожидал, что его к самому Левалю доставят.
Леваль оглядел его с ног до головы. Он умело выдерживал паузу.
– Ваша фамилия, разумеется, не Войцек, – пробурчал он наконец.
– Нет.
– И какая же настоящая?
– Нойман. – Так они с Вебером условились. А Вебер должен был Дюрану сказать. Войцек – слишком экзотично.
– Вы немец, не так ли?
– Да.
– Беженец?
– Да.
– А так не скажешь. По внешнему виду.
– Не все беженцы евреи, – объяснил Равич.
– Почему дезинформировали? Настоящее имя почему скрывали?
Равич передернул плечами.
– А что поделаешь? Мы и так стараемся врать как можно меньше. Но приходится. И отнюдь не ради собственного удовольствия.
Леваль побагровел.
– Думаете, мы тут с вами ради собственного удовольствия возимся?
Сплошная серость, думал Равич. Грязноватая седина, под глазами грязновато-сизые мешки, рот старчески приоткрыт. Тогда-то он не распинался; был просто тушкой дряблого мяса с прогнившим желчным пузырем внутри.
– Живете где? Адрес тоже указали фиктивный.
– Где придется. То тут, то там.
– И давно?
– Три недели. Три недели назад перебрался из Швейцарии. Через границу провели. Вы же знаете, без документов мы нигде не имеем права жить, а решиться на самоубийство большинство пока не в состоянии. Именно по этой причине вам и приходится с нами возиться.
– Вот и оставались бы у себя в Германии, – пробурчал Леваль. – Не так уж там все и страшно. Как начнут, понимаешь, преувеличивать…
«Резани я чуть-чуть не так, – думал Равич, – ты бы сейчас здесь не сидел и не нес бы всю эту околесину. Черви без всяких документов запросто пересекли бы твои границы – либо ты был бы уже пригоршней праха в аляповатой урне».
– Так где вы тут жили? – повторил свой вопрос Леваль.
«Вот что тебе хотелось бы разузнать, – думал Равич. – Других хочешь сцапать».
– В дорогих отелях, – ответил он. – Под разными именами, по нескольку дней.
– Это неправда.
– Зачем спрашивать, если вам и так все лучше меня известно, – заметил Равич, которому все это постепенно стало надоедать.
Леваль гневно пристукнул ладошкой по столу.
– Прекратите тут хамить! – прикрикнул он и озабоченно глянул на свою ладошку.
– Вы по ножницам стукнули, – любезно пояснил ему Равич.
Леваль спрятал ладошку в карман.
– Вы не находите, что довольно нагло себя ведете? – спросил он с неожиданным спокойствием человека, который может позволить себе роскошь самообладания, зная, что собеседник всецело в его власти.
– Нагло? – Равич глянул на него с неприкрытым удивлением. – Это вы мне говорите о наглости? Мы здесь не в школе, не в монастыре для раскаявшихся изуверов! Я борюсь за спасение своей жизни – а вам хочется, чтобы я чувствовал себя уголовником, который вымаливает у вас приговор помягче. Только потому, что я не нацист и у меня нет документов. Так вот: не чувствовать себя преступниками, хоть мы провинились лишь тем, что пытаемся выжить, вдоволь нахлебались тюрем, полиции, унижений, – это единственное, что еще позволяет нам сохранять веру в себя, как вы этого не поймете? И видит Бог, это все, что угодно, только не наглость.
Леваль ничего на это не ответил.
– Врачебной практикой здесь занимались? – спросил он сухо.
– Нет.
«Шов, должно быть, уже почти незаметен, – думал Равич. – Я тогда хорошо зашил. Работенки было дай Бог, одного жира сколько. А он опять его нажрал. Нажрал и напил».
– Это сейчас главная опасность, – изрек Леваль. – Околачиваетесь тут без диплома, без экзамена, без ведома властей! Неизвестно сколько времени! Так я и поверил в эти ваши три недели! Кто знает, во что вы совались, в каких темных делишках замешаны!
«Еще как совался. В твой бурдюк с твоими жесткими склеротическими артериями, с твоей жирной печенкой, с твоим прогнившим желчным пузырем, – думал Равич. – А если бы не совался, так твой дружок, тупица Дюран, вполне гуманно зарезал бы тебя на столе, благодаря чему прославился бы как светило хирургии еще больше и за операции стал бы драть еще дороже».
– Это главная опасность! – повторил Леваль. – Работать врачом вам запрещено. Но вы, понятное дело, хватаетесь за все, что подвернется. Недавно как раз я имел разговор на эту тему с одним из наших медицинских корифеев: он всецело того же мнения. Если вы действительно в курсе медицинской науки, то должны знать это имя…
Нет, подумал Равич. Быть не может, чтобы он сейчас Дюрана назвал. Жизнь не способна на такие шутки.
– Профессор Дюран, – торжественно провозгласил Леваль. – Он мне, можно сказать, глаза раскрыл. Санитары, фельдшеры, студенты-недоучки, массажисты – кто только не выдает себя теперь за медицинское светило из Германии! А как проверить? Как проконтролировать? Подпольные операции, аборты, часто на пару со знахарками, повитухами, шарлатанами всякими, – одному Богу известно, каких бед они натворили и еще могут натворить! Вот почему от нас требуется величайшая бдительность! В таком деле любой бдительности мало!
Дюран, думал Равич. Вот и отлились те две тысячи. Только кто же теперь будет за него оперировать? Наверно, Бино. Наверно, опять договорились.
Он понял, что болтовню Леваля уже не слушает. И лишь когда тот упомянул Вебера, снова навострил уши.
– Тут некто доктор Вебер за вас хлопотал. Вы знакомы?
– Мельком.
– Он приходил. – Леваль вдруг замер, вытаращив глаза. Потом оглушительно чихнул, извлек из кармана носовой платок, обстоятельно высморкался, изучил полученные результаты, аккуратно сложил платок и сунул обратно. – Ничем помочь не могу. Мы обязаны проявлять твердость. Вы будете выдворены.
– Я знаю.
– Вас что, уже выдворяли?
– Нет.
– В случае повторного задержания шесть месяцев тюрьмы. Это вам известно?
– Да.
– Я прослежу, чтобы вас выдворили как можно скорей. Это единственное, что я могу для вас сделать. Деньги у вас есть?
– Да.
– Хорошо. В таком случае оплата за проезд до границы для вас и сопровождающего лица за ваш счет. – Он кивнул. – Можете идти.
– Нам нужно вернуться к определенному часу? – спросил Равич у своего конвоира.
– Ну, не совсем. Более менее. А что?
– Неплохо бы промочить горло.
Сопровождающий глянул на него испытующе.
– Да не сбегу я, – сказал Равич, а сам уже многозначительно поигрывал в руках двадцатифранковой купюрой.
– Ну ладно. Минутой больше, минутой меньше…
У первого же бистро они попросили таксиста притормозить. Несколько столиков уже были выставлены на тротуаре. Было прохладно, но солнечно.
– Что будете пить? – спросил Равич.
– «Амер Пикон». В это время ничего другого не употребляю.
– А мне двойной коньяк. Только отборного. И воды не надо.
Равич спокойно сидел за столиком и дышал свежим воздухом. Если б на воле – какое это было бы счастье! На деревьях вдоль тротуара уже набухли блестящие бурые почки. Пахло свежим хлебом и молодым вином. Официант принес заказ.
– Где у вас телефон?
– В зале, справа, где туалеты.
– Но-но… – спохватился полицейский.
Равич сунул ему в ладонь двадцать франков.
– Сами прикиньте: ну кому еще бывает нужно позвонить? Никуда я не денусь. Хотите, постойте рядом. Пойдемте.
Конвоир колебался недолго.
– Ладно, – сказал он, поднимаясь. – В конце концов, все мы люди.
– Жоан!
– Равич! Господи! Где ты? Тебя выпустили? Ради Бога, где ты?
– В бистро…
– Не дури! Где ты на самом деле?
– Я правда в бистро.
– Где? Так ты уже не в тюрьме? Где ты пропадал все это время? Этот твой Морозов…
– Он сказал тебе все как есть.
– Он даже не сказал мне, куда тебя отправили. Я бы сразу…
– Вот потому-то он тебе и не сказал, Жоан. Поверь, так лучше.
– Почему тогда ты звонишь из бистро? Почему ко мне не едешь?
– Не могу. У меня всего несколько минут. Уговорил сопровождающего ненадолго остановиться. Жоан, меня на днях вывезут в Швейцарию и… – Равич глянул в застекленную дверь телефонной кабинки. Конвоир, прислонившись к стойке, мирно с кем-то беседовал. – И я сразу вернусь. – Он подождал. – Жоан…
– Я уже еду! Сейчас же! Где ты?
– Ты не можешь приехать. Тебе до меня полчаса. А у меня только несколько минут.
– Задержи полицейского! Дай ему денег! Я привезу денег!
– Жоан, – сказал Равич. – Ничего не выйдет. И так проще. Так лучше.
Он слышал ее взволнованное дыхание.
– Ты не хочешь меня видеть? – спросила она, помолчав.
До чего же тяжело! Не надо было звонить, подумал Равич. Разве можно хоть что-то объяснить, не глядя друг другу в глаза?
– Больше всего на свете я хочу тебя видеть, Жоан.
– Так приезжай! И человек этот пусть приезжает!
– Это невозможно. Я должен заканчивать. Скажи только быстренько, чем ты сейчас занята?
– Что? О чем ты?
– Что на тебе надето? Где ты в данную секунду?
– В номере у себя. В постели. Вчера опять засиделись допоздна. Но мне одеться – минутное дело, я сейчас же приеду!
Вчера, опять допоздна. Ну конечно! Все идет своим чередом, даже если кого-то упрятали в тюрягу. Это забывается. В постели, еще сонная, грива волос на подушке, на стульях вразброс чулки, белье, вечернее платье – как все вдруг расплывается перед глазами: наполовину запотевшее стекло душной телефонной кабинки, физиономия конвоира, что смутно виднеется в нем, как в аквариуме.
– Я должен заканчивать, Жоан.
До него донесся ее растерянный голос:
– Но как же так! Не можешь ты просто так уехать, а я даже не знаю, куда и что… – Она привстала, подушка отброшена, трубка в руке словно оружие, причем вражеское, плечи, глаза, глубокие и темные от волнения…
– Не на войну же я ухожу. Просто надо съездить в Швейцарию. Скоро вернусь. Считай, что я коммерсант и должен всучить Лиге наций партию пулеметов…
– А когда вернешься, опять будет то же самое? Да я жить не смогу от страха.
– Повтори это еще раз.
– Но это правда так! – Голос ее зазвенел от гнева. – Почему я все узнаю последней? Веберу можно тебя посещать, а мне нет! Морозову ты звонишь, а мне нет! А теперь еще уезжаешь…
– О Господи, – вздохнул Равич. – Не будем ссориться, Жоан.
– Я и не ссорюсь. Просто говорю все как есть.
– Хорошо. Мне надо заканчивать. Пока, Жоан.
– Равич! – закричала она. – Равич!
– Да…
– Возвращайся! Слышишь, возвращайся! Без тебя я пропала!
– Я вернусь.
– Да… да…
– Пока, Жоан. Я скоро вернусь.
Еще пару секунд он постоял в душной, тесной кабинке. Только потом заметил, что все еще держит в руке телефонную трубку. Открыл дверь. Сопровождающий смотрел на него с добродушной улыбкой.
– Закончили?
– Да.
Они вернулись на улицу к своему столику. Равич допил свой коньяк. «Не надо было звонить, – думал он. – Ведь был же спокоен. А теперь взбаламучен. Пора бы знать: от телефонного разговора ничего другого и ждать не приходится. Ни для себя, ни для Жоан». Так и подмывало вернуться к телефону, позвонить снова и сказать все, что он не успел, не сумел сказать. Объяснить, почему им нельзя увидеться. Что не хочет он, чтобы она его таким видела – грязным, пропахшим тюрягой. Только ничего это не даст: выйдет из кабинки, и на душе будет то же самое.
– Ну, кажется, нам пора, – напомнил конвоир.
– Да…
Равич подозвал официанта.
– Принесите две бутылочки коньяка, всех газет и дюжину пачек «Капорал». И счет. – Он глянул на конвоира. – Не возражаете?
– Все мы люди, – отозвался тот.
Официант принес бутылки и сигареты.
– Откупорите, пожалуйста, – попросил Равич, деловито рассовывая по карманам сигареты. После чего снова заткнул бутылки, но не до конца, чтобы пробки можно было вынуть без штопора, и упрятал их во внутренние карманы пальто.
– Неплохо, – одобрил конвоир.
– Жизнь научила. К сожалению. Мальчишкой ни за что бы не поверил, что на старости лет снова придется играть в индейцев.
Поляк и писатель коньяку обрадовались чрезвычайно. Сантехник, как выяснилось, крепкого вообще не пьет. Он оказался любителем пива и принялся объяснять, насколько в Берлине пиво лучше, чем здесь. Равич улегся на койке читать газеты. Поляк ничего не читал – он не знал по-французски. Зато он курил и был счастлив. Ночью сантехник вдруг заплакал. Равич проснулся. Он слушал, как потихоньку всхлипывает сокамерник, и смотрел в оконце, за которым уже брезжило предрассветное небо. Ему не спалось. И позже, когда сантехник притих, он все еще не мог уснуть. «Слишком хорошо жилось, – думал он. – А теперь хорошего не стало, вот ты и изводишься».
18
Равич шел с вокзала. Усталый и грязный. Тринадцать часов он парился в душном вагоне среди попутчиков, от которых несло чесноком, – это не считая охотников с собаками и торговок с корзинами, в которых кудахтали куры и шебаршились голуби. А до этого он три месяца околачивался возле границы…
В сумерках что-то сверкало. Равич пригляделся. Если ему не померещилось, то по периметру всей Круглой площади расставлены какие-то зеркальные штуковины, отражающие последние смутные отблески майского дня.
Он остановился, пригляделся. И впрямь зеркальные пирамиды. Расставлены повсюду, призрачно повторяя друг друга среди клумб с цветущими тюльпанами.
– Это еще что за невидаль? – спросил он у садовника, ровнявшего поблизости газон.
– Зеркала, – ответил тот, не поднимая головы.
– Это я и сам вижу. Но когда я последний раз здесь проходил, их в помине не было.
– И давно это было?
– Месяца три тому.
– Эге, месяца три. Их только недели две как поставили. Для короля Англии. Сам пожалует. Вот и поставили, чтобы мог поглядеться.
– Жуть, – сказал Равич.
– Конечно, – невозмутимо подтвердил садовник.
Равич двинулся дальше. Три месяца, три года, три дня – что такое вообще время? Все и ничего. Вон каштаны уже в цвету, а тогда были еще голые; за это время Германия опять нарушила все договоры и целиком оккупировала Чехословакию; в Женеве эмигрант Йозеф Блюменталь в припадке истерического хохота застрелился перед дворцом Лиги наций; а у него, Равича, в груди все еще покалывает и хрипит после воспаления легких, которое он под фамилией Гюнтер перенес в Бельфоре; и вот он снова здесь, майским вечером, мягким и нежным, как женская грудь, – и почти ничему не удивляется. Жизнь принимаешь такой, как есть, с философским спокойствием фаталиста – этим последним оружием беспомощности. Небо одинаково безучастно взирает на убийство и ненависть, на любовь и на жертвы, деревья ничтоже сумняшеся расцветают каждый год, сливово-сизые сумерки опускаются и рассеиваются снова и снова, и их не волнуют людские паспорта, предательства, безутешности и надежды. И все-таки хорошо снова оказаться в Париже. Хорошо снова пройтись, неспешно пройтись по этой вот улице, залитой серебристым светом, не думая ни о чем; хорошо снова длить этот час, еще полный отсрочки и расплывчатой неизвестности, на зыбкой границе, где самая затаенная печаль и тишайшее счастье, что ты снова просто выжил, еще тают, еще смешиваются в дымке на горизонте, – этот первый час прибытия, пока ножи и стрелы повседневности еще не вонзились в тебя снова; хорошо ощутить в себе это драгоценное самочувствие живой твари, это дыхание неизвестно чего неизвестно откуда, эти еще почти не осязаемые дуновения на дорогах сердца, этот проход мимо мрачных огней данности, мимо распятий прошлого и вдоль шипов грядущего, эту цезуру, это безмолвие отрыва и взлета, миг безвременья, паузу твоего бытия, раскрытого всему и от всего замкнутого, мягкую поступь вечности в этом бреннейшем из миров.
Морозов сидел в пальмовом зале «Интернасьоналя». Перед ним стоял графин вина.
– Борис, старина, привет, – сказал Равич. – Похоже, я как нельзя кстати. Это, часом, не «Вувре»?
– Оно самое. На сей раз тридцать четвертого года. Чуть слаще и ароматней предыдущего. Здорово, что ты снова здесь. Три месяца, верно?
– Да. Дольше обычного.
Морозов позвонил в старомодный колокольчик над столом.
Звон был как в сельской церкви, когда служка извещает о начале мессы. Хотя освещение в «катакомбе» было уже электрическое, до электрических звонков здесь еще не доросли.
– Как хоть тебя теперь величать? – поинтересовался Морозов.
– По-прежнему Равич. В полиции я это имя не засветил. Назывался там Войцеком, Нойманом, Гюнтером. Блажь, конечно. Не хотелось с Равичем расставаться. Нравится мне.
– И где ты живешь, они тоже не докопались?
– Конечно.
– Ну да. Иначе наверняка бы уже облаву устроили. Тогда, выходит, ты снова можешь заселяться. Комната твоя, кстати, свободна.
– А старуха знает, что со мной было?
– Нет. Вообще никто. Я сказал, что ты в Руан уехал. Вещи твои у меня.
Пришла официантка с подносом.
– Кларисса, принесите господину Равичу бокал, – распорядился Морозов.
– О, господин Равич! – Девушка ощерила зубы, изображая улыбку. – Снова к нам? Давно вас не было. Полгода, не меньше.
– Три месяца, Кларисса.
– Быть не может. А я-то думала, полгода.
С этими словами она удалилась. Немедля появился и жирный официант с бокалом, давний знакомец всех «катакомбных» завсегдатаев. Он нес бокал просто в руке, полагая, очевидно, что на правах старожила в отношении других старожилов может позволить себе подобную фамильярность. По лицу его Морозов сразу догадался, о чем тот спросит, и решил его упредить.
– Спасибо, Жан. Ну-ка, скажи, сколько господин Равич у нас не был? Точно можешь вспомнить?
– Но, господин Морозов! Конечно, я помню! С точностью до одного дня! – Он выдержал театральную паузу, улыбнулся и возвестил: – Ровно четыре с половиной недели.
– Точно! – подтвердил Равич, не давая Морозову возразить.
– Точно, – эхом отозвался Морозов.
– Ну разумеется. Я никогда не ошибаюсь. – Жан гордо удалился.
– Не хотелось его огорчать, Борис.
– Мне тоже. Я только хотел продемонстрировать тебе зыбкость времени, когда оно становится прошлым. Оно и лечит, и калечит, и выжигает душу. В нашем лейб-гвардии Преображенском полку был такой старший лейтенант Бильский; судьба разлучила нас в Москве в августе семнадцатого. А мы были большие друзья. Он уходил на север, через Финляндию. А мне пришлось через Маньчжурию и Японию выбираться. Когда через восемь лет мы свиделись снова, я был уверен, что в последний раз видел его в девятнадцатом году в Харбине, а он был свято убежден, что мы встречались в двадцать первом в Хельсинки. Расхождение в два года – и в десяток тысяч километров. – Морозов взял графин и разлил вино по бокалам. – А тебя, как видишь, тут все еще узнают. Это должно сообщать хоть что-то вроде чувства родины, а?
Равич глотнул вина. Оно было прохладное и легкое на вкус.
– Меня за это время однажды аж до самой немецкой границы занесло, – сказал он. – Просто рукой подать, в Базеле. Там одна сторона дороги еще швейцарская, а другая уже немецкая. Я стоял на швейцарской стороне, ел вишни. А косточки на немецкую сторону поплевывал.
– И ты почувствовал близость родины?
– Нет. Никогда я не был от нее дальше, чем там.
Морозов усмехнулся:
– Что ж, можно понять. А как вообще все прошло?
– Как всегда. Только труднее, вот и вся разница. Они теперь границы строже охраняют. Один раз в Швейцарии меня сцапали, другой раз во Франции.
– Почему от тебя не было никаких вестей?
– Так я же не знал, что полиция про меня разнюхала. У них иной раз бывают приступы розыскного усердия. На всякий случай лучше никого не подставлять. В конце концов, алиби у всех нас отнюдь не безупречные. Старая солдатская мудрость: заляг и не высовывайся. Или ты чего-то другого ожидал?
– Я-то нет.
Равич пристально на него глянул.
– Письма, – сказал он наконец. – Что толку в письмах? Какой от них прок?
– Никакого.
Равич выудил из кармана пачку сигарет.
– Странно, как все это бывает, когда тебя долго нет.
– Не обольщайся, – усмехнулся Морозов.
– Да я и не обольщаюсь.
– Уезжать хорошо. Возвращаться – совсем другое дело. Все снова-здорово.
– Может, и так. А может, и нет.
– Что-то больно смутно ты стал изъясняться. Впрочем, может, оно и к лучшему. Не сыграть ли нам партию в шахматишки? Профессор-то умер. Единственный, можно считать, достойный противник. А Леви в Бразилию подался. Место официанта получил. Жизнь нынче страшно быстро бежит. Ни к чему привыкать нельзя.
– Это уж точно.
Морозов вскинул на Равича пристальный взгляд.
– Я не это имел в виду.
– И я не это. Но, может, сбежим из этого пальмового склепа? Три месяца не был, а воняет, как будто и не уезжал, – стряпней, пылью и страхом. Когда тебе заступать?
– Сегодня вообще никогда. Сегодня у меня свободный вечер.