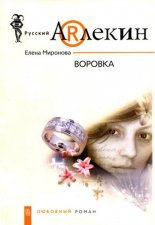Роман о девочках (сборник) Высоцкий Владимир
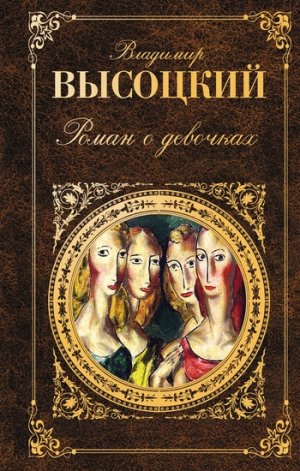
Но эта пластинка, к сожалению, не вышла, вышла немножечко другая – не по моей и его вине, а так случилось. Это диск, где я с бородой. Но если бы вы услышали этот диск, который мы сделали с ним вдвоем, вы бы увидели, что он проникся этими песнями по-настоящему и что никакого языкового барьера нет.
Так что это такие парни, с которыми можно работать так же, как и здесь, если с уважением друг к другу относиться, несмотря на то, что они не понимают, о чем ты так кричишь. Они не понимают, как можно с таким напором и с такой отдачей петь некоторые вещи, почему это нас так волнует? У них этих проблем нет, и они их никогда не исследуют – в песнях у них не принято об этом разговаривать. Маккартни, правда, пытался – кстати, он тоже пел балладу о брошенном корабле, я не знаю, может быть, они у нас немножко и совпадают, но у них этот жанр считается несколько облегченным, за исключением Брассенса и еще некоторых.
И кстати, почему это только мы интересуемся «Бони М» и всякими французами? Мы тоже можем их заинтересовать, только нужно дать им идентичные образы и чтобы они поняли, о чем в песне поется. Французы считают, что песня не должна заниматься проблемами – это развлекательный жанр, и в нем они добились больших успехов, хотя сами больше всего и здесь любят настоящих поэтов: Брассенса, Лео Ферре, Максима ле Форестье. А для проблем есть Аполлинер – это классика.
Россия – единственная страна, где поэзия находится на таком уровне. Поэзия у нас всегда была во главе литературы. И не только из-за того, что наши поэты были большими стихотворцами и писали прекрасные стихи, а из-за того, что они себя достойно вели в жизни: и по отношению к властям, и по отношению к друзьям, и по отношению друг к другу, и, конечно, к своему творчеству. Возьмите маленький листочек, вырванный из тетради, и напишите четыре фамилии: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава – да даже одну из них! – и повесьте где-нибудь в стороне: через два дня будет заполнен стадион, не достанете билета. Люди тянутся не только к стихам, но и к поэтам. Вот у нас семь тысяч членов Союза писателей СССР, сейчас я любого спрошу – быстро назовет не более тридцати, кто-то назовет пятьдесят, но уж никак не сто. А ведь все печатались, у всех есть книги. Я говорю о поэзии в большом смысле слова, о поэтах с большой буквы.
Часто спрашивают, почему я все время возвращаюсь к военной теме. В письмах, например, спрашивают: «Не тот ли вы самый Владимир Высоцкий, с которым мы под Оршей выходили из окружения?» Или: «Были ли вы на 3-м Украинском фронте, деревня такая-то и в такое-то время?» И довольно много таких писем. Значит, люди предполагают, что эти песни может писать только человек, который прошел через войну. Это мне вдвойне приятно, потому что я так и хочу работать и писать песни от имени тех людей, которые прошли, как говорится, огонь и воду во время войны.
Почему много военных песен? Почему я так часто обращаюсь к военной теме, как будто бы все писать перестали, а я все, значит, долблю в одно место? Это не совсем так. Во-первых, нельзя об этом забывать. Война всегда будет нас волновать – это такая великая беда, которая на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забываться, и всегда к этому будут возвращаться все, кто в какой-то степени владеет пером.
Во-вторых, у меня военная семья. Я не воевал, это, конечно, невозможно по возрасту, и не мог я под Оршей выходить из окружения: я был еще маленький тогда, меня могли только выносить. У меня в семье есть и погибшие, и большие потери, и те, кого догнали старые раны, кто погиб от них. Отец у меня – военный связист, прошел всю войну. Он воевал в танковой армии Лелюшенко и в конце войны командовал связью армии. Мой дядя (в 78-м году его не стало) всю войну был в непосредственном соприкосновении с врагом, у него к 1943 году было три боевых Красных Знамени, то есть он очень достойно вел себя во время войны. У нашей семьи было много друзей-военных, я в детстве часами слушал их рассказы и разговоры, многое из этого я в своих песнях использовал.
В-третьих, мы дети военных лет – для нас это вообще никогда не забудется. Один человек метко заметил, что мы «довоевываем» в своих песнях. У всех у нас совесть болит из-за того, что мы не приняли в этом участия. Я вот отдаю дань этому времени своими песнями. Это почетная задача – писать о людях, которые воевали.
И самое главное, я считаю, что во время войны просто есть больше возможности, больше пространства для раскрытия человека – ярче он раскрывается. Тут уж не соврешь, люди на войне всегда на грани, за секунду или за полшага от смерти. Люди чисты, и поэтому про них всегда интересно писать. Я вообще стараюсь для своих песен выбирать людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, которые каждую следующую минуту могут заглянуть в лицо смерти, у которых что-то сломалось, произошло – в общем, короче говоря, людей, которые «вдоль обрыва, по-над пропастью» или кричат «Спасите наши души!», но выкрикивают это как бы на последнем выдохе. И я их часто нахожу в тех временах. Мне кажется, просто их тогда было больше, ситуации были крайние. Тогда была возможность чаще проявлять эти качества: надежность, дружбу в прямом смысле слова, когда тебе друг прикрывает спину. Меня совсем не интересует, когда люди сидят, едят или отдыхают, – я про них не пишу, только разве комедийные песни.
Это не песни-ретроспекции: они написаны человеком, который войну не прошел. Это песни-ассоциации. Если вы в них вдумаетесь и вслушаетесь, вы увидите, что их можно петь и теперь: просто взяты персонажи и ситуации из тех времен, но все это могло произойти и здесь, сегодня. И написаны эти песни для людей, большинство из которых тоже не участвовали в этих событиях. Так я к ним отношусь – это современные песни, которые написал человек, живущий сейчас. Они написаны на военном материале с прикидкой на прошлое, но вовсе не обязательно, что разговор в них идет только чисто о войне.
Самые первые мои военные вещи были написаны для картины «Я родом из детства». С тех пор я написал для кино несколько десятков песен о войне, вышло несколько пластинок с песнями из этих картин – у них была длинная судьба и тернистый путь.
Мой дядя очень много рассказывал мне о войне. Вот одна из историй. Однажды батальон держал оборону в плавнях, и у него были открыты фланги. Из-за паники они об этом сообщили открытым текстом, немцы перехватили и начали их давить. Командир батальона дал команду на отход, а кончилась эта история печально. Несмотря на то что командир батальона был человек заслуженный, награжденный и так далее, было принято решение его расстрелять: очень острая была ситуация.
Но приказ не был приведен в исполнение, потому что начался сильный обстрел, они отошли, потеряли много людей. Этот человек сейчас жив, он в высоких чинах, он друг моего дяди. И когда я сделал песню по этому поводу, то, ничего ему не говоря, однажды ему ее спел. И он сказал: «Да, это было. Точно. Было, было, было…» И эту песню «Тот, который не стрелял» я посвятил этому другу нашей семьи.
Я еще раз хочу повторить, что мои военные песни все равно имеют современную подоплеку. Те же самые проблемы, которые были тогда, существуют и сейчас: проблемы надежности, дружбы, чувства локтя, преданности. Просто мне казалось, что на том материале это можно сделать намного ярче.
Вообще во всех моих песнях речь идет о том, что может случиться с любым человеком в зрительном зале – и с кем угодно. Просто иногда бывает момент, когда надо решать, – и в этот момент ясно, как человек себя ведет.
Я очень надеюсь, когда сочиняю свои песни, что они дойдут до моего слушателя. Я же ведь не для себя пишу, не только для «стола» и «корзины» – туда я тоже пишу, – но обязательно ищу аудиторию, и, когда она у меня есть, больше мне ничего не надо. Больше всего я ценю прямой контакт со слушателями.
Обычно свои выступления-встречи я начинаю словами: «Дорогие товарищи». Это не формальное обращение, это на самом деле так, потому что я очень дорожу вами, своей аудиторией. Если вам скажут, что человек выходит на сцену только самовыражаться, – не верьте, это неправда. Все мы, кто занимается авторской песней, очень рассчитываем на ответ из зрительного зала. Я не кривлю душой и не заискиваю перед вами, не подхалимничаю, потому что – зачем?! Глупо! Мне публика – люди, а не публика; люди, которые меня слушают, нужны мне больше, чем я вам, потому что есть счастливая возможность высказать то, что меня беспокоит и волнует, такому большому количеству людей, – это не каждому дано. Мне просто очень повезло в этом смысле. Я ценю эти встречи, люблю их, стараюсь как можно больше успеть рассказать о чем-то необходимом. Мне хочется, чтобы вы мне доверяли.
У меня единственная задача, когда я выхожу к вам, – хоть немножечко вернуть атмосферу нашей компании, когда я только начинал писать свои песни. Я вообще, когда пишу песни, рассчитываю на своих близких друзей, с которыми начинал. У меня это вошло в привычку. И никогда не делаю разграничения, что у меня будет такая аудитория или сякая, я не делаю различия между физическим и умственным трудом и всегда предполагаю, что это та аудитория, которая будет мне доверять. Если атмосфера доверия устанавливается в зале – больше мне ничего не надо.
И возможно, из-за этой атмосферы к этим песням тянутся люди, собираются в больших количествах, чтобы их слушать, – из-за этой доверительной интонации, из-за этой раскованности, свободы, непринужденности. В общем-то, я уже около пятнадцати лет стараюсь не слезать с пика. Уже много раз обо мне говорили: «Ушел. Всё. Кончился». И так далее, и так далее. Однако если я пробую выступать на стадионах – пять раз в день, по пять тысяч человек, – они полны, и невозможно попасть. То есть все это неправда – люди тянутся и хотят слушать эти песни.
Я вообще должен вам сказать, что, когда выхожу на эту площадку, стараюсь не кривить душой и говорить все, что думаю. Мне нет смысла отвечать неискренне. Я пришел сюда не для того, чтобы кому-то нравиться. Зрителям всегда интересно знать: что там у тебя за рубахой, под кожей? Что ты из себя представляешь? Мне нет смысла сейчас ни лгать, ни притворяться. Хотите верьте, хотите нет, но я во всех своих встречах стараюсь разговаривать искренне – иначе нету смысла выходить… Поэтому все, что я буду вам сегодня говорить и петь, – это есть истина для меня на сегодняшний день.
Я так думаю, это мое собственное, сугубо мое мнение. С ним можно соглашаться или нет – это дело каждого сидящего в зале, но я говорю только то, что я теперь на самом деле думаю.
Иногда мне присылают письма и спрашивают на выступлениях: «Что у вас идет после такого-то слова?» Я тоже прихожу в недоумение, потому что и сам забыл. Я начинаю, значит, где-то искать, достаю с нижней полки, смотрю, восстанавливаю – и вдруг вижу, что эту песню еще можно петь: хоть она и старая, прежняя, а тема не ушла. Отряхнешь пыль, переменишь какие-то слова, переменишь немножечко музыку, чего-то допишешь, потому что хозяин – барин, и снова поешь. Так что песне, в отличие от человека, можно продлить жизнь. У песен счастливее судьба, чем у людей, потому что хороший, достойный человек очень много волнуется, нервничает, беспокоится за своих близких и помирает раньше, чем плохой. Так уж случилось: всегда «смерть самых лучших намечает и дергает по одному…». А вот плохой человек дольше живет, потому что он мало тратится.
А с песней наоборот – песня, если она того стоит, может жить долго. Вот, например, песня «Братские могилы» была на пластинке, в кино, в театре, и, казалось бы, все уже отыграно, отработано, а я ею всегда начинаю концерты, почти каждое выступление. Так что песня живет.
А бывает, что песня новая и должна звучать в каком-либо фильме, но ее там нет: по разным причинам она не вмонтировалась в киноматериал. Мне-то, в общем, везет: я имею возможность продлить ей жизнь – возьму спою, кто-то запишет на магнитофон и песня разойдется. А ведь есть люди, которые рассчитывают только на этот фильм – это их единственный шанс, чтобы потом о них узнали и имя их как-то зазвучало. Очень талантливые ребята…
Вы, пожалуйста, извините, что я все время поднимаю руку и прерываю ваши аплодисменты. Это по привычке, мне всегда не хватает времени, и я всегда хочу как можно больше успеть спеть. Это не от неуважения. А вообще-то, в этих выступлениях аплодисменты не самое главное – в этом тоже есть отличие авторской песни от эстрадной. Ваше отношение все равно передается через какое-то общее дыхание, через атмосферу. В общем, будет невмоготу – тогда раз! – а потом я руку подыму – хватит. Я больше спеть успею. Я сегодня хочу вам побольше спеть: такое настроение. Так что поберегите ладони – лучше будете потом дома детей по головам гладить!
Среди многочисленных легенд, которые обо мне ходят, одна заключается в том, что я якобы не люблю, когда аплодируют. Это неправда: я нормальный человек и с уважением отношусь ко всему, что делают зрители. В принципе это есть ваша возможность как-то меня поощрить, поблагодарить; поэтому, ради бога, если нравится, делайте, как хотите. Давайте мы с вами так договоримся: если очень невмоготу, тогда аплодируйте; если можете – то сидите. В общем, аплодисменты – это дело четвертое и пятое, как в стихотворении рифмовка. Это неважно. Я вижу ваши глаза, я все понимаю без аплодисментов. Еще и поэтому я прошу зажигать свет в зале.
Хотя иногда, когда прихожу в солдатские аудитории или в какие-нибудь однородные – знаете, где все в форме: ремесленные или еще какие другие, – я вдруг замечаю новую для себя вещь: обычно люди хохочут, а эти давятся! и никак! – никаких аплодисментов, ничего. Потом оказывается, им перед началом сказали: «Учтите, Владимир Семенович не любит, когда хлопают. Если кто хлопнет!.. Понятно?!» Ну а я, значит, подумал было, что люди не поняли ничего, не понравилось им. Потом я понял, в чем дело, и поэтому в таких случаях перед началом всех предупреждаю (особенно солдат-первогодков): «Ребята, вот вам перед началом сказали, что я, дескать… Но вы ведите себя, как хотите: смейтесь, кричите – как угодно».
Вообще всегда я призываю, чтобы на моих выступлениях люди чувствовали себя непринужденно, свободно, раскованно и дружественно. Я не против такой вольной атмосферы в зрительном зале. Наоборот – пожалуйста, как хотите! Откиньтесь на спинку кресла, отдыхайте.
Я не раз слышал, как «под меня» поют. Некоторые думают, что надо, мол, подышать в форточку холодным воздухом, выпить холодного пива, голос сорвать: «А-а-а!» – и будет «под Высоцкого». Во-первых, это неправда, потому что у меня всегда был такой голос, я с ним ничего не делал и особенно пива холодного старался не пить, и выдерживаю по пять выступлений перед такой же аудиторией по два часа – и ничего! Я, правда, подорвал его куревом, питьем, криком, но даже когда я был вот таким пацаном и читал свои стихи взрослым людям, они часто говорили: «Надо же, какой маленький, а как пьет!» Голос всегда был такой низкий – это просто строение горла такое, я уж не знаю, – от папы с мамой. Сейчас он чуть-чуть видоизменился в связи с годами и многочисленными выступлениями… на сцене и в театре. Раньше говорили «пропитой», а теперь из уважения говорят «с трещиной». Так что шутки и упреки по этому поводу я слышал давно.
Мне говорят, что с моим голосом я обязательно должен был бы петь рок-н-ролл. Но это вы слышали тысячу раз, таких ансамблей миллионы, поэтому рок-н-ролл я петь не буду, а буду заниматься своим делом, которое люблю.
У меня все время идет борьба с магнитофонщиками. Это не оттого, что я стесняюсь чего-то в своих песнях и опасаюсь, что вы их запишете и чего-то там «такое» обнаружите. В общем, это современный вид литературы своего рода: ведь если бы 150 лет назад были магнитофоны, – возможно, какие-нибудь стихи Александра Сергеевича тоже были бы записаны только на магнитофоны. Так что будем считать, что по теперешним временам это своего рода литература. Просто раньше ее не было, а теперь она есть. Потом появится что-нибудь другое. Может быть, будем телепатически песни друг другу передавать: кому хочу – тому и прочитал стихотворение или спел, а он сидит и ловит кайф. А другие все вокруг скучают. Кстати, это идея, надо будет про это написать. Это очень хорошо.
Я не возражаю против записи. Ради бога, почему нет?! Пишите. Наоборот даже. Я против из-за того, что вот эта атмосфера в зале непросто делается: она делается нами обоюдно – вами и мной. И эти ваши щелчки меня всегда жутко расстраивают, выбивают из ритма, – этого я просто не выношу. Ведь люди приходят сюда по двум причинам: одна из них – чтобы записать, и их не интересует, что здесь происходит в данный момент. А ведь самое главное – это контакт, о котором я говорил.
Иногда бывает, что весь первый ряд сплошь в каких-то проводах. У каждого по-разному кончается пленка: у одних – на 20 минут, у других – на 30, магнитофоны-то разные. И тогда они друг с другом начинают торговаться, дескать, ты мне, потом я тебе. Тут же меняются адресами, как сумасшедшие. Для них неважно, что там происходит на сцене, для них главнее, что они сюда попали. Точно так же наши туристы за границей снимают впрок все, что им показывают, ничего не видя. Потом дома выясняется, что они ничего не видели.
Сейчас все-таки немного полегче стало, потому что появилась хорошая техника – привозят все отовсюду, – а раньше был кошмар! Сделают плохую запись, потом ее перепишут – есть же люди, которые с этого живут: они продают эти записи. Я как-то слышал одну пленку на два часа, в ней было 90 песен, из них семь моих.
Так что вот из-за чего я возражаю. Делайте хорошие записи, мне это только поможет.
А среди многочисленных легенд и баек, которые ходят вокруг моего имени, одна как раз и заключается в том, что я не люблю, когда меня записывают на магнитофоны, потому что я пою нечто «такое», что и нельзя записывать. Ничего подобного! Зачем же мне писать песни и приходить на такие вот встречи, чтобы скрывать что-то «такое»? Что для друзей петь можно, а для вас – нет? Никакого смысла. Я, правда, не рассчитывал на такие большие аудитории, когда начинал писать, но все равно я потенциально отношусь к этим аудиториям, как к своим друзьям. Даже и не потенциально, а просто как к друзьям: я с таким же доверием рассказываю вам обо всем, о чем написал, как и им, поэтому мне скрывать действительно нечего.
В разных городах обращаются ко мне: «Володя, помогите нам бороться с радиохулиганами, они все время ваши песни крутят в эфир». Однажды в Усть-Каменогорске ко мне власти обратились с этим: «Они засоряют эфир вашими песнями!..»
Я говорю: как же я могу помочь?! Что же, я выйду в зрительный зал и скажу: «Дорогие товарищи радиохулиганы… И вообще, – я говорю, – я сейчас обижусь и уйду: может быть, они не моими песнями засоряют?!» И они дали мне список песен, которые больше всего этими радиохулиганами пропагандируются. Там было несколько песен из «Вертикали» и несколько песен, которых я не знал: они мне не принадлежали. Пелись они какими-то хриплыми голосами, с большим количеством помех – так что разобрать, о чем там идет речь, было совершенно невозможно.
Все мы в какой-то период нашей жизни страдаем от слухов. Я до сих пор отмахиваюсь руками и ногами от всевозможных сплетен, которые вокруг меня распространяются, как облака пыли, и постоянно нахожусь под огнем всех этих разговоров. Несколько раз я уже похоронен, несколько раз «уехал», несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожить. Какие-то страшные казни мне придумывали. Мне говорят: «Но ведь бывают и хорошие слухи!» Я думаю: «Нет. Если хорошие – это сведения, сообщения или сюрпризы. Слухи и сплетни бывают только плохие, только чтобы гадость сказать».
Раньше меня часто спрашивали в письмах: «Сколько лет вы сидели?» Наверное, многие люди, услышав мои уличные песни и разные под них подделки, считали, что родился я в лагере и долго там жил, что здесь вот у меня – нож, вот тут – струйка крови, гитара сбоку растет и вообще – это «громадный, рыжего цвета человек». Сейчас вроде этот слух прошел: поняли, что не сидел, или, во всяком случае, немного. Многие сплетни и разговоры кончились, когда я начал работать в Театре на Таганке, но иногда я такого про себя наслушаюсь, что уши вянут. Одна девочка из Новосибирска меня спросила: «Правда, что вы умерли?» Я говорю: «Не знаю».
Однажды я был на концерте, где мне принесли стакан воды, а потом кто-то взял и сообщил в определенные инстанции, что я пил водку на сцене. Это часто бывает: всегда находятся люди в зале, которые приходят с какими-то странными целями, провокационными или еще какими-то, – в семье не без урода.
Вот я работаю весь вечер на полной отдаче: сейчас за кулисами я выжму свитер, и вы увидите, что это значит, когда работаешь, а не халтуришь. Идет разговор, который требует полной сосредоточенности. А кто-то один – либо с похмелья, либо еще с какими-то соображениями: кто с самого начала пришел, чтобы что-нибудь «этакое» сделать, – обязательно куда-нибудь напишет. И эту писанину где-то там будут разбирать, она найдет ход, будет двигаться и так далее. Это часто так бывает, такая происходит несправедливость: один написал, а полторы тысячи, которым понравилось и они просто ушли домой, все оценив, с благодарностью в душе, никуда не напишут. Вот в чем дело-то.
Я знаю, что аудитории теперь искушенные, подготовленные, с большим количеством полученной информации, которая на них льется отовсюду: из уст профессоров, телевидения, радио, газет, так что, если вас что-то заинтересует, пожалуйста, спрашивайте, ради бога: или записками, или кричите – как хотите. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Лучше о творчестве, чем о личной жизни: я не буду отвечать, сколько раз я разведен, женат и так далее, я и сам это забыл, уже не помню.
Спрашивают, почему я такой грустный. Я думаю, это вопрос не из сентиментальности и заботы о моем здоровье, а просто люди думают, что мне кажется, будто вы не все понимаете. Это совсем не так. Я абсолютно уверен, что семена падают в благоприятную почву.
А грустный? А чего особенно веселиться?!
Часто пишут записки: «Расскажите кратко о себе». Вот это вопрос! Это мне напоминает, как однажды во время экзаменов в школе-студии Художественного театра я, стоя в коридоре, получил записку от своего товарища с просьбой прислать шпаргалку. Буквально в этой записке было написано: «Напиши краткое содержание «Дон-Кихота»». Это правда.
Просят рассказать о личной жизни. Это очень странно – я никогда ни к кому не подхожу и об этом не спрашиваю. К нам в театр приезжают разные люди, физики читают лекции. И не подойду же я к Флерову и не скажу: «Расскажите, пожалуйста…» О личной жизни я не рассказываю.
Что я написал в последнее время за границей из песен и стихов? Пожалуй, ничего. И не из-за того, что мне приходилось там много ходить и болтаться. У меня было достаточно свободного времени, чтобы работать, – мне там не писалось. Наверное, просто нужно было, чтобы что-то отложилось. А самое главное – даже не поэтому. Я ничего не написал про Париж, например, – и особенно не хотелось. Я не знаю, как это поэты ездят в творческую командировку. Приедут – бах! – и цикл стихов. Мне вообще не хочется писать стихи про то, что я там увидел, потому что не очень сильно это понимаю.
Надо пожить в стране, чтобы кое-что понять и иметь право про это писать.
А у нас, значит, поэты возвращаются и отчитываются стихами о поездке. Андрей пишет. И Женя, когда поедет, обязательно опишет американские впечатления в стихах. Или вот наши сценаристы пишут про Латинскую Америку, которую не могут понять даже серьезные умы, живущие там. А наши побудут там полгода на каких-нибудь своих киносъемках, а потом – бах! – снимают кино про чилийцев, и наши литовские артисты их играют и так далее. Я, честно говоря, этого не понимаю. Может быть, кто-то и может так, но мне подобное в голову никогда не приходило и не хотелось этим заниматься.
Почему-то все люди, выступая по телевидению, стараются казаться умнее, чем они есть на самом деле. Всегда есть котурны во время этих передач. И даже самые уважаемые мною поэты, писатели или актеры, которых я жутко люблю, когда они играют на экране, в таких передачах почему-то не умнее, но чуть-чуть другие, чем они есть. А ведь самое интересное узнать, какие они на самом деле.
Я очень надеюсь, что из-за того, что у меня есть такой частый контакт со зрительным залом и с моими друзьями дома, я смогу избегнуть этого недостатка и сойти с этих котурнов, чтобы у каждого из зрителей осталось обо мне истинное, естественное, сиюминутное впечатление.
Зачем вы спрашиваете, что я думаю об искусстве, каковы его цели? Ну, гуманизм – цель искусства, конечно. И что? Вы же не хотите, чтобы я старался показаться умнее, чем есть на самом деле. Зачем? Все, что думаю об искусстве, и о жизни, и о людях, – все это заключено в моих песнях.
Я ее не очень сильно ощущаю, популярность. Дело в том, что когда продолжаешь работать, то нет времени на то, чтобы как-то обращать внимание на эти вещи. Чтобы перестать работать – есть именно этот способ: почить на лаврах и почувствовать популярность свою. Мне кажется, что пока умею держать в руках карандаш, пока в голове еще что-то вертится, буду продолжать работать.
Так что я избавлен от того, чтобы замечать, когда стал популярным. Не помню. В чем причина? Не знаю. Один ответ возможен: когда пишу, рассчитываю на своих самых близких друзей… И абсолютно доверяю залу.
По поводу картины «Место встречи изменить нельзя» я не буду давать интервью. И не потому, что мне нечего сказать, – не выманите, не выудите, я ушлый человек. Если вы обратили внимание, я вообще никаких интервью не даю. Поначалу они не хотели, теперь уже я не хочу – потому что журналисты всегда натягивают, перевирают. Они почему-то всем одинаково дают выражаться – все у них получаются такие умные. Они почему-то думают, что их язык – это язык интеллигентов, поэтому в их интервью, обратите внимание, все одинаково говорят. Поэтому обещаю вам, что вы не прочтете ни одной строчки о моем отношении к Жеглову. Все видно по тому, как я его сыграл. Я свое сделал, а оценивать дело не мое, а ваше и критиков.
Этот фильм мы делали с друзьями, кланом. Мы работали с режиссером – это мой давнишний, ближайший друг, с которым я начинал: мы «Вертикаль» с ним делали. Я получил удовольствие от работы, не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли. И больше ничего не скажу.
Я написал много песен о летчиках и моряках. Мне пока не удалось написать о космонавтах, хотя меня и очень просили. Хотя бы немного приблизиться к такому подвигу – это же высокая задача. Все понятно – люди знали, на что шли, и надо, чтобы близко было к этому. Я сейчас слышу: «Он полетел… сказал: «Поехали!» – это все понятно, он так действительно сказал, но зачем же рифмовать то, что было. Нужно найти какой-то философский смысл у этих вещей, и когда это придет, я напишу. А так – на заказ – не получается. И дело не в том, что все они были в прошлом летчиками…
Еще вопрос: о личной жизни, семье, счастье, карьере и долге. Семья – это очень хорошо, счастье – еще лучше, карьера тоже не мешает, долг – безусловно.
О чем я мечтаю? Ни о чем. Это я после школы мечтал – сыграть. А сейчас – о чем мечтал, то и сыграл. Современника сыграть не мечтаю – чем Чехов хуже? Меня не роль волнует. Я хочу самовыразиться в роли, прожить, как в последний раз.
Спрашивают, каких недостатков я не прощаю. Их много, не хочу перечислять. Но жадность… и отсутствие твердой позиции у человека, что ведет за собой очень много других пороков, когда он сам не знает не только того, чего он хочет от жизни, а когда он не имеет своего мнения или не может самостоятельно рассудить о предмете, о людях, о смысле жизни; когда он повторяет то, что ему когда-то понравилось, чему его научили, либо когда он просто неспособен к самостоятельному мышлению.
Я больше ценю в человеке творца, чем исполнителя, и поэтому не люблю актерскую профессию в чистом виде, потому что это профессия исполнительская и дамская – не в обиду будь сказано женщинам, ибо для женщин это профессия замечательная: всегда хорошо, красиво одеты, хорошо выглядят, поклонники и так далее. Но хорошо быть хорошей актрисой. А для мужчины все-таки в ней много отрицательных черт. Во-первых, это низшая ступень театрального искусства: всегда над тобой режиссер, потом автор, потом директор, потом начальство в министерстве, потом… господь бог. А актер – где-то там, внизу. Ему говорят: «Подите принесите…» Но у нас в Театре на Таганке дело обстоит немножечко по-другому, потому что в нашем театре больше демократизма и мы можем давать советы генералу во время боя, и он, если ему что нравится, берет. Так что актер принимает участие в постановке.
Многие из наших актеров – музыкально образованные люди, играют на разных инструментах, пишут музыку, стихи, прозу и инсценировки; есть среди нас и профессиональные композиторы. И из-за того, что так много вложено в это дело авторства актеров, то есть использовано их творческое хобби, – от этого дело становится дороже. Это всегда так: чем больше вкладываешь в дело, в человека, в ребенка, в любимую девушку – всегда становится дороже и ближе и это дело, и человек. Так в этом мире случилось: больше отдаешь – ценнее становится. Нормальному человеку свойственно больше отдавать, чем брать. Делать подарки приятней, чем получать, – правда, если есть возможность.
Поэтому у нас интересно работать, и правда эта летит через рампу, и когда вы придете в театр, вы убедитесь, что у нас никто не халтурит и не позволяет себе играть спустя рукава – только на технике. Всегда это – с потом, с кровью. Вы видите святой актерский пот и видите, что вам отдают все, что возможно, с полной отдачей, с напряжением всех физических и духовных сил. И из-за этого тоже так трудно попасть в наш театр, потому что так в нем играют.
В мужчине ценю сочетание доброты, силы и ума. Когда я надписываю фотографии пацанам, подросткам и даже детям – хоть это к делу не относится, – обязательно пишу ему: «Вырасти сильным, умным и добрым». А женщине я написал бы: «Будь умной, красивой и доброй».
Спрашивают, кем я себя преимущественно считаю: поэтом, актером или композитором.
Мне трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что сочетание тех жанров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сделать из них синтез, – может быть, это какой-нибудь новый вид искусства. Ведь каждое время дает новые виды. Не было же магнитофонов в XIX веке, была только бумага. А сейчас появилось телевидение. Так что я не могу вам впрямую ответить на этот вопрос. Может быть, все это будет называться в будущем каким-то одним словом. И тогда я вам скажу: «Я себя считаю этим-то». Но сейчас пока этого слова нет.
Я больше всего ценю аудиторию студенческую, морскую или летчицкую, потому что одни каждый раз рискуют, уходя туда; а другие очень долго без берега, без дома, это тоже накладывает отпечаток на их души, они более подвижны, а почему люблю студенческую аудиторию, объяснять даже не надо.
Люблю выступать перед физиками и моряками; не знаю почему, но так вот получилось: физики и моряки. Выступать в Черноголовке, в Дубне, в Серпухове, в Обнинске мне было очень интересно, потому что одновременно мне кое-что показывали. Я много бывал у моряков – пел на военных и гражданских кораблях, во всяких морских клубах, – и как ни странно, несмотря на такие расстояния и разницу в профессиях, реакции на песню в этих аудиториях весьма сходны – хоть в Москве, хоть во Владивостоке. Это происходит не оттого, что они одинаково воспринимают ту или иную песню, а просто эти люди с одинаковым интересом относятся к авторской песне.
Мне так мало надо, чтобы было хорошее настроение. Например, мне надо, чтобы во время моих выступлений была нормальная реакция на юмор. Есть места, где люди хотят только зубоскалить. Начинаешь показывать юмор, за которым обязательно есть что-то серьезное (иначе бы я об этом не писал), а люди его не хотят – хотят обязательно что-нибудь «эдакое».
Каковы мои литературные вкусы? Привязанности мои немногочисленны, а вкусы – определенные. Из теперешних, из «деревенщиков», что ли, я очень люблю Можаева, Абрамова, Белова; люблю Астафьева, Распутина, Трифонова. Люблю Булата за прозу. Поэзию люблю почти всю…
Любимое место в любимом городе? Самотека в Москве. Я долго прожил в Большом Каретном переулке, и там, неподалеку, было самое мое любимое место: около нового здания Театра кукол – тогда оно было просто кирпичной коробкой – и серого дома рядом. Весной, в первый день, когда чуть-чуть подтаивало и девочки уже начинали играть в классики, но еще не было слякоти, я сюда приходил и просто стоял, смотрел на проходящих мимо людей. Еще эстакады не было…
Я не пою со сцены песен из спектаклей. Они написаны для театра и смотрятся в контексте. Например, выйти и начать ни с того ни с сего петь белогвардейскую песню – это просто даже как-то смешно. А в спектакле «Десять дней…» она вставлена в картину «Логово контрреволюции» – сидят задавленные люди и поют про то, что вот как все плохо, что вся Россия для них погибла и что лучше застрелиться. Там это смотрится нормально.
Я продолжаю писать песни не только для театра и кино, но и для компании; и песни, которые можно исполнять в зрительном зале; и, конечно, песни, которые не имеет смысла исполнять перед зрителями, а можно спеть только дома: у всех есть такое сокровенное, что хочется сказать только дома жене и что никогда не скажешь в большой компании, – это совершенно естественно, абсолютно нормально.
Я никогда не пою на бис – это же, опять повторяю, не концерт. Я свою норму сегодня перевыполнил (спел примерно на 102 процента). Напрасно вы говорите, что мало, – просто я сегодня взял темп побыстрее, чем обычно. Можно было бы несколько песен назад уйти со сцены, покобениться там минуты три, снова выйти – дескать, вот какой я демократичный: «Высоцкий устал, его просили – он спел». Получается, что все знают, сколько они будут работать, только я один не знаю.
Спасибо за ваше долгое терпение, что вы после камерных голосов все-таки выдержали нашествие этого татаро-монгольского ига в лице моего голоса. Я хочу вам сказать еще об одном: у меня много песен. Я их, правда, никогда не считал, думаю, около тысячи. У меня много песен и стихов, которые никогда не исполнялись с эстрады, и мне пока есть что показывать. Но я все равно это перепеть не смогу за один раз, – чтобы все перепеть, нам с вами нужно где-нибудь запереться недели на две и сидеть там до упора. Это дело невозможное. Сегодня я постарался, чтобы каждому, независимо от возраста, профессии, вероисповедания, зарплаты, настроения и так далее, досталось по куску.
Я вас благодарю еще раз и с удовольствием буду к вам приезжать. У вас хорошие лица. Вы смеетесь, когда надо, серьезны тоже, когда надо, – в общем, вы сегодня делали все хорошо. Надеюсь, что и я тоже.
Я надеюсь, что, пока живу и пока могу двигать рукой, я буду продолжать писать песни. Если мои друзья будут того желать, я буду писать эти песни для их картин, для спектаклей, ну и, естественно, для своих друзей и знакомых. В общем, сколько буду жить – столько буду писать, потому что это одно из самых моих любимых занятий, авторская песня.
До новых встреч. Всего доброго. А я поехал сниматься.
Письма
22 июля 1954 года,
Адлер – Москва, В. Акимову
(Открытка)
Здравствуй, негодный!
Ты этого обращения заслуживаешь, так как провожать меня не пришел. Я уехал хорошо. Из Сочи приехал в Адлер, который находится от Хосты, где живет Толян, на 10 км, так что ты понимаешь, скучать я здесь не буду, тем более, что когда приедет батя, в начале августа, поеду жить в Сочи, а там грех скучать.
Море, вернее, на море я упал. Сегодня был 3-х-балльный шторм, и я купался, во-о-о какой я, поэл, пала.
В Адлере тоже есть кадры, довольно приличные. Ты скоро уходишь в поход, так что не пиши, я разрешаю. Передай огромный привет маме и дяде Ване.
Цел<ую>.
В. Выс<оцкий>.
<6 апреля 1958 или 1959 года>
Москва, Н. Высоцкой
(Открытка)
Мамулик! Если ты думаешь, что твой сын настолько невнимателен, что забыл, то ты ошибаешься. Сын твой тебя любит как очень хорошую, настоящую мать и поздравляет тебя с днем твоего …летия.
Вовка.
<Июль 1959 года> Москва,
П. Масальскому
(Записка)
Дорогой Павел Владимирович! Были у Вас Буров и Высоцкий. Хотели перед отъездом Вас повидать. Все остальные уже отдыхают или собираются. Передают Вам через нас большой привет и о здоровье беспокоятся. Дошли до нас слухи, что Вы себя неважно чувствуете, и вот сейчас расспросили – тоже, говорят, неважно. Но мы надеемся увидеть Вас 1-го сентября отдохнувшим и, как всегда, бодрым и веселым. Хотел и рассказать Вам о поездке, которая прошла в основном удачно. Были почти все 2 недели в районах Ступино – Подольск – Серпухов. Принимали хорошо. В одном отзыве написали даже, что мы «можем быть в прославленном МХАТе». Подробно расскажем по приезде.
Ваши студенты Буров, Высоцкий.
7 сентября 1960 года,
Москва – Грозный, В. Акимову
Ой ты гой еси, Володимир, свет Володимирович!
Дошел слух до нас, что ты стал грозой грозненских черкешенок, осетинок и одесситок. И что прилабуниваешься ты к звездам нашей отечественной кинематографии.
Мы с Васьком перед тобой злые вороги, ибо сукины мы дети, доселе письма тебе не написали. А потому начнем по порядочку.
Были мы в Риге. Город этот древний, но жизнь там дорогая, и Васечки прожили и прогуляли там души свои и шмотки. Я – рубашечку свою, а Гарик часики и плавочки нейлоновые.
Васечек приехал в столицу нашу с рублем в кармане и на одном полустанке продал авторучку, чтобы взять постельку и понежить тело свое бело и пьяное.
Я же остался в Риге играть массовку и репетировать. А потом тоже приехал в Москву. С Изой – женой моей – все в порядке, так что не переживай особо.
А в квартиру твою на Садово-Каретный, д. 20, поселили мы двух витязей на недолгий срок. Витязи из театра из моего, жить им негде, окромя вокзалов. Ведут они себя тихохонько, спят одемшись, уходят не умывшись, не охальничают, девок не насильничают, пьянки пьяные не устраивают. Соседи на них не нарадуются. Приедешь ты, и мы их все равно выгоним – рыцарей-то. Но… ежели ты против, мы могём и сейчас сказать. Но жаль витязей. Голодные они и бездомные. И опять же тихие и только ночуют. Соседка твоя Зинаида, кормилица наша, следит за ними неотступно.
В Москве ничего нового, погода серая, «Эрмитаж» работает, но нами не посещается, ибо я вечерами работаю, а Гарик хочет устроиться. Там сейчас грузинское «Рэро» болты болтают.
Я репетирую с утра и до вечера спектакль «Свиные хвостики». Название впечатляет. Пока не очень получается, но ни хрена.
Гришечка ублажает бабушек и дедушек на дачах, Мишечка же на телевидениях работы работает, декорации на тачках возит и все знает.
Целуем тебя в уста сахарные, друзья твои неизменные
Васечки.
20 февраля 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
Люсик! Уже я в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске. Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном – мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все миниатюрные артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. Поселили в гостинице «Большой Урал» в маленький номер с мизерными удобствами и с новым артистом Рудиным (бывший Зильберштейн). Он – ничего себе – тихий, слушает песни и не пахнет майором. Скоро пойдем на спектакль.
Теперь по порядку. Сели в поезд. Гарик приехал провожать. Рассказал, как ему тяжело, как он влюблен в демонстрационный зал ГУМа, как ему хорошо под татаро-монгольским игом, спел «Бабье лето», и я уехал. Все шло, как обычно: пьянь у мужиков (кроме меня), вязание у баб, гитара с песнями у меня. Все пленились блатными песнями, особливо «Татуировкой», звали выпить, но я придумал грандиозную версию: сказал, что у меня язва, печень, туберкулез, астения и перпетуум-мобиле. Отстали. Сосед мой по койке напился и ходил все утро больной. И я ему рассказал, как прогоняют колотунов. Прогнал и воспылал ко мне уважением. Спесивый я, правда?! Видел тебя во сне. И ведь понимаю, что бесперспективно, а пригрезилось. И баклажанная икра тоже. Бонд и мсё.
Лапик! Любимый! Не хулигань, не пей, не болей, не рожай и не переходи улицу в недозволенных местах, помни мои наказы и пиши. Целую.
Засим – с пожеланием счастья в твоей ярко цветущей жизни, с приветом к тебе
Вовка Высоцкий.
P. S. Привет всем родным и Ясуловичу с Харитоновым. Люсик! Пиши скорее! Город Свердловск, гост. «Большой Урал», № 464.
23 февраля 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
Люсик, Солнышко и лапик!
Послал тебе письмо и решил ждать ответа. Но… вотще, напрасно… так сказать, всуе! Никаких вестей. Ну а зря! Потому что и так скучно. Живу, как ведмедь сибирский, в отрыве от семьи и вообще стал похож на командировочного. Уже сыграно несколько спектаклей. (Кстати, недавно, вместо «спектакля» в разговоре сказал «концерт». Обида была кровная.) Я почти ничего не делаю и отбрыкиваюсь от вводов, потому что все-таки это не очень греет, и уйти уйду обязательно. А чтобы это было безболезненно – надо меньше быть занятым. Доллары все равно капают, так что чего уж там! Несмотря на это – умудряются каждый день занимать меня в репетициях, а вечером – спектакль, а после работы – «вытягивай члены, усталые члены, вытягивай, тяни!» Шуаны действительно смешные. Они там поют: «Да! Робеспьер капканы решил нам становить». Интересно, оказывается, «Моржовую девушку» написал Поляков. Очень обрадовался он, что я про нее чего-то знаю.
А вообще – гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни не пою и не пишу. Сосед мой – Рудин, как оказалось, пьесу пишет. Как Чехов, по 4 строчки в день. Утром мне эти строчки читает и сам глупо хихикает. Сегодня, например, разбудил и говорит: «Смотри, какой удачный диалог…
Она: «Он обязательно уйдет от Ольги!»
Он: «Нет! При ней заложником – его сын!»
Я со сна бываю злой, а при таком диалоге… Говорю, ты напиши: «При ней заложником его сукин сын!» Обиделся. Говорит: «Я тебя держал за интеллигентного человека». Еще пишет басни, но… пока не читал.
В театре – сеть интриг, есть тайные и явные общества и масонские ложи. Интриганы – вся женская половина и вся мужская, исключая меня. Я на особом положении, молчу, хожу тучей и не примыкаю. Все думают, что я выжидаю и еще себя покажу, а я не покажу вовсе. Все!
Люсик! Что ты – порождение обломовщины, это я знаю, но письма-то ты писать любишь! Сегодня день Советской Армии – сядь да напиши чего-нибудь про войну, что ли!!! У нас был шефский спектакль для солдат, сбивших Пауэрса. Им приказали: «Ладони и глотки не жалеть!» Уж они постарались! Никаких вопросов не задаю. Про все опиши. Ладно?
Солнышко! Я бумаге не доверяю хороших слов. Читай их между строк! Люблю тебя! И как-то не так без тебя. Целую, малыш!
P. S. Всем привет!
Вовка.
28 февраля 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
Люсик мой! Авиационная компания возмещает убытки. Она должна мне тоже компенсацию. У меня тоже лопнуло – только не грудь, а терпение. А оно мне стоит не дешево. Девять дней не было от тебя ничего. Передумал черт-те что. Звонил матери, – ее дома не было, а на работе сказали, что она 2 недели болеет. Думал, ты заходила. Звонил Акимову, хотел твоему папе, но телефона не помню.
Оказалось, что авиа идет дольше. Сегодня наконец получил твое письмо, и все стало на место. Малыш! Что ты была моложе – это еще можно представить, но насчет «лучше» – быть того не может. И стихи твои – великолепные, и вообще… И почему ты мне никогда не читаешь? И вообще я не знаю, какая ты артистка – кроме опуса в кино. Должно быть – хорошая. И что «Белые слоны», и что пантомима – ндравится мне. Рад за это дело. Пущай теперь хоть пол-института перевешаются!!!
Про себя мне писать нечего абсолютно. Целый день в делах – времени нет совсем, так что усталость одолевает. Кроме того – город такой – тусклый, время – на два часа быстрее. Организм дряхлеет. И, по теории относительности, я постарею лет на 19. А если ты будешь еще исчезать на недели (а для меня они как годы), то Энштейну и не снилось – как быстро я приду в негодность. Белы ручки-ножки исхудают, мозг высохнет, и мсё.
Репетируем «Сильное чувство», «Рычалова», а недавно дали мне Зощенко и «Корни капитализма». Почитай! Это уже репетировал парень, но у него не выходит. Так что кому-то наступаю на мозоль. Уже есть ненавистники. Но мне глубоко и много наплевать на все. Я молчу, беру суточные и думаю: «Ну-ну! Портите себе нервишки. А я маненько повременю!» И вообще, лапик, ничего хорошего, и ничего страшного. Серенькое. Одно хорошо, что все меньше и меньше дней до Москвы и до тебя. До тебя – прежде всего. Лапа! Сейчас в номере у меня открыта студия игры на гитаре. Пока бесплатно. Народ прет – очередь. Сейчас всего двое. Воспользовался этим и пишу, а иначе не будет времени. Извлекают из гитары звуки ужасные. Меня коробит. Могу зажать только одно ухо. Поэтому, может, письмо несуразное. Лапа! С юмором туго! В веселом театре «Миниатюр» – мрачные личности. И я сник. Песню хочу написать – не для кого и не выходит, а вымучивать неохота. Читаю всякую дрянь и газеты. Сегодня купил: «Физика звездного мира». Зачем?
Любимый мой! Малыш! Я всегда тебя помню, думаю о тебе. И со мной ты! Ты тоже иногда вспомни.
Целую. Привет всем. Пиши!
Вовка.
4 марта 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
- Как в старинной детской сказке, дай бог памяти,
- Колдуны, что немного добрее,
- Говорили: «Спать ложись, Иванушка,
- Утро вечера мудренее».
Это начало новой песни. Малыш! Дальше ничего не выходит. Сижу иногда до первых петухов – и дальше ни строчки. Думаю – лягу спать – утро вечера мудренее. А утром вставать трудно, особенно, если ночью тебя вижу – то как воплощение коварства, то как ангела божьего. От того и от другого утром грустно, потому что очень скучаю и не до песни. Но вот уже два утра подряд письма от тебя. От вчерашнего было мудренее, от сегодняшнего муторнее. Так захотел сейчас же бросить все – и в самолет, что до сих пор виски стучат.
Лапик мой! Любимый! Конечно, мы что-нибудь придумаем, и не «что-нибудь», а просто надо завязать с этим миниатюрным искусством и переиграть. Все будет хорошо, малыш! И вокзальные приключения больше не повторяй! Живот у бабы действительно, наверное, был большой! Про это тебе узнать, наверное, было необходимо! Все бы хорошо! Только на вокзале мысли были не так чтобы очень: и про 5–6 чужих жен, и про питье за твое здоровье. Я – отшельник, послушник, монах. Нет! Просто я – отец Сергий. Пальца, правда, не отрубил – не из-за кого. Солнышко! Все местные солнца, включая миниатюрных светил, – светят тускло, а ты – как Альфа Центавра из прочитанной мною книги «Магеллановы облака». Там звезда ужасно яркая и красивая.
Относительно алкоголя!!! Нет его и не предвидится. Если так пойдет дальше – государство начнет терпеть убытки. Вот!
Недавно принято было решение порадовать наших бабов 8-го марта капустником. Я чегой-то придумал. Но потом решили, что трудно ставить, и взяли кое-что. Я это к чему: там есть такая песня:
- Как хорошо ложиться одному —
- Часа так в 2, в 12 по-московски,
- И знать, что ты не должен никому,
- Ни с кем и никого, как В. Высоцкий.
Правда, это я написал, но ты можешь судить по этому о моей отрешенности. Если бы это не для капустника, то дальше было бы о том, как хорошо проснуться вдвоем с тобой, можно в Ленинграде, в «Выборгской». Ну ладно… хватит, а то спать не буду, начну стонать, разговаривать, а сосед мой блюдет режим, и этого он не любит.
Лапа! Сегодня послал тебе телеграмму – как мне звонить. Очень просто. Как на конверте адрес. Жду сегодня и завтра твоего звонка и вообще все время. Очень хочу услышать голос. А про увидеть – и говорить нечего. Наука шагнула бог знает куда, Свердловск производит бог знает что, стронций выпадает в виде снега, люди мрут, как в Швеции, а вот чтобы видеотелефон, так это бог знает когда!
Люсик! Уже прошла половина разлуки. Страшно хочу, чтобы она скорее пронеслась, и чтобы меня ты дождалась… Я дни считаю, уже считаю. Тебя, конечно, не забыл, люблю все так же, как любил.
Целую крепко много раз и обнимаю. Малышик мой! До свидания. Привет всем.
Вовка.
P. S. Нет! Еще хочу что-нибудь написать. Когда пишу, как будто разговариваю. Так. Я считаюсь очень крупный специалист-песенник, во всех областях этого жанра: блатной, обыкновенной и Окуджавы. Идут пачками, мешают мыслить, учатся, переписывают, перенимают. Уже один купил гитару. Хотят еще 3-е. Все взбесились! Я в растерянности. Поляков пугает: говорит, что тоже в тайниках души не прочь побаловаться старинным романсом. Говорит, что от них умирают не менее старинные женщины. Ужас! Платные уроки сделали бы меня миллионером. Я стал бы богаче Шагаловой. Но нет – я наш человек, я – задаром, я – такой, я – очень! Это все спесь. Для тебя немного похвастался.
И еще: хотят инсценировать мою «Татуировку». Сделать пародию на псевдолирику и псевдо же блатнянку. Я буду петь, а в это время будут играть то, что там есть, например: «Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху, и гляжу, гляжу часами на тебя!» Актер, играющий Лешу, рвет на груди рубаху – там нарисована женщина-вампир, или русалка, или сфинкс, или вообще бог знает что. Другой становится на колени, плачет, раздирает лицо и глядит, а сзади часы – стрелки крутятся. Можно, чтобы он глядел 7, 8, 9, 10, 11, 12 (больше нельзя) часов. Так всю песню можно сделать. Но это – проект. И потом – мне немного жаль Алешу, Валю и самого, у кого душа исколота снутри.
Здесь – спартакиада проходит. Вот бы сюда твоих маму и папу. Они бы уж! Я, мне до лампочки. Ходят они табунами в каких-то хлорвиниловых куртках всевозможных ярких грузинских цветов и едят по талонам. Ресторан закрыли. Там их кормят. А артисты, туристы и обыватели – пусть их с голоду помирают.
Холодно, но не очень. Пиджак пришел в ветхость, брюки в гриме, лицо чистое, тело белое, волосы чистые, душа – в тоске.
Нет! Наверное, сегодня не позвонишь! А вдруг! Еще буду ждать.
Лапик! В гостинице есть душ, в подвале. Горячей воды нет. Все намыливаются и так и ходят. Хочу кофе, в Москву и больше всего – тебя. Интересно, правда, позвонишь ты или нет? И что ты сейчас делаешь? И какая ты? Я читаю Тэффи – любопытно. Завтра 3 спектакля. Гоним рубли, разоряем Мосэстраду.
Теперь все.
Люблю.
Я – Высоцкий Владимир Семенович, по паспорту и в душе русский, женат, разведусь, обменяю комнату, буду с тобой, хочу всегда, 24 года от роду. Влюблен. В тебя.
Высоцк<ий>.
8 марта 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
Люсик! Как все надоело!!! Разговоры об одном и том же со стороны и артистов, и режиссуры. Артисты всё про деньги, и про налоги, и про кто сколько получит, режиссер про Вахтангова и про систему Станиславского. Из-за таких-то и считают эту систему какой-то скукой. А так как ко всему этому – своему миниатюрному периоду – отношусь несерьезно, – вдвойне раздражает все. Мать сегодня жалостливое письмо прислала. Я наперед знал, что там будет. Так и оказалось: что ей осталось мало, что больна, что экономит, что нечего надеть и чтобы я ей не звонил, потому что это-де – лишние расходы.
Все это правильно, но скучно. Получил твое письмо. Про педагогическую деятельность. Четверг – бог с ним, а воскресенье – жаль. Французы – это, конечно, интересно. И почему это у тебя все расклеились? Прикажи, чтобы хватит. Передай всем, что мне их тоже не хватает. А недавно рассказывал бабушкину лекцию по травополью. Поразил обилием знаний во всех областях.
Малыш! Видимо, буду числа 21-го, если вылечу самолетом. Раньше ничего не выйдет. Все измотались, как собаки, но пыл стяжательства развит здесь беспредельно. Культ здесь – ставка с четвертью.
Эстраду называют шарагой и все время говорят: «Да! Тяжелый хлеб в шараге». Еще бытует выражение: «Старайся быть красивей! Молчи!» Еще: «Отдохнешь!» Это когда взаймы просят. Обыватель действует на нервы, как говорит Саша Кузнецов – единственный здесь стоящий человек с длинной кличкой: «Повесть о настоящем человеке». Клички имеют все. Есть неприличные. Я пока еще – Володя. Кстати, Саня тебя знает. Узнал по фотографии. Поудивлялись, как тесен мир.
Вот!
Солнышко! Я знаю – письмо совсем никакое. А ты, лапик, все равно все понимаешь. Ты умный, и я тебя люблю.
Еще ты – красивая!!! А у меня просто не очень веселое настроение. Было очень здорово, когда ты позвонила. И три дня пребывал в состоянии духа. Завтра 8 марта. Я не забыл. Хотя не очень люблю поздравлять с этим праздником. Очень он солидарный и охватывает всех баб на земле. А среди них не так много стоящих. И мне не хочется тебя с нестоящими отождествлять. Здесь все готовятся, мужики уже с сегодняшнего вечера стали болезненно галантными. Здесь партконференция и почему-то торгуют польской косметикой. Все хватали! Я попросил, и мне схватили: мыло, пудры и огуречный крем. Привезу. Если забракуешь, разбавим крем и сделаем рассол, мыло подарим дедушке.
Люсик! Люблю только тебя. Целую, малыш!
Вовка.
P. S. Всем привет.
<После 4 марта 1962 года>
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
(Текст для телеграммы)
[День премьеры поздравляю]
Слежу театром пантомимы из газет и тобою вдвойне.
Целую, люблю.
Володя.
9 июля 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
Люсик! Любимый, здравствуй! Очень долго не писал тебе, и не потому что нехороший человек, а было тому 2 причины. Во-первых, ждал каждый день телеграмму с вызовом и хотел тебе сюрприз, а потом, чтобы у тебя немного стерлось впечатление от меня, потому что, надо прямо сказать, распрощались мы с тобой, как на 39-й год фиктивного брака.
Теперь вроде с приездами не получится, видимо, не выгорело, и письма к тебе, лапик, потекут беспрерывным бурным потоком.
В поезд сел и сразу вдарился в размышления. Попутчики мои всячески визжали и мешали. Поразмыслив, съел курицу и что-то почувствовал, но не обратил внимания, потом прислушался к себе и обратил. Словом, отравился я этой курицей, вот что! И Юрка Горобец тоже. Он мучился, потому уснул, а наутро чуть не помер. А я соды раздобыл, воды, но тоже страдал дня 2.
А дальше? Описанная мною трагедия и есть самое основное из событий после моего отъезда.
Правда, был дебют в «Дневнике женщины». Играл! Сказали, что я так и буду играть и в Москве тоже. Поздравляли, Гриценко вчера тоже глядела, обревелась вся, как всегда, а роль комедийная. Поздравляла тоже. Вроде и народу, то есть зрителям, тоже не очень противно. А потом начал активно выпадать радиоактивный дождь и тот же самый стронций-90. Выпадал неделю. Из них 3 дня – не переставая. Сегодня как будто кончился. Передай маме, что если бы не кожанка, я давно бы с лучевой болезнью лежал и угасал, и кто-то вынужден был бы давать мне костный мозг для инъекции.
Люсик! А как ты? Что делаешь? И главное, как здоровье твое пошатнувшееся? Окружила ли ты себя заботой врачей или еще нет?!
Малыш! Всякие слова были сказаны, и про то, что не напишешь, тоже!
Напиши! Ну хотя бы страниц 8. Ты ведь любишь иногда коротко! Чего делают пантомимы? Да и вообще, про все. Я звонил матери своей, думал, может быть, ты тоже звонила. Нет. В номере у меня еще Стрельников. Он засымается в каком-то кино. Начали друг другу порядком надоедать. Все артисты обезумели и обалдели. Телевидение и радио разорены. Театр Пушкина ограбил все общественные организации и всех рядовых свердловчан.
Я валяюсь в номере, читаю газеты, общественную, политическую и художественную литературу. Все это в паузах, потому что все время мыслю и думаю. Все больше о тебе.
Малышик! Напиши! Очень жду. Скучаю. Тоже очень. Целую и люблю!
Володя.
Всем громадный привет! Как они там?
<11> июля 1962 года,
Свердловск – Москва, Л. Абрамовой
Солнышко! Не дожидаюсь ответа от тебя. Видимо, письмо еще не дошло. До чего же здесь гнусно. Кто может жить – здесь – тот ежеминутно совершает подвиг. Теперь я понял, откуда появляются «котовщики». Сегодня у меня первый свободный день. Делать нечего абсолютно. Читаю. И это надоедает. Очень беспокоюсь, как ты там. Ничего не знаю. Но… сам долго не писал, поэтому пеняю на себя. Когда получу от тебя письмо, – буду носиться с ним по улице, как со знаменем. Сегодня с горя опять глядел «Покой нам только снится». Сидел в оркестре. Это впереди самого первого ряда. Ничего не слышал. Разозлился и ушел. Театр гонит большие рубли, поэтому играем в оперном. Все надорвали глотки и колют пенициллин. Я три дня болел ангиной и тоже колол, но играл по 2 спектакля в день. Вообще, за 10 дней сыграл 7 спектаклей. От скуки развил страшное хулиганство в «Лешем». Пою на сцене свои песни. Дети недоумевают.