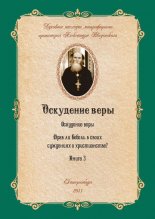Голос крови Вулф Том
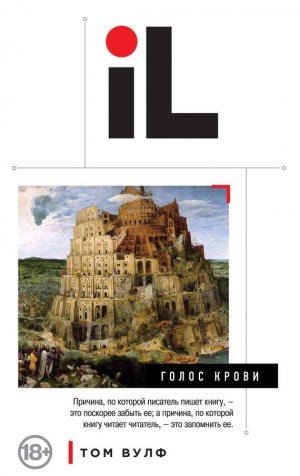
– Да, да. Кажется, знаком.
Вообще-то, он точно знает, что незнаком с Сереной Джонс. Но имя ему откуда-то помнится… не из колонки ли в «Геральде»? Важные англо с обычными фамилиями типа Смит или Джонс любят давать детям, особенно дочерям, романтические или экзотические имена: Серена, Корнелия, Беттина, а еще имена из генеалогии старинных родов: Брэдли, Эйнсли, Локсли, Тейлор или Темплтон. У Лантье как-то была студентка по имени Темплтон, Темплтон Смит. Не какая-нибудь серая мышка мисс Смит, о нет. Она была Темплтон Смит. Лантье видит главное: знатные семьи или пытающиеся выбиться в знать. «Саус-Бич фонд» – та организация, что постоянно мелькает на страницах «Геральд» и в рубрике «Светская жизнь» журнала «Оушен-Драйв», виной чему общественный вес фамилий в списке ее участников. Только глянуть на фотографии – англос, англос, англос со здоровым налетом светскости. Николь, подруга, с которой Жислен познакомилась в университете, не была в строгом смысле WASP, как понимал эту аббревиатуру Лантье, то есть «белый, англосакс, протестант». Но в случае Николь придираться не стоит. Ее фамилия Бюйтенхей, голландская, а Бюйтенхеи – это старые нью-йоркские богатеи, аристократия. Известно ли им, что Жислен – гаитянка, Ланьте понятия не имеет. Важно другое: они приняли ее как человека своего круга. Объявленная задача «Саус-Бич фонд» – помогать бедным семьям в городских трущобах вроде Овертауна и Либерти-сити – и Маленького Гаити! В общем, люди из фонда считают Жислен такой же белой, как они сами! Такой белой, какой считал ее он, ее отец! И это будет триумф, когда Жислен придет работать с бедняками из Маленького Гаити. Огромное большинство тамошних обитателей – черные, настоящие черные, без оговорок. На Гаити семьи вроде Лантье даже не глядят на такой черный народец. Не тратят на него взглядов, просто не замечают… если те не стоят прямо на пути. Образованные люди типа Лантье с его докторской степенью во французской словесности – словно другой подвид Homo sapiens. Здесь, в Майами, они считают себя частью диаспоры… само это слово означает высокий статус. Сколько – половина? две трети? – гаитянцев, осевших в Майми, – нелегалы, и к ним это слово неприменимо никаким боком. Почти никто из них и не слыхивал ни о какой «диаспоре»… а если и встречал это слово, то не имел понятия, что оно значит… а если и знал, то не умел произносить.
Жислен – он снова смотрит на нее. Он ее обожает. Она прекрасна, восхитительна! Скоро она окончит Университет Майами по специальности «история искусств» со средним баллом три и восемь. Она легко могла бы… сойти… Он прятал это слово, «сойти», в глубине сознания, где-то под боковым коленчатым телом… Никогда не произносил его вслух при Жислен… да и ни при ком, еси уж на то пошло. Но он говорил ей, и не раз, что перед ней никаких препятствий. Он надеется, что она поняла его… и в этом смысле. В каких-то вещах она отнюдь не невинна – например, когда говорит об искусстве. Возьми хоть эпоху Джотто, хоть Ватто, хоть Пикассо или Бугро, раз на то пошло, – она так много знает! Но в других отношениях она сама наивность. В ней нет ни грана иронии, сарказма, цинизма, неверия или презрения, этих свойственных умным людям черт тарантула, злобной мелкой твари, убийцы, который никогда не сражается… а лишь выжидает момента свирепо ужалить и, если получится, прикончить жертву одним укусом.:::::: Во мне самом этого слишком много.:::::: Они садятся. Жислен – на кальвиновский стульчик. Лантье – за стол. Стол с ардекошной крышкой в форме почки, с балюстрадкой, подложкой из акульей кожи, изящно сужающимися наголенниками на ножках, зубцами из слоновой кости по краю столешницы и вертикальными прожилинами слоновой кости, бегущими сквозь эбеновое дерево, стиль Рульманна, и хотя работа не самого Эмиль-Жака, все равно очень дорогой, на взгляд Лантье. И очень дорогой стул – с сужающимися плашками из слоновой кости на каждом из четырех наголенников… Все очень дорогое… но Лантье все еще в головокружительной безоглядной эйфории от недавней покупки дома, который ему бешено не по карману. Какое значение на этом фоне имеет нездорово высокая цена стола и стула?
Жислен сидит на своем жалком стульчике, удерживая идеальную осанку… без напряжения. Лантье старается увидеть ее, насколько возможно, беспристрастно. Ему не хочется обманываться. Требовать от дочери невозможного… У нее изящная тонкая фигура, красивые ноги. Должно быть, она и сама это понимает: Жислен редко ходит в джинсах, как и вообще в брюках. Сейчас на ней табачного цвета юбка – из какого материала, Лантье не имеет представления – короткая, но не катастрофически… прелестная шелковая – или ему показалось шелковой – блузка с длинным рукавом – на груди расстегнутая, но не так низко… От Жислен слова «блузка» никто не слышал, но Лантье сказал бы именно так. Открытый ворот приобнимает идеально стройную шею.
А лицо – тут Лантье трудно сохранить объективность. Тут ему хочется смотреть на Жислен как на дочь.
Сам он терпеть не может, когда девочки приходят на занятия в джинсах. Они выглядят так заурядно. Лантье подозревает, что половине из них просто больше нечем прикрыть наготу ниже пояса. И потому ничего не может поделать. Но чертовы бейсболки, в которых приходят на занятия парни, – против этой детсадовской моды Лантье принял меры. Однажды в начале лекции он сказал:
– Мистер Рамирес, где вы берете шапочки, как сейчас на вас? С такими вот застежками на боку?.. И мистер Страдмайе, вашу, что так спускается по затылку, а спереди имеет небольшой разрез, сквозь который мы видим участок вашего лба. Такие выпускают или вы их шьете на заказ?
Но мистер Рамирес и мистер Страдмайе в ответ лишь хмыкали от смеха, а класс, даже девочки, не реагировал вообще. Ирония их не пробивала. И на следующее занятие те двое и многие другие опять пришли в своих детсадовских бейсболках. Тогда Лантье объявил:
– Леди и джентльмены, с этой минуты никакие кепки и прочие головные уборы в этой аудитории носить не разрешается, если только вы не религиозный ортодокс. Я внятно объяснил? Всякого, кто не согласен снимать в аудитории кепку, мне придется отправить в кабинет директора.
Но до них и тогда не дошло. Они только переглядывались… озадаченно. Про себя он сказал: «Директор – понятно? Директор – это в школе, а не в колледже, а здесь колледж. Но вы не понимаете иронии, так? Вы дети! Что вы здесь делаете? Посмотрите на себя… Тут не только бейсболки, тут и шорты, и шлепанцы, и футболки навыпуск, чуть не до колена, у некоторых. Вы регрессировали! Вам снова по десять лет!» Ну, по крайней мере, в бейсболках на занятия больше не ходят. Может, подумали, что в университете правда есть директор… И я должен обучать этих полуидиотов…
Нет, Жислен ничего такого сообщать не нужно. Ее покоробит. Она не ждет от него… снобизма. Она в таком возрасте, двадцать один год, когда сердце девушки до краев переполнено сочувствием и любовью к маленькому человеку. Она еще слишком юна и наивна, чтобы сообщать ей, что сострадание к бедным под маркой «Саус-Бич фонда» – на самом деле роскошь для публики ее круга. Только если у семьи есть деньги и положение, ты можешь позволить себе Добрые Дела. Не то чтобы он много зарабатывал, преподавая французскую словесность в ВУЭ, Всемирном университете Эверглейдс. Но он интеллектуал, ученый… и писатель… во всяком случае, успел опубликовать двадцать четыре статьи в научных журналах и одну книгу. По крайней мере, книга и статьи придают Лантье достаточно веса, чтобы выдвинуть Жислен на уровень «Саус-Бич фонда»… Моя дочь помогает бедным!..
Про «Саус-Бич фонд» слышали все. В нем работали даже некоторые знаменитости: Бет Кархарт, Дженни Рингер.
Лантье смотрит через плечо Жислен в окно… в пространство… с печальным лицом. Он сам почти такой же светлокожий, как дочь. Он мог бы делать то, что она будет делать сейчас, ведь мог бы… но про него было известно, что он гаитянец. За это его вообще-то и пригласили в ВЭУ. Им там захотелось «для разнообразия» взять гаитянца… с докторской степенью Колумбийского университета… который будет преподавать французский… и креольский. Да-да, креольский… им страсть как хотелось профессора, который будет преподавать креольский… «язык народа»… наверное, процентов восемьдесят пять его соплеменников говорили на креольском, и только на нем. Остальные говорили на официальном государственном французском, и лишь немногие из этих счастливых пятнадцати процентов говорили на мешанине из креольского с французским. Лантье взял за правило, чтобы в доме все говорили только по-французски. Для Жислен это стало второй натурой. Но вот ее брата Филиппа, хотя ему всего пятнадцать, уже тронула зараза. Он довольно неплохо изъясняется по-французски, пока разговор не выходит за пределы кругозора одиннадцатидвенадцатилетнего ребенка. А дальше переходит на язык, не многим лучше «черного английского», а именно на креольский. И где он только ему научился? Только не дома, это точно… Креольский – язык для первобытных! Уж тут двух мнений быть не может! В нем даже не спрягаются глаголы. Не «я давал, я даю, я буду давать, должен давать, дал, дам…» По-креольски есть только m ba, вот и все формы этого глагола. «Даю, даю, даю»… А время и модальность ты сам выводишь из контекста. Преподавать креольский в университете – это или «показные траты», по определению Веблена, или одна из бесконечных уродливых гримас так называемой политкорректности. Все равно что включать в программу курс выродившегося майанского диалекта, на котором говорят высоко в горах Гватемалы, и нанимать преподавателей.
Все эти мысли в одно мгновение проносятся в голове Лантье.
И вот он уже смотрит в лицо Жислен. Улыбается… стараясь не показать, что пытается… объективно… оценить ее черты. Кожа у нее белее, чем у большинства белых людей. Едва Жислен начала вообще понимать слова, Луизетта стала рассказывать ей о солнечных днях. Прямые солнечные лучи вредны для твоей кожи. Боже упаси принимать солнечные ванны. Даже просто выходить на солнце – уже слишком большой риск. Нужно прятать лицо под широкими соломенными шляпами. Еще лучше зонтик. Правда, детишкам не очень-то удобно справляться с зонтиками. Но все же если на улице солнце, то хотя бы соломенная шляпка нужна обязательно. Ей всегда нужно помнить, что у нее красивая, но нежная кожа, которая легко сгорает, и всячески избегать солнечных ожогов. Но Жислен во всем разобралась очень быстро. Дело совсем не в ожогах… дело в загаре. На солнце кожа, как у нее, чудесная кожа белее белого, потемнеет только так! Оглянуться не успеешь, превратишься в нега… и все дела. Волосы у нее были чернее черного, но, слава богу без намека на кудри. Может, немного жестковаты, зато прямые. О губах Жислен Луизетта говорить не любила: они ближе скорее к цвету чая, чем к алому. Но все равно прелестные губы. И нос идеальной формы. Ну… эта жирноватая волокнистая ткань, что покрывает крыльные хрящи и дает эти круглые небольшие всхолмия по бокам носа, над ноздрями – о, крыльные хрящи, определенно! Лантье знает предмет не хуже любого анатома. Уж можете ему поверить! У Жислен эти хрящи раздаются чуть шире, чем нужно, но не так широко, чтобы она не выглядела белой. Хотя подбородок не помешал бы покрупнее, а челюсть поквадратнее – уравновесить эти небольшие круглые всхолмия. Глаза у Жислен антрацитово-черные, но большие и искристые. Искристость эта, конечно, по большей части от характера. Жислен – счастливая девушка. Луизетта воспитала ее смелой и уверенной в себе.
:::::: Эх, Луизетта! Думаю о тебе и вот-вот расплачусь! Сколько таких минут у меня каждый день! Не потому ли я так обожаю Жислен – глядя на нее, вижу тебя? Хотя нет, ведь я любил ее не меньше и пока ты была с нами. Мужчина не начинает жить, пока не родит первого ребенка. Встречаешь собственную душу в глазах другого человека и любишь его пуще себя, и это возвышающее чувство!:::::: Жислен выросла с той верой в себя, какая бывает, если родители проводят с ребенком много времени – по-настоящему много. Может, кто-то скажет, что девушка вроде Жислен, крепко привязанная к семье, должна, поступив в колледж, поскорее понять, что в жизни ей предстоит постоянно сталкиваться с незнакомыми ситуациями и самой разбираться, как быть. Лантье не согласен. Весь этот треп про «ситуации», «разбираться», незнакомое то да незнакомое это – пустая болтовня. Псевдопсихологические сотрясания воздуха. Для него главное, что кампус Университета Майами находится в двадцати минутах ходу от их дома. В любом другом университете Жислен будет «девочкой-гаитянкой». Да, это выяснится, но здесь она хотя бы не просто «та гаитяночка, с которой мы живем в комнате» и вообще избежала той ловушки, когда «признавая себя кем-то, ты, очевидно, не можешь быть кем-то иным». Здесь она может быть тем, кто она есть и кем стала. Жислен – очаровательная молодая женщина… В тот самый момент, когда эти слова звучат в его голове, Лантье понимает, что поместил дочь во второй сорт. Она не так прекрасна, как североевропейские блондинки: эстонки, латышки, норвежки или русские, и ее никто не примет за латинскую красавицу, хотя есть в ее чертах что-то и от латины. Нет, Жислен – та, кто она есть. Самый облик ее, сидящей на этом жалком стульчике с такой царственной осанкой – Луизетта! ты постаралась, чтобы Жислен и Филипп приобрели правильную осанку в том возрасте, пока не начали сомневаться, что это вообще нужно! Лантье хочется встать со своего вертящегося кресла, сработанного безымянным французом, шагнуть к Жислен и немедля обнять ее. «Саус-Бич фонд»! Так здорово, что даже не верится.
А это кто там?
Дверь в кабинет закрыта, но Лантье с Жислен одновременно посмотрели на боковую дверь, которая ведет на кухню. Два человека поднимаются по короткой, в четыре-пять ступеней, лесенке, что ведет к двери с той стороны. Филипп? Но в школе «Ли де Форест», где он учится, занятия не окончатся еще два часа с лишним. Голос похож на Филиппа – но говорит по-креольски. По-креольски!
Второй голос:
– Eske men papa ou? (Твой отец дома?)
Первый отвечает:
– No, li inivsite. Pa di anyen, okay? (Нет, он в университете. Слушай, мы никому не расскажем про это, договорились?)
Второй голос:
– Mwen konnen. (Я знаю.)
Первый голос говорит по-креольски:
– Отец, он не любит таких ребят, но ему незачем знать, что случилось. Сечешь, бро?
– Он и меня не любит, Филипп.
– С чего ты взял? Он мне ничо не говорил.
– Дык он и мне ничего не говорил тоже. Это не надо. И так понятно: по тому, как он на меня смотрит – или не смотрит. Как будто мимо смотрит, кабутта меня нет. Сечешь?
Лантье смотрит на Жислен. Выходит, все же Филипп.:::::: Филипп и его чернокожий гаитянский дружок, прости господи, Антуан.:::::: И Антуан прав. Лантье не нравится ни видеть его, ни говорить с ним. Парень вечно корчит крутого и говорит на чистейшем неговском английском, слог в слог и звук в звук как неграмотные с семьюдесятью пятью пунктами ай-кью. А если неговский требует слишком большого лингвистического усилия, переходит на креольский. Антуан из тех черных как ночь гаитянцев – а таким несть числа, – что говорят tablo, «стол» по-креольски, и ни сном ни духом не догадываются, что это слово имеет отношение к la table, французскому имени стола.
У Жислен такой вид, будто она сделала глубокий вдох и боится выдыхать. Явно сильно встревожилась. Но, конечно, не слова мальчиков ее так напугали, ведь по-креольски Жислен не знает почти ничего. Ее насторожило, что Филипп вообще чирикает по-креольски chez Lantier – и в пределах слышимости Pre Лантье, – и вдобавок со своим черным-пречерным гаитянским дружком, которого папа не может терпеть в доме, не выносит, когда тот дышит здесь… выдыхая заразу, превращая франко-мулатский воздух в неговский.
Вот креольские мальчики уже на кухне, хлопают дверцей холодильника, бренчат ящичками и дверцами буфета. Жислен встает и идет к двери, несомненно, чтобы распахнуть ее и показать мальчикам, что они не одни в доме. Но Лантье знаком показывает ей сесть и прижимает палец к губам. Неохотно и нервно она садится на место.
Антуан говорит по-креольски:
– Видал, какая рожа у него была, когда копы его под руки?
Филипп пытается говорить необычным низким голосом, но дает петуха. Сдавшись, отвечает, все так же по-креольски:
– Они же ему ничего не сделают, как думаешь?
– Не зна, – говорит Антуан. – Щас главное Франсуа. Он и так уже на поруках. Надо выручать Франсуа. Ты же пойдешь с нами, да? Франсуа, он на тебя рассчитывает. Вот тебя допрашивает коп. Что скажешь, бро?
– Э-ы… Я скажу… Я скажу, что Франсуа что-то сказал по-креольски и все засмеялись, а Эстевес, ну, зажал его за шею.
– Точно?
– Э-ы… Ну да.
– Франсуа что-нибудь сделал первым?
– Ы-э-э… нет. Я не видел, чтобы он первым что-то сделал, – не сдается Филипп.
– Говори только «нет», и все, – наставляет его Антуан. – Сечешь? Никого не парит, что ты там не видел. Франсуа сказал, что ты ему нужен, чувак. Братаны, а не просто так. Он рассчитывает на тебя, чувак. Плохо будет, если ты неуверенно говоришь. Понимаешь, чувак. Сечешь? Тут ты покажешь, что ты – бро или чмо. Понял?
«Бро» и «чмо» Антуан произнес по-английски.
– Понял, – говорит Филипп.
– Четко. Ты будешь четким братаном, чувак! Ты будешь четким братаном!
Антуан говорит почти с ликованием.
– Ты знаешь Патрика? Андре? Жана, толстяка Жана? Эрве? Они тоже четкие братаны!
Опять ликование.
– И они не в банде. Но они знают, чувак! Они знают, что Эстевес сделал Франсуа. У них без всяких «если не ошибаюсь» и прочей туфты. Они отличные братаны!
Ликование вот-вот превратится в смех – над Филиппом.
– Как и ты, бро!
Профессор Лантье смотрит на дочь. Она не понимает, о чем говорили мальчики: слишком быстрая креольская речь. Хороший знак. Креольский для нее – по-настоящему чужой язык! Лантье с Луизеттой направили Жислен верным путем! Ни одна гаитянка – про себя он сказал это по-французски, une Haitian, «юн айитен», – не смогла бы сидеть так элегантно на этом стульчике. Жислен француженка. Такова она по крови: фактически молодая француженка de le monde, ухоженная, умница, красавица – но почему тогда его взгляд цепляется за эти небольшие жирно-рыхлые всхолмия по бокам от ее ноздрей? – уравновешенная, изысканная, во всяком случае, когда ей того захочется.
Глухим шепотом, почти беззвучно, он сообщает своей, к счастью, не креологоворящей дочери:
– Сегодня в школе что-то произошло, я так понял. На занятиях у него в классе.
Мальчики идут к дверям кабинета, и все время говорит Антуан.
Тогда Лантье поднимается с места, распахивает дверь и бодро объявляет по-французски:
– Филипп. Я услышал твой голос. Ты сегодня рано из школы!
У Филиппа такое лицо, будто его застали… за каким-то совсем не похвальным занятием. То же самое с его другом Антуаном. Антуан – хулиганистый с виду паренек, крепкий, но не толтый. В эту секунду у него на лице написано, что ему чрезвычайно хочется развернуться кругом и дать деру. Какие они оба неряхи!.. Джинсы едва держатся на бедрах, так что поневоле видишь яркие семейные трусы… очевидно, чем сильнее торчат трусы и чем они ярче, тем у этих ребят считается круче. Штанины у обоих заканчиваются лужицами джинсы на полу, скрывающей кеды с переплетающимися яркими люминесцентными полосами… оба в слишком больших мешковатых футболках, рукава скрывают локти, а сзади край выдернут из джинсов, но висит не настолько низко, чтобы не было видно этих ужасных трусов… на головах – банданы, «в цветах» того организованного братства, которому Филипп с Антуаном принадлежат. От их обличья – самые натуральные американские неги, какие только могут быть – Лантье передергивает. Но он заставляет себя удерживать натянутую на лицо приветливую улыбочку и по-французски обращается к Антуану:
– Что ж, Антуан… Давненько ты нам не наносил визитов. А я как раз спрашиваю Филиппа: почему вы сегодня так рано освободились из школы?
– Папа! – глухо ахает Жислен.
Лантье в тот же миг жалеет о своих словах. Жислен поверить не может, что ее отец, которым она так восхищается, способен на такую низость: дразнить этого бестолкового пятнадцатилетнего беднягу, чтобы порадоваться на его обалдевшую физиономию. Отец знает, что Антуан вообще не понимает французского, официального языка той страны, где рос до восьми лет. Отец просто хочет показать ей (и Филиппу заодно), насколько с особыми запросами – эвфемизм, употребляемый в государственных школах, – насколько с особыми запросами мозги у этого черного как ночь паренька. Но ведь, в конце концов, не сам он захотел таким родиться. Дурная кровь досталась ему без его ведома. Жислен не верится, что отец добавил еще вопрос для вящего унижения. Антуану не с руки стоять и кивать болваном. Он должен что-нибудь сказать: ну хотя бы: «Я не говорю по-французски». Но нет, малый стоит столбом, отвесив челюсть.
Лантье видит глаза дочери, и ему становится стыдно. Ему хочется поправить дело, спросив Антуана еще раз, так, чтобы он мог понять, и с удвоенной приветливостью, показать, что Лантье не хотел над ним смеяться. И он повторяет свои слова по-английски. Провалиться ему, если он опустится до скверны креольского, чтобы непонятно чего ради облегчить жизнь какому-то подростку с грязной кровью, но свои слова Лантье окутывает плотными клубами дружелюбия и рассыпает нездорово широкие улыбки:::::: Merde! Не перебарщиваю ли я? Чего доброго, этот здоровый олух поймет, что я над ним смеюсь?:::::: Наконец Лантье договаривает – по-английски:
– …как раз спрашиваю Филиппа: почему вы сегодня так рано освободились из школы?
Антуан оборачивается к Филиппу за подсказкой. Филипп медленно и небрежно кивает. Антуан явно не понимает этого сигнала… неловкое молчание.
Наконец он говорит:
– Ну просто сказали… прос сказали… Не зна… Сказали, сегодня школа пораньше закончится.
– Но не сказали почему?
На этот раз Антуан поворачивается на добрых девяносто градусов, чтобы лучше видеть, не подаст ли Филипп какого знака… хоть какого-нибудь знака, что отвечать. Но Филипп не понимает его движения, и Антуан хватается за проверенное «не зна».
– Так не сказали?
Парень явно не хочет говорить, в чем дело, и это интригует Лантье… слегка… Но дело не только в этом: этот пятнадцатилетний гаитянский подросток, как видит Лантье, пытается изображать невежественного американского нега. И наконец мямлит:
– Не.
«Не»… ну и спектакль!.. Какой отличный артист! Антуан снова полностью разворачивается лицом к Филиппу. Вся его поза – сгорбленная спина, руки, бессильно повисшие вдоль бедер, – сигнализирует: «Спасай!»
А это что? На затылке у Антуана волосы коротко срезаны машинкой, и в них тщательно выбриты буква C и в дюйме от нее – цифра 4.
– А что значит «Си-4»? – спрашивает Лантье, все еще не бросая напускного радушия. – Я заметил у тебя на затылке букву «си» и четверку.
Жислен опять ахает:
– Папа-а!
Лантье улыбается Антуану, старясь изобразить дружеское любопытство. Но трюк не срабатывает. И он слышит, как Жислен выдыхает:
– О-о-о боже!
Антуан оборачивается и смотрит на Лантье с яростной ненавистью.
– Ниче не значит. Это просто наша компания, мы в си-четыре («си чътэээре»), да и все…
Жестоко униженный… злющий. Лучше больше не спрашивай про это.
Лантье не знает, что сказать. Понятно, что тему Си-4 развивать не стоит. Тогда он обращается к Филиппу:
– Рановато ты сегодня…
– Ты тоже, – перебивает Филипп.
Заносчивый взбрык, конечно же, должен произвести впечатление на Антуана. Что ж, Лантье тоже впечатлен, еще как: непростительная наглость, слишком дерзкое оскорбление, чтобы спускать…
Но вмешивается Жислен:
– О-ох-х, папа…
В этот раз интонация умоляющая: не отвечай. Не унижай Филиппа на глазах Антуана.
Лантье смотрит на мальчишек. Антуан – черный… во всех смыслах. Но для Филиппа еще не все потеряно. Он ровно такой же светлый, как Лантье… самой малости не хватает сойти… но не настолько черный, чтобы не считаться почти-белым-человеком. Что понадобится? Ничего невозможного… развитая речь, благородный выговор… по-английски идеально было бы говорить с легким французским акцентом, или итальянским, или испанским, даже немецким или русским, о, с русским – отлично… не повредит, если акцент будет напоминать о связях семьи с нормандскими аристократами де Лантье из прошлых столетий. Но бурное течение уже подхватило Филиппа и тащит в противоположном направлении. Когда Ланьтье приехали в Майами, гаитянским ребятам типа Филиппа и Антуана приходилось терпеть побои, буквально побои! Местные черные подростки вычисляли их немедленно и лупили по дороге в школу и по дороге из школы. Избивали! Не раз Филипп приходил из школы со свежими ссадинами и синяками. Лантье твердо намеревался вмешаться и что-то предпринять. А Филипп умолял его не вмешиваться – умолял! Будет только хуже, папа. А потом это его по-настоящему достало. И тогда все гаитянские ребята сделали одно и то же. Они постарались, насколько смогли, сами превратиться в американских черных… одежда, мешковатые штаны, торчащие трусы… разговор: «йо, бро, хоу, евонный, поал, поца, пала, заебца». И вот, посмотрите на Филиппа. Волосы у него такие же прямые, как у Жислен. Что с ними ни делай, все будет лучше того, что сделал Филипп: остриг под три дюйма и завил, чтобы было как у негов.
Пока все эти размышления проносятся у него в голове, Лантье не сознает, как долго смотрит в лицо Филиппу… с разочарованием, с досадой на сына, который его будто в чем-то предал.
Внезапно повисшее молчание электризует воздух в комнате.
Филипп смотрит на отца уже не просто неприязненно, но и, кажется Лантье, пренебрежительно. Но хотя бы в глазах Антуана прежней горячей ненависти нет. Тот, похоже, чувствует себя запертым в туалете с неработающим смывом. Закатывает глаза, словно высматривает человечка в белом балахоне и с крыльями, который должен прилететь и взмахнуть жезлом, чтобы Антуан благополучно растворился в воздухе.
Ну чисто мексиканская дуэль. Противники прожигают друг друга взглядами, не двигая ни единым мускулом и не издавая ни звука. Наконец…
– An nou soti la! (Пошли отсюда!) – по-креольски говорит Филипп Антуану самым громким и густым хулиганским, а все же скорее мальчишеским баском.
Оба без дальнейших слов поворачиваются к Лантье спиной, удаляются через кухню «сутенерской развалочкой» и исчезают в боковой двери.
Лантье, онемев, застывает в дверях своего маленького кабинета. Поворачивается к столу и смотрит на Жислен. Что тут можно поделать? Какого рожна неглупый симпатичный светлокожий гаитянский парнишка вроде твоего брата, прямой потомок нормандских де Лантье, хочет превратиться в американского нега? Вот, например, эти сползающие мешковатые штаны… в такие негов-преступников одевают в тюрьме. Никто не будет утруждаться снимать мерки с заключенных и подбирать им одежду по размеру. Просто дают то, что явно не будет мало, о есть неизбежно окажется велико. Маленькие неги на улицах одеваются так, потому что мечтают быть похожими на больших негов в тюрьме. Это их герои. Они злыыыые. Бесстрашные. Шугают белых американцев и кубинцев. Но если бы дело было только в дурацкой одежде, тупом хип-хопе и хамском черном английском, примитивном до предела, то бы еще не так страшно. Но гаитянские мальчишки, вроде твоего брата, изображают еще и неговские глупость и невежество. Вот где беда. Неги считают, что руку в классе поднимают только «сморчки», и к экзаменам усердно готовятся они же, и оценки не безразличны только им, и думают о таких мелочах, как вежливость с учителями, только они. Гаитянские мальчики тоже не хотят быть «сморчками» – боже упаси! – и потому начинают воспринимать школу как задротскую заморочку. А теперь Филипп деградировал от французского к креольскому. Ты слышала! Но тебе повезло. Ты не говоришь по-креольски, и тебе ни к чему трудиться его понимать… а вот мне не так повезло. Я креольский понимаю. Этот чертов язык мне приходится преподавать. Что мы будем делать, когда твоему брату придет время поступать в колледж? Его не захотят взять ни в один колледж, и он сам никуда не захочет поступать. Сечешь, чувак?
Примерно через полчаса Лантье понимает, что зря думает, будто они с Жислен говорят о Филиппе, – потому что за все время Жислен не вставила ни слова. Он изливал боль и растерянность ей в уши, как в две воронки… Этот обиженный диалог с самим собой ничего не изменит. Только расстроит Жислен и пошатнет ее уважение к отцу. Лантье моментально вспоминает аксиому: родители ни в чем не должны признаваться детям… никогда! и ни за что!
Но не признаваться самому себе он не может… в приливе раскаяния.:::::: В чем беда Филиппа? Все ведь так очевидно, правда? Беда в том, что я отпустил его в школу «Ли де Форест». Мой чудесный домик в стиле ар-деко расположен на участке этой школы. И я знал, что у нее… не самая лучшая слава, но постоянно твердил себе: «Да что там может быть такого уж плохого?» Правда в том, что на частную школу я бы никак не смог выкроить. Все до последнего доллара сожрал ардекошный особнячок, в котором я могу чувствовать себя, насколько хочу, французом… и, конечно, Филипп прогнулся под давлением этих Антуанов и Франсуа Дюбуа. Он не может за себя постоять. Конечно, он в отчаянии. Конечно, хватается за любую защиту. Конечно, превращается в креола. И я этому не мешаю… естественно… Господи… естественно… для меня. Ну, будь же, черт возьми, мужиком! Продай этот дом ради спасения сына!.. Но ведь уже поздно… Цены на недвижимость в Южной Флориде упали на тридцать процентов. Все, что я выручу с продажи, до последнего цента, заберет банк, и я еще останусь им должен… Но за всеми этими расчетами мне виден притаившийся людоед-обжора: «Нет, не отдам ни за что!»::::::
Лантье, едва не плача, говорит:
– Жислен, мне кажется… мне… ыэы… пора готовиться к завтрашнему занятию, и, думаю…
Жислен избавляет его от дальнейших мук:
– Я пойду в гостиную почитаю на завтра.
Она уходит, и взгляд Лантье застит туман. Конечно, она хотела побыть с ним рядом и убедиться, что он справился с тяжкими раздумьями и беспокойством.
Лантье и вправду нужно готовиться к паре занятий. Первое – на тему «Триумф французского романа девятнадцатого века». В аудитории будут сидеть отнюдь не светочи интеллекта. Во Всемирном университете Эверглейдс таких вообще нет.
– Папа, иди сюда! Скорее! По телевизору говорят! – кричит из гостиной Жислен. – Беги скорей!
Лантье выскакивает из кабинета и плюхается на кушетку в гостиной рядом с Жислен.
– Merde!
Из разошедшегося шва большой квадратной подушки, на которую уселся Лантье, полезла набивка, и он тут же подумал о том, каких денег стоит перетяжка и что сейчас он не может потратить столько на эту чертову кушетку…
На экране телевизора, несомненно, школа «Ли де Форест»… ну и сцена … крики! вой! толпа что-то скандирует! Добрая сотня, как кажется, полицейских пытается оттеснить толпу… море черных лиц, неговских и всех мыслимых оттенков коричневого, от нега до смуглого, и все, что между… орут и завывают, и эта толпа, они все молодые – с виду это ученики школы, кроме одной группы черных – те точно не могут быть из школы – на вид им где-то по двадцать с лишним, а кому-то уже и за тридцать. Десятки, как кажется, полицейских машин с гирляндами маячков на крышах, выстреливающих эпилептическими сериями красных, синих и ослепляющих белых вспышек… нестерпимо! эти вспышки белого! Но и на долю секунды творящееся на экране не дает Лантье отвлечься от страданий, какой у него старый и маленький телевизор в сравнении с нынешними телевизорами у людей – у всех уже плазмы, что бы то ни значило, вместо неуклюжих ящиков с кинескопами, или что это там выпирает сзади, как уродливый пластиковый круп… и у всех сорок восемь дюймов, шестьдесят четыре дюйма, что бы там ни мерилось – все это в мелкой шинковке за секунду. А на экране – настоящий мятеж… плотная фаланга полицейских, целая армия… никогда не видел столько полиции в одном месте… сдерживает толпу орущих – и это все ученики! – сплошь неговски коричневые и смуглые юные лица с широко распахнутыми ртами, изрыгающими истеричный вой… полицейские машины со всех сторон… гирлянды и гирлянды тревожных огней на крышах… Камера фокусируется на центре сцены… показывает забрала полицейских шлемов, прозрачные щиты… переднюю цепь черных, коричневых, мулатистых и светло-кофейных юнцов и une fille saillante comme un boeuf[19], напирающих на стену щитов… против полицейских они кажутся такими мелкими, эти орущие гусята-школьники…
– Qu’est-ce qui se passe? (Что происходит?) – спрашивает Лантье. – Pourquoi ne pas nous dire? (Почему нам не говорят!)
И будто по сигналу вой толпы перекрывает возбужденный женский голос – журналистку не показывают, – который говорит:
– Очевидно, хотят оттеснить толпу – им нужно вывести учителя, как нам сказали, его фамилия Эстевес и он преподает обществоведение, – его нужно сейчас вывести из здания и посадить в полицейский фургон, чтобы отвезти в отделение…
– Эстевес! – говорит Лантье по-французски. – Обществоведение – это учитель Филиппа!
– …но не говорят в какое. Главное, что их сейчас заботит, это безопасность. Учеников распустили примерно час назад. Занятия на сегодня закончены. Но вот толпа учеников, они отказываются покинуть территорию школы, а это старое здание, оно возводилось без учета требований безопасности. Полиция опасается, что учащиеся сделают попытку ворваться в здание, где все еще находится Эстевес.
– Скорее бы они его оттуда вывезли! – говорит Лантье. – Полиция не сможет долго сдерживать такую толпу детей!
– Папа, – говорит Жислен. – Это запись! Дело было часов пять-шесть назад, так выходит.
– А-а-а… да, – соглашается Лантье. – Верно, верно…
Он поднимает глаза на Жислен.
– Но Филипп ничего об этом не сказал… ни слова!
Жислен не успевает ответить, как снова звучит телеголос:
– Полагаю, сейчас Эстевеса попытаются вывести. Вон та маленькая дверь на первом этаже – она открывается!
Камера наезжает… похоже на дверь какой-то подсобки. Отворяясь, она создает небольшую тень на бетонной поверхности… Выходит полицейский и оглядывается по сторонам. Еще двое… и еще двое… и еще двое… потом еще трое протискиваются в тесную… нет, это не трое полисменов, а двое, крепко ведут под руки плотного лысоватого светлокожего мужчину, запястья которого, очевидно, скованы за спиной наручниками. Хотя на макушке у него уже светится плешь, на вид ему не больше тридцати пяти. Он идет задрав подбородок, но с невероятной частотой моргает. Белая рубашка, подол которой, похоже, выбился из штанов, обтягивает бугристую грудь.
– Вот он, – восклицает телекомментаторша. – Этот учитель, Хосе Эстевес! Преподаватель обществоведения в школе «Ли де Форест». Он арестован за то, что, как нам сказали, ударил ученика перед всем классом и потом повалил его на пол и практически обездвижил каким-то захватом за шею. Полиция смыкается вокруг него, образуя такую… ээ… фалангу, чтобы защитить его и довести до полицейского фургона.
Шквал воплей, улюлюканий и рвущей глотки брани.
– Они поняли, что это Эстевес, учитель, избивший их товарища около двух часов назад!
– Что за рубашка на нем? – спрашивает Лантье по-французски.
Учитель и отряд его полицейских телохранителей подходят все ближе к камере.
Жислен отвечает по-французски:
– Похоже на гуаяберу. Кубинскую рубаху.
Голос с экрана:
– Они почти достигли фургона… вы это видите. Спецназ сделал невозможное, удержав эту огромную и разгневанную толпу школьников…
Лантье вновь смотрит Жислен в глаза и говорит:
– Филипп пришел из школы, из того самого класса, где все это произошло, школьный двор блокирует целая армия копов, толпа его одноклассников, готовых на первом же суку вздернуть учителя, только дай им его в руки, – и Филипп не захотел ничего рассказать, и его дружок-нег Антуан тоже? Если бы такое случилось со мной в школьные годы, я бы до сих пор об этом всем рассказывал! Что творится с Филиппом? Ты вообще имеешь какое-то представление?
Жислен качает головой.
– Нет, папа… никакого.
Матрас
:::::: Существую ли я?.. Если так, то где?.. О боже, я нигде, мне нет места на свете… я даже больше не принадлежу «своему народу», так-то.::::::
Нестор Камачо – помните такого? – испаряется, растворяется, рассыпается на части – мясо отходит от костей, – превращаясь в желе с бьющимся сердцем, возвращаясь в первичный бульон.
Раньше он и представить не мог, как это – ни к чему не принадлежать. Да и кто бы мог? До того самого момента, сразу после полуночи, когда он вышел из раздевалки в гавани морского патруля и двинулся к стоянке.
– Констебль Камачо!
…А теперь ему еще и мерещится. В этот полуночный час тут не может быть никого, кроме копов, выходящих с дежурства, а ни один коп не станет его звать «констеблем», кроме как в шутку. Один среди этой слишком жаркой, слишком липкой, слишком волглой, слишком потной, слишком черной туманной сентябрьской ночи в Майами… представлял ли он прежде хоть отдаленно, каково оно, отчаяние? Он не намерен обманываться по поводу событий последних суток.
Ровно двадцать четыре часа назад он выходил отсюда же, из гавани, паря на рукоплесканиях товарищей-полисменов, изумленно сознавая, что весь город – весь город! – видел по телевизору, как он – он! Нестор Камачо! – спас несчастного беднягу, загнанного ужасом на верхушку семидесятифутовой мачты и балансировавшего на краю смертельной бездны. Не больше чем через четверть часа он вошел к себе домой – и увидел, что отец дожидается в дверях, выставив пузо и скопив злобу, чтобы изгнать его из семьи… и из кубинского народа заодно. Все это так кошмарно, что Нестор всю ночь ворочается без сна, а поднявшись утром, узнает, что испаноязычные издания и каналы – то есть, по сути, кубинские – говорят о его последних сутках то же самое: Нестор Камачо предал свою семью и кубинский народ. Отец не только считает его ничтожеством, но и делает вид, будто Нестор растаял в воздухе. Ведет себя так, будто вправду его не замечает. Кого? Кого – его, Нестора? А его тут больше нет. Соседи, люди, которых он знает практически всю жизнь, отвернулись от него, в буквальном смысле разворачиваются на сто восемьдесят градусов, показывая спины. Его последняя надежда, спасение, последняя привязка к жизни, которой он жил двадцать пять лет, иначе говоря всю жизнь, – это его подружка. Они виделись, встречались, что в наше время означает: вместе ложились в постель, и Нестор любил ее всем сердцем. И вот чуть больше восьми часов назад она появляется, прямо перед тем как ему уходить на дежурство… чтобы сообщить, что видится, встречается и, несомненно, делит постель с другим, и hasta la vista, мой дорогой, отправляйся в утиль.
И в довершение всего начинается дежурство, и товарищи-копы, что сутки назад толкались вокруг него, будто стайка чирлидеров, держатся… ну, не отчужденно, но сухо. Нет, никто не злословит. Никто не обращается с ним как с предателем. Незаметно, чтобы кто-то из них хотел взять назад добрые слова, сказанные Нестору вчера. Смущены, вот и все. За двадцать четыре часа испаноязычное радио, испаноязычное телевидение и испаноязычная газета «Эль Нуэво Эральд» излупцевали Нестора досиня, и даже самые добряки незаметно отводят взгляды.
Единственный, кто выказал хоть какое-то желание поговорить о вчерашней суматохе, был американо Лонни Кайт, товарищ по тому дежурству. Он отвел Нестора в сторону перед погрузкой в катер и сказал:
– Смотри на все это так, Нестор («Нестер»). Если бы этот уебок торчал на мачте где-то еще, практически хоть где, все сейчас говорили бы одно: «Этот малый Камачо – просто Тарзан, у него такие банки, каменная кладка». Тебе не повезло, что все случилось у эстакады на глазах толпы бездельников вечером в пятницу, в час пик. Повылазили из машин, выстроились вдоль моста и с лучших мест смотрели представление: вон кубинский беглец, отважный малыш, борется с тупоголовым копом. Они ж ни хера не знают. Если бы не эти невдалые мудаки, никто бы не вопил, размахивая трусами.
Лонни-американо хотел морально поддержать Нестора, но только усугубил его тоску. Даже американос все знают! Даже американос в курсе, что его забросали камнями.
Нестор надеялся, что во время дежурства что-нибудь случится, что-то серьезное, например столкновение судов – ведь столкновения, по большей части небольших яхт и катеров, происходят все время, – и работа отвлечет его внимание. Но нет, служба шла своим чередом… дрейфующие катерки с заглохшими моторами, кому-то показалось, будто он видел пловцов на судовом ходу… придурок на сигаретнице носился по бухте, закладывая виражи, чтобы раскачать на волне другие лодки… пьяная компания швыряла в воду с борта пустые бутылки и какой-то мусор… вот и весь вечерний улов, ничего серьезного, чтобы отвлечь Нестора от его горьких забот… И к моменту возвращения в гавань он уже складывал, складывал, складывал свои бедствия…
…И сейчас картина перед ним идеально отражает полученную сумму – отчаяние. Нестор подходит к стоянке. В этот полночный час по меньшей мере треть мест пустует. От тусклых фонарей почти никакого света. Они лишь создают жиденький искусственный сумрак. Еле различаются пальмы по периметру. Максимум, что видно, – плоские черные силуэты. А вот машины на стоянке кажутся даже не силуэтами, а какими-то слабыми мутными отсветами… там лобовое стекло, там полоска хромированного железа… там зеркало… там колесный диск… тусклые-тусклые блики тусклого-тусклого света… Для Нестора в его душевном состоянии это хуже, чем полная темнота… мусорный свет…
Нестор идет к своей машине… Зачем?.. Где он собирается провести эту ночь?
«Камаро» он может разглядеть лишь потому, что твердо помнит, где его оставил. Нестор идет к машине, механически повторяя привычный маршрут. Но что дальше? Нужно куда-то ехать, где можно растянуться и придавить как следует часиков на десять. Нестор не помнит, чтобы когда-то в жизни был таким усталым и вымотанным… выжженным, выжатым, опустошенным… и где же он примет этот исцеляющий сон? Весь вечер, как только наступало затишье в работе, он обзванивал друзей, спрашивая, нет ли где приземлиться, звонил всем, включая ребят, которых не видел со школы, и все ответы были примерно как у Хесуса Гонсало, Хесуса, лучшего приятеля по борцовской секции, который сказал:
– Эээ, ну… я, эээ… наверное, найдется, но, в смысле, ты сколько хочешь остаться, только эту ночь, верно? А то я сказал кузену Рамону, он из Нью-Джерси, и он сказал, что, может быть, завтра приедет, и я сказал ему…
И это друзья! Правда, последние три года друзья у него были в основном в форме, ведь только такой же коп, как ты, может понять, что у тебя на сердце, что тебе приходится делать и что тебя заботит. Ведь полицейские – избранные. Ты сталкиваешься с опасностями, которые твои прежние друзья не могут и представить. Они не понимают, каково это: командный взгляд, отдавать приказы обычным людям на улице… Но сейчас дело в другом: похоже, новости о вчерашнем случае, словно газ, окутали все кубинское сообщество. Ладно. Можно было спросить молодых копов на дежурстве. В последние полчаса в раздевалке для этого были все возможности… да и весь вечер… но Нестор не смог этого сделать! Ребята тоже вдохнули газ… Собственная семья выперла его из дому… Унизительно! Ехать в мотель? Для парня из Хайалии такой вариант просто немыслим. Отваливать деньги лишь за то, чтобы пролежать ночь в темноте? Спросить Кристи? Она-то на его стороне. Но сможет ли он ограничиться только спальным местом? Ладно, посмотрим… всегда ведь есть машина. Можно вырубиться в «камаро». Нестор пытается себе представить… Как вообще можно вытянуться в «камаро»? Если ты не ребенок и не циркач… Вторая подряд бессонная ночь – вот что ему светит.
Теперь я живу… на улице… Я ничей. И снова в его голове всплывает вопрос: а существую ли я? Первые несколько раз в этом вопросе Нестор чувствовал привкус жалости к самому себе. Следующие несколько раз – мрачного юмора. А теперь вот – паники. Я по привычке, выйдя с дежурства, иду к машине… и мне некуда на ней поехать! Нестор замирает как вкопанный. Ну скажи мне по правде… Существую ли я?
– Констебль Камачо! Эй! Я здесь! Констебль Камачо!
«Здесь» донеслось откуда-то со стоянки. Нестор всматривается в призрачный электросумрак впереди. Вдоль ряда машин к нему бежит высокий белый мужчина.
– Джон! ханх ханх ханх ханх ханх Смит! ханх ханх из «Геральд»! – выкрикивает он.
Не в лучшей форме, кто бы ты там ни был «ханх ханх ханх ханх»… так пыхтеть, пробежав трусцой от силы пятьдесят метров. Имя Нестор не узнал, но «из «Геральд» – это неплохо. Единственное издание, которое на его стороне, ну почти.
– Извините! – говорит высокий, приблизившись. – Я ханханхан-ханх не придумал, как еще вас найти!
Оказавшись с ним лицом к лицу, Нестор узнает: это репортер, который на пару с фотографом дожидался на пристани, когда они с сержантом и с Лонни Кайтом вернулись в гавань на патрульном катере. Даже если бы специально постарался, этот парень не мог бы выглядеть большим американо… длинный… мягкие светлые волосы, абсолютно прямые… острый нос…
– Прошу извинить за вторжение ханх ханх ханх ханх. Читали утром мою статью? Там все честно?
Он улыбается. Сглатывает слюну. Глаза распахнуты, как синие вьюнки-граммофончики.
Нестор понимает, что появление этого Джона Смита здесь, на стоянке, в полночь вполне может оказаться виденьем из тех, какие случаются у людей, которые не спят и не существуют… Однако ему хватает здравомыслия не сомневаться в реальности американо. Нестору хочется спросить, зачем он пожаловал, но никак не находятся дипломатичные формулировки. И он просто кивает… как бы неуверенно отвечая: «Да, я читал, и да, все честно».
– Я понимаю, что вы, наверное, ханханханханх собираетесь домой, – продолжает Джон Смит. – Но не могли бы вы уделить мне буквально две минуты? Мне нужно кое-что ханханханханх у вас спросить.
Прилив какой-то недоброй эйфории возвращает к жизни онемевшую центральную нервную систему Нестора. Он восстанавливает связь… ну хоть с чем-то. Нашелся человек, пусть даже всего лишь газетчик-американо, едва знакомый Нестору, который предлагает, по крайней мере, нечто вместо всенощного кружения по городу за разговором с самим собой. Бродяга в «камаро»! Бездомный на первых полосах газет! Но Нестор говорит только лишь:
– Что именно?
– Ну, я пишу продолжение истории, и ужасно не хотелось бы упустить из виду вашу реакцию.
Нестор молча смотрит на репортера.:::::: Реакцию? На что?:::::: Это слово нагоняет на него необъяснимое отчаяние.
– Может быть, где-нибудь сядем, выпьем по чашке кофе или еще чего-то?
Нестор снова молча смотрит. Вопросы этого репортера с детской мордашкой обернутся для Нестора только лишними неприятностями, если ему не даст отмашку какой-нибудь лейтенант, или капитан, или заместитель шефа полиции. А с другой стороны, он говорил с этим парнем двадцать четыре часа назад, и все было тип-топ… и, разговаривая с журналистами, он точно существует. Разве не так? Пока он говорит с прессой, он… где-то есть. Ведь правда? Пока его упоминают в репортажах, он есть на свете… Тут только включить воображение… Нестор знал, что не сыщется во всем мире такого лейтенанта, капитана или заместителя шефа полиции, который бы это понял, тем более стерпел. Но, может, им будет понятнее так: «Господибожемой, лейтенант, поставьте себя на мое место. Я один-одинешенек. Вы не представляете, как мне одиноко». Все сводится к одному. Необходимо с кем-то поговорить, не в том смысле, как исповедуются священнику или еще что-нибудь в этом роде. Просто поговорить хоть с кем-нибудь… чтобы снова почувствовать, что существуешь, после тяжких бедственных суток.
Нестор смотрит на Джона Смита из «Майами Геральд» долгим и пустым взглядом. И вновь кивает, не выказывая ни малейшего довольства, не говоря уже о воодушевлении…
– Как насчет вон того заведения? – спрашивает репортер. И указывает на бар Инги Ла Гринги.
– Там слишком шумно, – отвечает Нестор.
И это правда. А о том, что источник шума – морские копы, освободившиеся с дежурства, он предпочитает не сообщать.
– Тут есть местечко под названием «Остров Капри», на Брикелл, недалеко от развязки. Открыто допоздна, и, по крайней мере, можно услышать собеседника. Хотя, может, немного дороговато.
Нестор не стал добавлять, что в такое дорогое место не пойдет ни один сменившийся с дежурства коп во всем Майами.
– Ничего страшного, – говорит Джон Смит. – «Майами Геральд» угощает.
В «Остров Капри» они едут каждый в своей машине. Нестор поворачивает ключ зажигания, и кондиционер плюет ему в лицо струей воздуха. Нестор включает передачу, трогается, и глушитель ревет. От сочетания искусственного ветра и рокота мотора Нестору кажется, будто его заперли внутри листодуя, которые так воют, что рабочим, выдувающим листья за семь долларов в час, приходится надевать наушники… Да, попал в листодуй… и вопросы вихрем кружат в голове.:::::: Зачем я это делаю? Что мне это даст, кроме неприятностей? Какой такой реакции он от меня хочет? С какой стати «Майами Геральд» угощает, как он выразился? Чего ради я вообще верю этому американо? Зачем? Ясно же, что не нужно… но у меня отняли все, что важно в жизни! У меня нет даже предков… Мой драный дед, великий оператор канализационных задвижек, спилил меня с родового древа… и я даже не знаю, где буду спать. Боже, да я и со змеей готов разговаривать – хоть с кем-нибудь.::::::
Нестор с журналистом сели у стойки и заказали кофе. Шикарно тут, в баре «Острова Капри»… Лампочки светят снизу сквозь батареи бутылок, выставленных вдоль зеркальной стены. Бутылки подсвечиваются… феерично, и все зрелище удваивается зеркалом. Нестора завораживает это великолепие, хотя он и понимает, что бутылки выставлены для ублажения немолодых американос, которые любят бахвалиться, как «надрались» вчера, какие были «угашенные», «в хлам», «до соплей», «до потери пульса» и даже как они были «в отключке» и, проснувшись, не могли понять, где вообще находятся. Что и говорить, у американос представления о мужественности совсем не те, что у латинос. И все равно от светового шоу с бутылками в «Острове Капри» у Нестора кружится голова, так оно роскошно. Вдобавок он устал, как в жизни не уставал.
Подают кофе, и Джон Смит из «Геральд» переходит к делу.
– Как я сказал, я пишу продолжение статьи про человека на мачте – как вы его спасли, – но мои источники доносят, что многие кубинцы, вместо того чтобы видеть в вас героя, считают вас чуть ли не предателем…
С этими словами Джон Смит склоняет голову набок и вопросительно смотрит на Нестора, явно ожидая каких-то слов.
Нестор не знает, что говорить… Кофе, в который он по-кубински щедро всыпал сахару, божествен; и Нестору хочется есть. На дежурстве он почти не ел. Оттого, что его существование (если это только существование) смущало других полицейских, у него пропал аппетит. Джон Смит ждет ответа. Нестор теряется: рассказывать или нет.
– Наверное, надо их спросить, – говорит он.
– Кого – их?
– Спросить… ну… кубинцев, наверное.
– А я и спрашивал, – поясняет Джон Смит. – Но они со мной неразговорчивы. Для большинства из них я чужак. Особо не хотят делиться… когда заводишь разговор о национальных вопросах, народностях и подобных материях. Они не доверяют «Геральд», и точка, вот в чем дело.
Нестор улыбается, но не от удовольствия.
– Уж это точно.
– Чему вы улыбаетесь?
– Там, откуда я сам, в Хайалии, люди говорят: «А, “Майами Геральд” – и тут же добавляют: – “Yo no creo». Можно подумать, что это полное название газеты – «Yo No Creo Майами Геральд». Понимаете yo no creo?
– Конечно. «Не верю». Yo comprendo. И так же они относятся к вам, Нестор.
До сих пор газетчик не обращался к Нестору по имени. Это настораживает. Нестор не знает, как реагировать. То ли американо взял дружеский тон, то ли заговорил свысока… будто с дезинсектором. Его отца многие клиенты с порога называли Камило.
– И они всё, касающееся вас, тоже извращают, – продолжает репортер Джон Смит. – Они берут ваш поступок, который я… я считаю – и, надеюсь, достаточно ясно обозначил это в своем тексте, – считаю примером великой храбрости и силы, и преподносят его как трусость!
– Трусость? – переспрашивает Нестор.
Он удивлен и задет за живое.
– Они могут говорить разное, «предатель» и все такое, но я не слышал, чтобы кто-то говорил «трусость». Интересно, какого это черта вдруг «трусость»… Боже правый… Хотел бы я видеть, как кто другой хотя бы близко подберется к тому, что я сделал… «Трусость»… – Нестор мотает головой. – Вы прямо слышали, чтобы кто-то говорил вот это самое слово?
– Да. Cobarde, так говорят… каждый раз.
– Говорят? – недоумевает Нестор. – Но откуда вы знаете? Вы говорили, они с вами не хотят общаться.
– Некоторые общались, – поясняет человек из «Геральд». – Но слышал я это не в разговорах. Я это слышал по радио, и далеко не один раз.