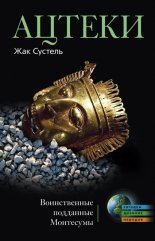Елизавета. В сети интриг Романова Мария
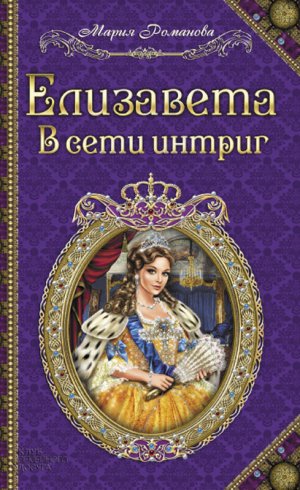
В графской палатке было тепло, спокойно, а главное, сытно. Шереметев не особо и утруждал ее, она жила в свое удовольствие и лучшей доли не желала, не гневила Господа, наряжалась и отсыпалась, и все более румяными становились ее щечки, за которые так любил потрепать ее граф. Самое большее, что она себе позволяла, – притворно невинно похлопать ресницами в присутствии гостей Шереметева: хотя таковые случались часто и в большом количестве, видела она их редко, ибо граф молодую любовницу выставлять напоказ не стремился…
И правильно делал, как оказалось. Потому что когда в один прекрасный день в палатку заглянул крепкий красавец в орденах, со сверкающими хитрыми глазами, пышущий неудержимой бесовской силой и удалью, судьба Марты Скавронской была решена… Ее покровитель навсегда лишился пассии, а она – нищего незаметного существования…
Екатерина усмехнулась про себя. Воистину, как говорят в России, вспомнила бабка… Однако вспоминать было приятно…
Неистовая, не знающая границ и сомнений страсть Александра Меншикова поглотила ее целиком, что там – смела с лица земли ту, что была когда-то наивной девицей Мартой, а потом распутной любимицей солдатского сброда… Она теперь не помнила себя и сама называла себя чудной, каждый день превращался в ожидание, каждая встреча становилась праздником, и когда-то она даже мысленно сравнила себя с собакой, которая преданно ждет хозяина, а потом в прыжке ловит брошенную ей кость… Впрочем, это было мимолетно, она даже не отдала себе отчета в том, что подумала, – слишком была тогда молода и недалека, а он как раз вернулся, вошел в палатку, только соскочивший с коня, запыленный, веселый, с озорными хитрыми глазами, – и она бросилась ему на шею, уже не думая и не переживая, а он любил ее так, что думать ни о чем и не надо было, все было ясно без слов… Иногда она ловила на себе его взгляд: странный, словно с стороны, оценивающий, задумчивый… Она не раздумывала, к чему бы это, ее не тревожили такие мелочи, главное, что по ночам он по-прежнему приходил к ней и был таков же, как в первые дни.
Потом говорили, что он сам показал ее Петру – гляди, мол, какова… Она долго не верила, не хотела верить, даже сейчас, хотя уже доподлинно знала, какой змей Алексашка Меншиков и чего от него можно ждать… Сначала она тосковала, все думала, что он заберет ее опять к себе, – до чего же глупая надежда…
– Знал, что я по сердцу ему придусь? – прямо спросила она всесильного фаворита через много лет, когда уже была российской императрицей. – Точно знал, для того и отобрал меня у графа?
Глаза Меншикова томно блеснули.
– Ну что ты, Катенька… Просто красота твоя огромную силу имеет, ни одного равнодушным не оставит…
К своему новому властелину она привыкала долго и мучительно. Однако имела уже достаточно опыта, чтобы ничем не выказывать этого, – хоть она, возможно, и не была наиразумнейшей из всех дочерей Евы. Мужские глаза видят только то, что им показывают, – и она была всегда кротка и приветлива, нежна и предупредительна, соблазнительна и робка…
Не сразу она узнала, что черноволосый поручик громадного роста – на самом деле российский самодержец. А узнав, изумилась и втайне обрадовалась: все же есть справедливость на белом свете, и не зря вело ее столько лет Провидение, уберегая от опасностей и смерти.
Да, она была ловка, достаточно хитра и к тому времени уже так искусна в любви, что царь, сам того не замечая, привязывался к ней сильнее и сильнее… А она, раздумывая, как привязать его к себе покрепче, и опасаясь возможных соперниц, строила планы, раскидывала сети, примерялась и просчитывала, как вдруг, совершенно неожиданно…
…Ему стало плохо. В один миг он вскинулся, закричал от дикой боли и замер, выгнувшись всем телом. Она перепугалась, подскочила, попыталась обхватить его одной рукой, но он уже обмяк, упал на простыни и стал кататься по ним, сбивая их и глухо рыча сквозь зубы… Она стояла в стороне на коленях, не зная, что делать, на что решиться, как помочь ему, не понимая, что происходит. Петр бился и стонал, пот заливал его лицо, по телу пробегали судороги… Наконец он затих, свернулся в клубок, как ребенок, съежился и стал будто меньше ростом…
– Что с тобой, Петруша? – бросилась она к нему, приникла, обняла.
– Уйди, Марта, – глухо бросил он, не поворачивая головы и не открывая глаз.
Ему все еще было больно. Слова давались с трудом, язык будто заплетался, и даже оттолкнуть ее он был не в силах.
В этот миг ей стало так жаль его, что захотелось плакать. Она прилегла рядом, прижалась к нему всем телом и стала очень мягко, очень нежно поглаживать его волосы. Он все еще пытался оттолкнуть ее и стонал, но постепенно затих, и она продолжала гладить его голову, слегка массируя, и изредка касалась губами его уха, то ли целуя, то ли успокаивая.
– Ничего, ничего, – шептала она тихонько, словно баюкая. – Сейчас все пройдет… Засыпай, засыпай… Ты проснешься и снова будешь здоров… Больно не будет…
Он притих и наконец задремал, прямо на ее руке, и она всю ночь пролежала в неудобной позе, поверх одеял, и замерзла так, как не мерзла, кажется, никогда в жизни. Руки затекли, плечи онемели, и невыносимо хотелось переменить положение, но она боялась даже шевельнуться – только бы не потревожить его, его сон так чуток, пусть поспит…
Утром он открыл глаза и еще замутненным, но уже полным облегчения, удивления и благодарности взглядом посмотрел на нее, потянулся к ней, вдруг осознал, как она лежит… Его тонкий ус дернулся, он выдохнул: «Марта!» – резко повернулся, подхватил ее, уложил поудобнее, накрыл покрывалом и поцеловал так крепко и нежно, как никто ее до этого не целовал…
С той ночи словно что-то надломилось в ней. Теперь было все равно, царь он или нет, был в ее жизни когда-либо Меншиков или не было его… Петр был так нежен и заботлив, и она ловила, берегла каждую секундочку его внимания, каждый взгляд, поцелуй, прикосновение, упивалась, не отпускала, притягивала, манила, наслаждалась… Он стал ей необходим – она и жить бы не сумела, если бы он бросил ее. И чего она больше всего страшилась – что надоест ему, что он вспомнит о ее прошлом, о солдатах в русском лагере, о старике Шереметеве и найдет другую, моложе, красивее…
Екатерина тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Петра давно нет на свете, и вся ответственность за будущее российского престола и, самое главное, их общих дочерей, лежит на ней одной.
«Может быть, и вправду принять предложение Карла Августа? Надо его показать Елизавете. Он и впрямь недурен и недавно стал епископом Любекским… Правда, придется Лизаньке перейти в его веру… Ну, да невеликое горе. В конце концов, может и он отречься от своих обязанностей ради такого дела, чай, и ему приятнее на троне с молодой женой, чем в исповедальне с грешниками и в сутане. Прости, господи, мою душу грешную… – Царица перекрестилась. – А в случае чего можно подумать и о Наталье – не Лиза, так она вполне может стать герцогиней Голштинской, хоть и юна…»
– Однако же не будем забывать о Морице Саксонском. Чем не жених?
Губы Екатерины чуть искривились.
– Понимаю вашу тягу к курляндцам, господин Остерман, однако же удивлена такой настойчивостью. Разве не решили мы, что после всех фокусов этому вьюношу не место среди монарших особ?
– Но, ваше величество, Курляндия…
– Нет уж! Довольно с меня Курляндии да этого молодца, в которого Анна Иоанновна, бедная вдовушка, влюблена до безумия. Мало того, что заморочил головы всем дипломатам европейским, так еще и втравил нас в авантюру. Вы знаете, сколько это стоило нам, граф? Лефорт, черт бы его побрал, хитроумный прожектер… И Александр Данилович не хуже, милый друг наш… Хорошо хоть Елизавета умна не по годам. Ее так просто с толку не сбить. И «очаровательному Морицу» это не удастся…
Прожектер Лефорт, представлявший в Петербурге интересы графа Саксонского, отстаивал их весьма своеобразно: вместо того чтобы выполнять прямое указание своего господина и вести переговоры о браке с Анной, он принял блистательное решение договориться о свадьбе с более молодой и красивой цесаревной Елизаветой. «Анна стара, ей за тридцать, – рассуждал он. – Елизавета же в самом расцвете, а кроме того, имеет все шансы стать императрицей российской». Похвальное, в общем-то, желание посадить своего господина на русский престол привело к плачевным последствиям: Лефорт не счел нужным уведомить о своих намерениях даже Морица, что уж говорить о Елизавете, а та, юная и беззаботная, наблюдала за его нескрываемыми стараниями с довольно вялым интересом. Посланник начал переговоры, но тут его подвел сам Мориц: вопреки запрещению отца он отправился в Митаву и был торжественно избран герцогом Курляндским и Семигальским. Пятнадцать дней спустя в Митаву вступили русские войска во главе с Меншиковым. Однако Екатерина вскоре велела ему убираться из Курляндии.
– Бог с ней, с Курляндией, важно сохранить мир на севере, – говорила она.
Отец Морица, курфюрст саксонский и король польский, не преминул этим воспользоваться: он мгновенно постановил присоединить Курляндию к Речи Посполитой. Тут уж ничего не попишешь: пришлось России опять вторгаться в Курляндию – теперь уже с восьмитысячным войском, – чтобы восстановить порядок и изгнать наконец герцога Морица…
«Надо что-то решать. Не в бирюльки, чай, играем. Накладно, да и глупо по всей Европе за женихами бегать, а пуще за такими, как Мориц. Решено, этот не годится. Зачем нам байстрюк? Пусть будет лучше Карл Август, хоть не так беспокоен. Да и поможет нам, верю. По крайней мере не так бестолков, надежда есть, что толк будет и поддержит он нас в конфликтах наших с соседями, ежели нужда придет…»
«Записная книга Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии», запись за 26 июня
Того ж числа пополудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком раскате в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился.
Из письма графа Румянцева
«…как царевич в те поры не домогал, то его к суду, для объявки приговора, не высылали, а поехали к нему в крепость: светлейший князь Александр Данилович, да канцлер граф Гаврило Головкин, да тайный советник Петр Андреевич Толстой, да я и ему то осуждение прочитали. Едва же царевич о смертной казни услышал, то зело побледнел и пошатался, так что мы с Толстым едва успели его под руки схватить и тем от падения долу избавить. Уложив царевича на кровать и наказав о хранении его слугам да лекарю, мы поехали к его царскому величеству с рапортом, что царевич приговор свой выслушал; и тут же Толстой, я, генерал-поручик Бутурлин и лейб-гвардии майор Ушаков тайное приказание получили, дабы съехаться к его величеству во дворец в первом часу пополуночи.
Недоумевая, ради коея вины сие секретное собрание будет, я прибыл к назначенному времени во дворец и был введен от дворцоваго камергера во внутренние упокои, где же увидел царя, седяща и весьма горююща, а вокруг его стояли: царица Екатерина Алексеевна, Троицкий архимандрит Феодосий от Александроневского монастыря (его же царь, зело уважая, за духовника и добраго советывателя имел), да Толстой, да Ушаков; а не было только Бутурлина, но и тот приездом не замедлил.
А как о нашем прибытии царю оповестили, ибо ему замногими слезами то едва ли видно самому было, то его величество встал и, подойдя к блаженному Феодосию, просилу него благословения, на что сей рек: „Царю благий, помысли мало, да не каяться будеши?“ А царь сказал: „Злу, отчесвятый, мера грехов его преисполнилась, и всякое милосердие от сего часа в тяжкий грех нам будет и пред Богом и предславным царством нашим. Благослови мя, владыко, на указзело тяжкий моему родительскому сердцу и моли всеблагаго Бога, да простит мое окаянство“. Тогда Феодосии, воздев руки, помолился и, благословивши царя, глагола: „Да буде тволя твоя, пресветлый государь, твори, яко же пошлет тиразум сердцеведец Бог“. Тогда царь приблизился к нам, в недоумении о воле его стоящим, и сказал: „Слуги мои верные, во многих обстоятельствах испытанные! Се час наступил, да великую мне и государству моему услугу сделаете. Оный зловредный Алексей, его же сыном и царевичем срамлюся нарицати, презрев клятву пред Богом данную, скрыл от нас большую часть преступлений и общенников, имея в уме, да сие последнее о другом разе ему в скверном умысле на престол наш пригодятся; мы, праведно негодуя за таковое нарушение клятвы, над ним суд нарядили и тамо открыли многия и премногия злодеяния, о коих нам и в помышлении придти не могло. Суд тот, яко же и вы все ведаете, праведно творя и намногие законы гражданские и от Святого Писания указуя, его, царевича, достойно к понесению смертныя казни осудил. Вам ведомо терпение наше о нем и послабление до нынешняго часа, ибо давно уже за свои измены казни учинился достоин. Яко человек и отец, и днесь я болезную о нем сердцем, но, яко справедливый государь, на преступления клятвы, нановыя измены уже нетерпимо и нам бо за всякое несчастиеот моего сердолюбия ответ строгий дати Богу, на царство мя помазавшему и на престол Российской державы всадившему. Того ради, слуги мои верные, спешно грядите, убо к одру преступнаго Алексея и казните его смертию, яко же подобает казнити изменников государю и отечеству. Не хочу поругать царскую кровь всенародною казнию, но да совершится ей предел тихо и неслышно, яко бы ему умерша от естества, предназначеннаго смертию. Идите и исполните, тако бо хощет законный ваш государь и изволит Бог, в его же державе мы все есмы!“ Сие глаголиша, царь новыя тучи исполнися, и аще бы не утешение от царицы, да не словом в иноцех блаженнаго Феодосия, толико яко презельная горесть велий ущерб его царскому здоровью приключилась бы.
Не ведаю, в кое время и коим способом мы из царского упокоя к крепостным воротам достигли, ибо великость и новизна сего диковиннаго казуса весь ум мой обуяла, долго быя от того в память не пришел, когда бы Толстой напамятованием об исполнении царскаго указа меня не возбудил. А как пришли мы в великия сени, то стоящаго тут часового опознавши, ему Ушаков, яко от дежурства начальник дворцовыя стражи, отойти к наружным дверям приказал, яко бы стук оружия недужному царевичу, беспокойство творя, вредоносен быть может. Затем Толстой пошел в упокой, где спали его, царевича, постельничий да гардеробный, да куханный мастер, и тех, от сна возбудив, велел немешкотно от крепостного караула трех солдат во двор послать и всех челядинцев с теми солдатами, якобы к допросу, в коллегию отправить, где тайно повелел под стражею задержать. И тако во всем доме осталося нас четверо, да единый царевич, и той спящий, ибо все сие сделалось с великим опасательством да его безвремянно не разбудят. Тогда мы, елико возможно, тихо перешли темные упокой и с таковым же предостережением дверь опочивальни царевичевой отверзли, яко мало была освещена от лампады, пред образами горящей. И нашли мы царевича спяща, разметавши одежды, яко бы от некоего соннаго страшнаго видения, да еще по времени стонуща, бо, и в правду, недужен вельми, такчто и Святого Причастия того дня вечером, по выслушанииприговора, сподобился, из страха, да не умрет, не покаявшись во гресех, с той поры его здравие далеко лучше стало и, по словам лекарей, к совершенному оздравлению надежду крепкую подавал. И, не хотяще никто из нас его мирного покоя нарушати, промеж собою сидяще, говорили: „Не лучше ли-де его во сне смерти предати и тем от лютого мучения избавити?“ Обаче совесть на душу налегла, да не умрет без молитвы. Сие помыслив и укрепись силами, Толстой его, царевича, тихо толкнул, сказав: „Ваше царское высочество! Возстаните!“ Он же, открыв очеса и недоумевая, что сие есть, седе наложнице и смотряще на нас, ничего же от замешательства[не] вопрошая.
Тогда Толстой, приступив к нему поближе, сказал: „Государь-царевич! По суду знатнейших людей земли Русской, ты приговорен к смертной казни за многия измены государю, родителю твоему и отечеству. Се мы, по Его царскаго величества указу, пришли к тебе тот суд исполнити, того ради молитвою и покаянием приготовься к твоему исходу, ибо время жизни твоей уже близ есть к концу своему“. Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь, но из этого успеха не возымев, нача горько плакатися и глаголя: „Горе мне бедному, горе мне, от царской крови рожденному! Не лучше ли мне родитися от последнейшаго подданного!“ Тогда Толстой, утешая царевича, сказал: „Государь, яко отец, простил тебе все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но яко государь-монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог, боясь, да в некое злоключение отечество свое повергнет чрез то, того для, отвергши вопли и слезы, единых баб свойство, прийми удел твой, яко же подобает мужу царския крови и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих!“ Но царевич того не слушал, а плакал и хулил его царское величество, нарекая детоубийцею.
А как увидали, что царевич молиться не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно (от страха не упомню) говорить за ним зачал: „Господи! В руци твои предаю дух мой!“ Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Той же, мню, яко Бутурлин, рек: „Господи! Упокой душу раба твоего Алексея в селении праведных, презирая прегрешения его, яко человеколюбец!“ И с сим словом царевича на ложницу спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, дондеже движение рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделалося скоро, ради его тогдашней немощи, и что он тогда говорил, того никто разобрать не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума помрачение сталося. А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича, якобы спящаго, и, помолився Богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близ дома остались – да кто-либо из сторонних туда не войдет, Бутурлинже да Толстой к царю с донесением о кончине царевичевой поехали. Скоро приехала от двора госпожа Краммер и, показав нам Толстаго записку, в крепость вошла, и мы с нею тело царевичево опрятали и к погребению изготовили: облекли его в светлыя царския одежды. А стала смерть царевичева гласна около полудня того дня, сие есть 26 июня, якобы от кровенаго пострела умер…»
Глава 7. Принц-мечтатель
За окном была глухая осень. Дожди окончательно размыли дороги, как и во все времена, оставлявшие желать лучшего, и дорогая, украшенная золотом карета претендента на руку и сердце цесаревны Елизаветы Петровны несколько раз увязала в дорожной хляби. В довершение всех злоключений у самого Петербурга в карете сломалась ось, и пришлось несколько дней провести в самой настоящей, по разумению Карла Августа, хибаре – хотя на самом деле это был чистенький, опрятный и довольно уютный крестьянский домик.
Юноша с трудом подавлял раздражение. Вместо прекрасных глаз молодой царевны каждый день видеть кучера да лакеев, а к тому же еще и наслаждаться унылым пейзажем за окном… Право, батюшка Елизаветы был еще тот чудак: это же надо, вздумать построить город на непроходимых топях, в глуши, вдали от цивилизованного европейского мира… Зачем? Почему? Один Бог о том ведает…
Темнело очень рано, читать перед сном, как с детства привык Карл Август, приходилось при лучине, да и до самого сна бывало еще далеко, когда непроглядная темень надвигалась со всех сторон, словно грозя потопить одинокого путника, ищущего своего счастья в чужой неприветливой стране…
«О, моя прекрасная Елизавет… Ты словно дивный цветок, расцветший среди грязи и нищеты… Как я понимаю Фридриха, потерявшего голову от любви к тебе – и навсегда распростившегося с надеждой на радость души… Смогу ли я стать для тебя таким другом, которого чаяла ты обрести в нем, – верным и преданным?..»
Размечтавшись, Карл Август едва не выронил книгу. Поймал ее на лету, изумленно уставился на нее и вдруг по-мальчишески фыркнул.
«Однако не слишком ли меня проняло? Я знать не знаю цесаревну и слыхал о ее несравненных достоинствах лишь от дорогого моему сердцу Фридриха. Если бы он тогда в мюнхенском кабачке, утратив столь свойственное ему самообладание, не поведал мне о конфузе, случившемся много лет назад, я бы и сейчас был в неведении… Однако как благороден мой милый друг! Узнав, что я могу стать мужем его бывшей возлюбленной, он не проронил ни слова обиды или обвинения в мой адрес, а его пожелания и напутствия были полны самых искренних теплых чувств…»
Карл Август отложил книгу и сладко потянулся, разминая затекшие мышцы.
«Впрочем, неизвестно еще, как встретит меня Елизавета и, самое главное, ее мать, вдовствующая императрица Екатерина… И кто знает, найду ли я и правда в милой девушке те прекрасные черты, о которых с таким восхищением и уважением говорил Фридрих… Ее наружность не может оставить равнодушным никого, но вот душевные качества – это еще вопрос… Да и интриги, с которыми наверняка столкнусь я при дворе… Конечно, в случае удачного исхода дела я увезу Елизавету в Голштинию, ну да ведь никто никогда не забудет, что она – законная наследница царя Петра. Надо думать, мне придется противостоять многим трудностям… Может быть, нужно было отклонить предложение монаршего дома?»
Юноша покрутил головой, словно отгоняя ненужные мысли.
«Да что это со мной сегодня? Видно, русская мрачность и бездорожье нагоняют на меня тоску. Фридрих не колебался бы ни секунды, если бы стоял перед таким выбором. Разве смог бы он отказаться взойти на сияющую вершину? О, Фридриха ждет поистине великое будущее, я уверен в этом!»
Слава, немеркнущая военная слава манила Карла Августа – с самого отрочества, с тех самых пор, как на его глазах вернувшиеся с очередной войны гвардейцы выстраивались во дворе замка, отдавая честь его отцу – их королю и командиру. По сей день в ушах стоял звук выкрикиваемых команд, а стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором возникали гарцующие кони, удалые улыбки, молодцеватая бравада офицеров… Однако принц Голштинский очень хорошо понимал, что мечты – мечтами, а его удел – размеренная неторопливая жизнь, проводимая в размышлениях и научных изысканиях, в довольстве и покое, рядом с доброй любящей супругой. Зачем соваться туда, где заведомо проиграешь, потому как от природы не способен ни к стратегии, ни к тактике, ни к военным будням, ни к коварным интригам… Что же тут поделаешь… Зато он умен, и это несомненно («Хотя и несколько нескромно», – усмехнулся про себя Карл), надежен (по собственному разумению) и поэтичен (что признано многими). «Кстати, и некоторая ирония по отношению к себе самому тоже присутствует, что немаловажно…» Находить себе применение нужно там, где принесешь наибольшую пользу – окружающим, стране, себе наконец…
Да, все так, и так можно рассуждать до бесконечности… Однако временами невесть откуда взявшееся томление и тяга к захватывающим дух приключениям и ужасным опасностям накрывали Карла Августа с головой. Это же так чудесно: быть в глазах прекрасных дам не только благородным кавалером с изысканными манерами, но еще и романтическим героем, окутанным шлейфом таинственности и великих подвигов… Это становилось вечным источником его зависти к Фридриху – зависти не злобной, не черной, лишь легкого чувства некоторой обиды: и я бы так хотел… эх… Фридрих с юности подавал надежды на том поприще, лавровых венков на котором никогда не заслужить ему, Карлу Августу, – походы, сражения, победы, тонкая дипломатическая игра – во всем этом ему не было равных…
«Хм, однако хватит прибедняться… Что до дипломатии, тут, смею надеяться, я и сам не вполне безнадежен, хотя нутру моему противны придворные приемы и пошлости… Путь священнослужителя тоже не усыпан розами, ибо как можно спасать заблудшие души, не касаясь тления и праха? Нужно избегать недостойных и недостойного в жизни своей, однако всегда ли сие возможно? Часто приходится прибегать к хитрости – ради благого дела, за что нужно затем искренне раскаяться и просить прощения у Господа, ведь это сделано было во славу Его…
Если цесаревна Елизавета столь же безупречна душевно, сколь и внешне, наша общая жизнь будет полна прекрасных деяний и постоянных устремлений к совершенству… Есть много доброго, что необходимо свершить на этом свете. Так почему бы нам с молодой супругой не посвятить этому свои жизни? Разве достойно провести жизнь в лени и праздности, особенно когда обладаешь богатством и влиянием? Разве не есть высшее счастье – преумножать благо, свет и любовь в этом мире? Это ли не истинное благородство? Это ли не угодно Господу, в которого я верую всею своею душой? Впрочем, Елизавета крещена в православной вере… Но разве это может стать серьезным препятствием для двух душ, главное намерение которых – истинная вечная любовь к ближнему и единение духовное?»
С такими мыслями и с таким настроением встречал один из своих первых рассветов в бескрайней России Карл Август, принц Голштинский, не ведая о том, чем обернется для него приезд в эту загадочную страну и кем для него станет незнакомка, чей портрет он бережно хранил сейчас в кармане камзола…
Глава 8. Как угодишь тебе, душа?
Петербург поразил его. Сверкающие огнями дворцы, застывшая в холодном великолепии Нева, мелькание слуг в великолепных ливреях и взгляды дам таких прекрасных, каких ему еще не доводилось встречать… Все тяготы пути показались сущей ерундой. Он много слышал о богатстве и беспредельных просторах России, но действительность превзошла все ожидания! Теперь он ждал только хорошего, и надежды и мечты его были так светлы, как, казалось, никогда ранее… Он впитывал как губка все, что происходило вокруг, в бесконечных анфиладах роскошного дворца – от самых незначительных деталей, от мельком оброненных фраз, от мелочности и сплетен до тонкостей быта, обычаев, правил, расстановки сил, – чтобы понять и принять этот новый, непривычный, в чем-то диковатый, но такой удивительный русский уклад, который он, еще не зная его, успел полюбить всем сердцем…
Он шел через весь зал, мимо десятков придворных, прямо к трону, на котором восседала императрица. Она ожидала его, слегка улыбаясь. Ее дочь сидела рядом с ней, в голубом платье с оголенными плечами, белокожая, юная, поразительно красивая, но от волнения Карл не мог толком ее разглядеть. Ее присутствие даже несколько мешало: оно смущало его и сбивало с толку. Стоящий рядом с троном граф Меншиков смотрел на него внимательно, даже пристально, и это тоже бодрости не добавляло. Однако впитанная с молоком матери, годами отшлифованная привычка к самообладанию победила: никто, глядя на него, не сказал бы, что молодой человек испытывает хотя бы тень смущения или неуверенности.
Карл склонился в почтительном поклоне.
– Приветствую вас, дорогой принц, – прозвучал в тишине спокойный голос императрицы Екатерины.
«Однако какая интересная внешность, – равнодушно отметила про себя Елизавета. – Его можно даже назвать красавцем. Конечно, он не чета молодому графу Бутурлину, но что-то в нем определенно привлекает… Может, эта гордость во взгляде? Он словно король всего мира, при этом ведет себя просто и непринужденно…»
Она вполуха слушала приветствия гостя и рассеянно думала, как бы поскорее удрать с великолепного приема, например в Царское Село… или на охоту. Конечно, на охоту веселее, можно, кстати, и этого Карла пригласить… Черт побери, не только можно, а и придется – как-никак, возможный будущий муж… Остается надеяться, что он не такой зануда, как все голштинцы…
«Как же мне надоело это сватовство бесконечное… Я словно товар никому не нужный, который хотели продать подороже, а теперь стараются хоть за бесценок отдать… То французы, то поляки, теперь этот вот… И каждый-то меня оценивает, и каждый свое просчитывает, а я знай свое дело: приседай в книксенах да улыбайся».
Похоже, прием затягивался. Екатерина любезно беседовала с гостем, время от времени ласково взглядывая на дочь, словно приглашая и ее к разговору, но Елизавета, как образцовая юная девица, только взмахивала ресницами, придавая взгляду как можно больше кротости и приветливости, и, как водится, улыбалась со всей возможной скромностью. Матери явно нравился Карл Август, она милостиво кивала, слушая его, надо признать, весьма достойную речь, и, кажется, не собиралась прерывать, по крайней мере в обозримом будущем.
«Так мы и к завтрашнему дню не разойдемся… Отправляться мне в Голштинию, как пить дать. Матушка, вижу, довольна. А какое платье у княгини Шуваловой… Сказывают, амант подарил ей жемчужное ожерелье дивной красоты… Неплохо бы еще поехать на гулянье к Неве, но это вряд ли… Матушка будет против, а сердить ее сейчас не нужно… Жемчуг подошел бы и к моему платью, да, определенно бы подошел… Хоть бы одним глазком взглянуть на того таинственного поклонника Мари Меншиковой, о котором она говорила мне третьего дня… Надо же, записки, медальон, и все тайно, даже служанка, которая передает от него весточки, не видела его лица… Как это романтично и глупо… Однако Мари так неосторожна… Ежели узнает Александр Данилович…»
– … надеюсь увидеть вас на балу.
– Почту за честь присутствовать на нем, ваше величество. Это будет великое удовольствие для меня.
Аудиенция была окончена. Екатерина еще раз милостиво улыбнулась, отпуская гостя, Елизавета взмахнула ресницами, Меншиков слегка поклонился, Карл Август направился к выходу, придворные удалились… Слава богу!
Облегчение на лице Елизаветы было столь явным, что Екатерина едва удержалась от улыбки – но хоть кто-то же должен вести себя по-царски!
– Пойдем, Лизанька, в мои покои, поговорим с тобой немного. Александр Данилыч, не обессудь.
Меншиков поклонился, и мать с дочерью направились по бесконечным залам дворца в опочивальню императрицы. Там Екатерина тяжело опустилась в золоченое кресло (возраст и подступившие болезни все же давали себя знать), а Елизавета уютно устроилась подле ее ног на расшитом серебряной нитью парчовом пуфике.
– Что же, дочь моя, по нраву ли тебе Карл Август Голштинский?
– Право, не знаю, матушка. Он мил, любезен, умен. Хорош собою… Отчего же ему не быть мне по нраву?
«Да ты хоть слово-то слышала из его речи? Любезен, умен… Это все так, конечно, но что же ты, дитятко, не понимаешь, о чем я спрашиваю тебя?»
– Тебя, Лизанька, замуж пора отдавать. Не хочешь ты об этом думать, тогда я за тебя подумаю. Поедешь развеяться, его с собой возьмешь. Что так смотришь-то? Тебе же не терпится отправиться в охотничий домик. Вот и поезжай. Нечего от женихов бегать.
– Я не бегаю, матушка.
– Вижу я, как ты не бегаешь. Не пойму что-то: как вернулась из Германии, сама не своя. Али случилось там что?
Определенно что-то произошло, отметила про себя Екатерина. Слишком быстрый взгляд. Слишком быстрый ответ.
– Что вы, матушка… Что могло там случиться? Да и разве со мной что не так?
– Не знаю, дитя, не знаю… Чует мое сердце материнское, что скрываешь ты от меня что-то… Ну да, будет воля, расскажешь.
Елизавета, не желая спорить, тихонько вздохнула и прижалась к ногам матушки.
– Не хочу я покидать тебя. Как я без тебя буду – одна в чужой стороне?
– Что поделаешь, судьба наша такая, женская. Я не вечна, Лизанька…
– Что ты говоришь, матушка!
– Видишь, хвори одолевают, не так я уж сильна, как когда-то. Чую, скоро встречусь с батюшкой твоим.
– Матушка!
– Не перебивай меня, дитя, послушай. Ты цесаревна, может, станешь когда-нибудь императрицей российской, а нет – так все равно будешь правительницей, хоть Голштинии, хоть еще какого княжества. А правительница всегда знать правду должна – и про себя, и про других. Вот и ты сейчас пойми: я – в мир иной, а ты в этом останешься, без защиты и помощи. Поди знай, как поведут себя нынешние друзья и сподвижники. Нет у царей друзей и быть не может. Потому нужно, чтобы была поддержка, а лучшей поддержки, чем супруг, в таких делах не бывает. Карл умен и влиятелен. Он и наши конфликты на севере при надобности поможет разрешить, и здесь полезен будет. А его дружба с Фридрихом всем известна. – Елизавета слегка вздрогнула. – Так что ежели по уму, то это лучший вариант из тех, что есть у нас. Франция с Польшей – сие великолепно, однако и другие державы на свете есть. А как жизнь шутить любит, ты и сама знаешь. Вот хоть меня с батюшкой вспомни. Думала ли я, что стану когда-нибудь самодержицей всероссийской? Нет! А вот доля привела батюшку-то встретить…
«Непременно нужно сделать так, чтобы Карл Август женился на ней. Она бесхитростна и беспечна, ей самой не удержать власть… Как знать, что выкинет любезный Александр Данилыч. Он только свой интерес соблюдает, так чего ради станет делиться чем-либо с неопытной цесаревной?»
– Никто не знает, куда его дорога приведет, дитятко. Можно на самом великом престоле восседать и пасть так низко, что не соберешь косточек. А можно начать с малого, незаметного и прийти к вершине…
Глава 9. Любовь – волшебная страна
В тот год случились настоящие снежные заносы. Маленький охотничий домик в Гатчине стоял заметенный снегом. Карл Август в жизни не видел такой зимы: морозной, трескучей, сверкающей… Закутанный в меха, он стоял на пороге, не зная, решиться ли на прогулку или все-таки посидеть в тепле перед камином.
– Да что вы, Карл! – расхохоталась Елизавета. – Поедемте с нами!
Он взглянул на нее: смеющиеся озорные глаза, рыжеватые волосы, выбившиеся из-под охотничьей шляпы, раскрасневшиеся на морозе щеки… Простой мужской костюм для верховой езды не скрывал ее притягательных форм, и принц не мог отвести взгляда от высокой груди.
– Едем, едем, Карл! Будет весело! Вы точно не замерзнете, не бойтесь!
Ее смех, задорный и дразнящий, подхлестнул его. Забыв о жгучем морозе, Карл взлетел в седло.
– Едем, ваше высочество! Быстрее!
– О, так вы мне больше нравитесь!
Целая свита придворных последовала за ними. Но Карл и Елизавета далеко оторвались от них: они неслись верхом, вздымая клубы снега, искрящегося на солнце алмазной россыпью, без устали, и цесаревна казалась ему сейчас настоящей амазонкой. Она была поистине прекрасна, и весь мир соединился для Карла в одном ее лице. Он видел только ее – и даже не слышал, хотя она что-то весело кричала ему, пришпоривая гнедого коня. Карл несся за ней, то настигая, то обгоняя, а она хохотала все громче и звонче, и теперь не было для него в целом мире никого, кроме нее…
Уже несколько дней они жили вдали от двора, и Елизавета невольно все чаще вспоминала материнский наказ не бегать от женихов. В самом деле: зачем всю жизнь думать о том, кого нет рядом?
Карл нравился Елизавете, но все равно не мог затмить образ того, другого. Те черты со временем становились нечеткими, расплывчатыми, но продолжали жить в ее душе. Было время, когда она думала, что боль никогда не пройдет, но теперь понимала, что это был лишь вопрос времени. Конечно, боль никуда не делась, но теперь уже не жгла изнутри, а только тлела, свернувшись, полузабытая, на дне души. Забыть его было невозможно – да и стоило ли забывать? Давняя обида, оскорбленная гордость, бывало, напоминали о себе, но вызывали скорее тихую печаль, чем невыносимую боль. Сквозная рана осталась, и, наверно, навсегда, но она уже не мешала жить дальше.
Карл или нет, но пора было начинать все сначала. Если ей не суждено стать счастливой, она будет по крайней мере супругой европейского принца. А там будет видно… В конце концов, Карл Август – отличный вариант…
Снег чуть поскрипывал под ее ботфортами. В окне охотничьего домика горел слабый свет. Елизавета медленно прошла к двери и чуть приоткрыла ее.
Карл Август Голштинский стоял перед мольбертом, спиной к двери, и, скрестив руки на груди, задумчиво рассматривал какую-то картину. Кажется, это был женский портрет – с ее места было плохо видно. В руке Карл держал кисть. Он сам пишет картины?
Елизавета неслышно подошла ближе и заглянула через его плечо.
– Что вы делаете, Карл?
Карл слегка склонил голову набок.
– Разве вы не видите, ваше высочество?
– Но это ведь…
– Вы совершенно правы. Это вы, сударыня.
С портрета на Елизавету смотрела молодая женщина в голубом платье с открытыми плечами, с тонкой нитью драгоценностей на шее. Эта женщина была потрясающе красива – но не той дьявольской красотой, которая отличала некоторых придворных дам, слывших искусными обольстительницами. Ее красота была мягкая, нежная, но в глазах крылось нечто глубокое и тайное – словно горел скрытый огонь, словно уже готовы были вырваться наружу скрываемые даже от себя самой чувства и желания. Казалось, женщина, изображенная на портрете, еще и сама не знает силы своей души, глубины своей страстности и чувственности. Взгляд ее притягивал – обволакивая и не отпуская.
– Значит, такой вы меня видите? – спросила Елизавета очень тихо.
– Портрет не передает и сотой доли вашей красоты и обаяния, ваше высочество.
Цесаревна молча рассматривала портрет.
– Простите, если я позволил себе дерзость, ваше высочество. Мое желание изобразить вас вызвано лишь безмерным восхищением и преклонением перед вами, а также стремлением запечатлеть в меру моих скромных сил то, чему Господь позволил мне быть свидетелем.
Елизавета повернула голову и смотрела на него очень внимательно. Легкое удивление сквозило в ее взгляде.
– Благодарю вас, Карл. Очень приятно стать источником вдохновения для такого талантливого человека, как вы. Однако, мне кажется, вы несколько приукрасили действительность. Хотя, признаться, то, что я вижу, мне очень льстит.
– Вы попросту не знаете себе цены, сударыня! – воскликнул Карл.
– В самом деле? – В голосе цесаревны мелькнула откровенная насмешка.
– Ваше высочество, простите мне то, что я сейчас скажу. Возможно, вам это покажется непозволительной дерзостью, но, мне кажется, на правах претендента на вашу руку я имею право это сделать. Ваша красота поразила меня, еще когда я увидел вас в Голштинии, на портрете, переданном для меня посланником. Впервые увидев вас во дворце, я был поражен не менее и, видит бог, безмерно смущен, ибо кроме красоты внешней я почувствовал в вас и красоту душевную, возвышенную. Теперь же, когда узнал вас ближе, я сражен наповал. Мне нет спасения, ваше высочество, – мое сердце, мои чувства, вся моя жизнь в ваших руках. Одно ваше слово – и я стану самым счастливым человеком на свете. Если же на то ваша воля, скажите нет – и я стану несчастнейшим из смертных, однако это не помешает мне и далее любить вас всем своим измученным сердцем.
Елизавета слушала его, пораженная. Карл говорил искренне – в этом не было сомнения.
– Прошло очень мало времени со дня нашего знакомства, ваше высочество, но мне хватило этого времени, чтобы понять: вы единственная женщина, которая нужна мне. Я люблю вас, ваше высочество, и, если сейчас вы отвергнете меня, знайте: даже будучи отделен от вас расстоянием и судьбой, я всегда буду предан и верен вам и вы всегда можете рассчитывать на меня как на лучшего своего друга и защитника.
Елизавета молчала. В голову не приходило ни единой здравой мысли – честно говоря, не только здравой, а ни единой вообще.
Она с трудом приходила в себя от неожиданности и никак не могла сообразить, что бы такое ответить ему сейчас.
А он молча ждал, глядя ей прямо в глаза. Скрыться от его взгляда было некуда – и, черт побери, что же делать?
– Я не тороплю вас с ответом, сударыня. – Голос его был тихим и ровным, но глаза выдавали сдерживаемую боль. – Вы знаете теперь все о моих чувствах, и любое ваше решение я приму с благодарностью и с любовью.
Еще секунду он смотрел ей в глаза, а потом резко развернулся и вышел.
Елизавета осталась одна.
Бог знает, что с ней случилось, но с того дня она стала все чаще и чаще останавливать на нем взгляд. В любом разговоре искала случая обратиться к нему или сказать что-то так, чтобы он услышал. А он вел себя спокойно и ровно – но где бы она ни была, что бы ни делала, она все время чувствовала на себе его взгляд. Его присутствие ощущалось физически – она всегда знала, что он рядом. Его отношение было приятно и очень трогало, а потом вдруг она поймала себя на том, что думает о нем все чаще и чаще.
Потом он начал ей сниться. Потом она с изумлением поняла, что скучает по нему – все больше и больше. А потом стало совсем нехорошо. Она стала мечтать о нем, причем совершенно не по-девически (ну да это ладно, большое дело!), представляя, как его сильные крепкие руки нежно обвивают ее талию, а она склоняется к нему на грудь… Приходили грезы о тайных поцелуях, романтических побегах и погонях (тут она ругала себя за глупость, вспоминая прошлый опыт, но избавиться от фантазий не могла, как ни старалась). В его присутствии она с трудом сдерживалась, чтобы не краснеть: только усилием воли она заставляла себя обращаться к нему как ни в чем не бывало. Несколько раз он словно невзначай касался ее – то подавая упавшую перчатку, то во время танца… Она вздрагивала – и, кажется, все-таки слегка краснела, потому что его улыбка становилась чуть более нежной, чуть более дерзкой, а глаза… Нет, она даже не могла передать, она не могла даже поверить в то, что в такие мгновения говорили его глаза… Он смотрел на свою – именно на свою! – женщину, и никакая сила не могла бы заставить его вспомнить, что она – Елизавета, дочь Петрова, российская цесаревна, наследница великого престола. Для него она была – и в такие моменты это особенно чувствовалось – просто юной красавицей, манящей, любимой и желанной.
Когда пришло время его отъезда, она уже не представляла себе жизни без него. И это совершенно никуда не годилось. Радовало во всем этом только то, что она без памяти влюбилась не в кого-нибудь, а в своего нареченного жениха.
– Ваше высочество, скоро я вынужден буду уехать – неотложные дела зовут меня домой, в Голштинию. Ее величество и господин Меншиков официально объявили мне, что наш брак – дело решенное. Однако я не могу покинуть Петербург, не получив ответа от вас. Я счастлив, что вы станете моей законной супругой, но не смогу жить спокойно и принять от вас обет, не зная, не тяготит ли вас обязательство, которое вы вынуждены на себя взять.
Она подняла на него огромные глаза, темно горевшие на бледном лице.
– Вы мне очень дороги, Карл.
Его глаза полыхнули.
– Значит ли это…
– Да. – Она смотрела на него не отрываясь и чувствовала, как начинают гореть щеки. – Я люблю вас, Карл, и с радостью стану вашей женой, чтобы разделить судьбу, которая выпадет вам. Я буду счастлива уехать с вами в вашу страну, хотя мне и будет очень тяжело расстаться с матушкой и родным домом. Да что там, я готова пойти за вами на край света, если это потребуется.
Карл порывисто обнял ее. Она вздрогнула, но на темной аллее парка, кроме них, никого не было, и Елизавета, махнув рукой на приличия, прижалась к его широкой груди.
– Дорогая моя, я не смел и надеяться… Сказать, что я люблю вас – это ничего не сказать. Елизавета, вы – жизнь моя, дыхание мое…
Теплые губы мягко коснулись ее лба, скользнули по щеке вниз. Его поцелуй был нежен и длителен, и Елизавета почти потеряла сознание, растворяясь в его ласках. Она не знала, сколько прошло времени, и, когда он наконец оторвался от нее, почувствовала сожаление.
– Мне будет очень не хватать вас. Возвращайтесь же поскорее.
– Я вернусь через шесть месяцев – это долгий срок, но не бесконечный. Верьте мне, Елизавета, и ждите меня.
– Вы увезете с собой мой портрет?
– Право, я думал оставить его вам на память, но не в силах расстаться с ним.
– Для меня будет большим удовольствием, если вы возьмете его с собой. Надеюсь, глядя на него, вы будете вспоминать меня…
– Милая моя, конечно же, я буду вспоминать вас. Я вынужден уехать и еду только потому, что обстоятельства не допускают другого решения. Но душой я всегда буду с вами и никогда вас не забуду.
– Вы тоже навсегда останетесь в моем сердце, Карл…
Глава 10. Услыши и помилуй…
– Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй… Еще молимся о упокоении души усопшия рабы Божия, Екатерины, и о еже проститися ей всякому прегрешению, вольному же и невольному…
Елизавета стояла рядом с Меншиковым. В черном траурном платье она казалась очень бледной, рыжеватые волосы были уложены в высокую прическу. Сейчас, казалось Александру Данилычу, она очень походила на свою мать, какой она была в молодости, в расцвете своей красоты. Лицо цесаревны хранило выражение скорби, но скорби столь величественной, что всесильный граф изумился. Это уже не была маленькая беззаботная девочка, какой он всегда знал ее, возле него стояла истинная наследница российского престола, холодная, спокойная, гордая даже в своем горе.
Опять, как и после смерти батюшки, подавленная, растерянная, убитая горем Елизавета плакала одна в опочивальне. Как никогда, ощущала она вокруг гнетущую пустоту. Здесь, в России, не было больше ни одного родного человека. Обессилев от слез, она, как ребенок, свернулась калачиком на кровати и затихла. Так она лежала некоторое время, не думая ни о чем и ничего не чувствуя, и незаметно задремала. Сон был неглубок и чуток; она проснулась от какого-то легкого стука за спиной и некоторое время не могла сообразить, почему лежит поверх покрывала одетая и почему так ломит затекшую руку. А вспомнив все, она вдруг тихо, жалобно застонала и сама удивилась, поняв, что это был ее стон – скулящий, как у брошенной несчастной собачонки…
«Милый друг мой, Карл! Не могу передать словами, как я несчастна и как тяжело мне писать это письмо. Больше нет на свете моей любимой матушки, и теперь только ты остался у меня на белом свете, у тебя ищу поддержки и помощи. Больше всего желала бы сейчас тебя увидеть – хоть ненадолго, хоть на одну-единственную минуточку. Но расстояние, разделяющее нас, столь велико, что это невозможно, посему остается только молиться об исполнении моего наизаветнейшего желания. Единственное, что согревает меня сейчас, – память о твоем пребывании здесь и надежда на скорейшую встречу. Всей душой жду того мгновения, когда мы воссоединимся и сможем всегда быть вместе. Чувства мои к тебе вовек неизменны…»
– От всей души разделяю твое горе, дорогая Лизанька. – Глаза Меншикова были участливы и серьезны. – Однако следует подумать о будущем. Нет никаких причин откладывать твой брак с Карлом Августом, и, думаю, даже полезно всемерно его ускорить.
– Вы знаете, что я могу только радоваться этому, Александр Данилыч.
– Дружба с Голштинским герцогством ценна для нас. И твой брак, как и царствование твоего племянника Петра, который, бог даст, в скором времени взойдет на престол, только укрепят эту дружбу.
– Я буду всегда способствовать этому. Главное мое желание сейчас – чтобы милостию Божией процветали и были счастливы и милый моему сердцу Петруша, и дорогой Карл Август.
– Новость о нашей утрате уже достигла Европы.
– Я и сама писала ему о смерти матушки.
– В таком случае, уверен, он очень скоро приедет в Россию.
– Я надеюсь на это. Однако понимаю, что неотложные дела, заботы, его долг правителя будут еще некоторое время удерживать его в Голштинии. Посему постараюсь набраться терпения и ждать его столько, сколько потребуется.
– В горькие минуты особенно важна поддержка и помощь друзей, Лизанька. Ты можешь располагать моим домом как собственным. Ты знаешь, что моя Мари очень любит и тебя, и Петра.
– Благодарю, Александр Данилыч. Я тоже питаю самые добрые чувства к милой Мари. Однако же сейчас мне уютнее всего здесь, в матушкином дворце.
– В любом случае я всегда к вашим услугам, ваше высочество…
Прошло всего несколько дней после похорон Екатерины, но Елизавете казалось, что минул по меньшей мере год. Стояло жаркое лето, сад был полон буйной зелени, ярких красок, на деревьях заливались трелями птицы, а ей вспоминались холод церковных стен и голос диакона, гулко разносящийся под сводами… Контраст был столь ярким, что Елизавета порой сомневалась, вправду ли все это происходило с ней – прощание с матушкой, отпевание в мрачной церкви… Думалось иногда, что она наблюдает со стороны за чьей-то чужой жизнью.
Совсем скоро она покинет Петербург и отправится в Голштинию, навстречу неведомому… Елизавета не страшилась неизвестности: чего бояться, если рядом будет любящий супруг? Новая жизнь, новые впечатления, новые радости… Им будет очень хорошо вдвоем с Карлом. Потом появятся дети… Тут уже бесстрашия у Елизаветы убавлялось – беспокойство рождалось в глубине души, постепенно охватывая ее всю, но почти сразу отпускало – веселая уверенность в том, что все будет хорошо, просто отлично, плохо быть попросту не может, если с ней Карл, придавала бодрости.
«Как-то же женщины справляются с этим! Сколько было нас у матушки с батюшкой… А осталась одна я… Я молода, здорова, мы с Карлом любим друг друга, так отчего же беспокоиться?»
Потом дети подрастут, и можно будет путешествовать с ними вместе по всей Европе! О, она непременно посетит Париж – тот Париж, который когда-то дал ей от ворот поворот. Она будет блистать там – герцогиня Голштинская, и все заносчивые французы, и король в том числе, будут поражены ее красотой и изяществом. Она всем им вскружит голову, но милый Карл не рассердится, он будет только рад ее успеху, ведь он, как всегда, будет уверен в ней, иначе и быть не может, потому что только он один живет в ее сердце и он знает об этом.
Потом они поедут в Италию – обязательно в Италию, говорят, там море синее, как небо, и такое же бескрайнее… А потом нужно посетить Англию: Карл говорил, что эта страна – не что иное как остров!
Сколько всего она не знает, сколько всего ей предстоит узнать! Целый мир открывается перед ней – яркий, прекрасный, ничем не загороженный, во всем своем великолепии и блеске…
Днем Карл будет заниматься делами, а дети будут шуметь, и носиться по комнатам, и играть, и она будет заботиться о них так, как родители заботились о ней… Они научат мальчика верховой езде, а девочку танцам… А когда у мужа выдастся свободный день, они поедут на охоту или просто на прогулку. Будут нестись быстрее ветра по голштинским зеленым лугам – не российские просторы, конечно, ну да ладно…
А вечерами они будут сидеть перед камином в его старинном замке и разговаривать обо всем, а рядом будет лежать большая собака – любимая гончая Карла – и смотреть на них коричневыми умными глазами…
Письмо от Анны принесли, когда цесаревна пила кофе в маленькой гостиной. Елизавета очень скучала по наперснице, и письму от нее несказанно обрадовалась.
– Интересно, что пишет мне дорогая Анна?
Елизавета развернула письмо – изящно сложенное, с маленькой сургучовой печатью. Пробежала глазами по строчкам – и свет внезапно померк. Не веря, перечитала написанное еще раз. Потом еще.
«Дорогая моя Елизавета, ты знаешь, как я люблю тебя и как была бы счастлива оградить тебя от всех бед и напастей, которыми, увы, так богата наша земная жизнь. Однако каждый несет свой крест в одиночку, и в моих силах только разделить с тобой твою боль. Не знаю, как написать тебе об этом, однако лучше ты узнаешь обо всем от меня, чем от чужого и равнодушного человека. Наш дорогой Карл Август первого июня скончался. Ужасная оспа стала причиной его смерти. Все выпавшие на его долю страдания наш бедный Карл сносил мужественно и смертный час свой встретил достойно и смиренно, как истинный христианин. До последнего мгновения мыслями он был с тобой и надеялся на встречу и на счастье с тобою. Постарайся не плакать, дорогая моя, молись за чистую душу Карла и уповай на Бога. Господь милостив, и он не оставит тебя. С тобой же всегда моя любовь и сострадание».
Внезапно ослабев, Елизавета выронила письмо. Встала, чтобы поднять его, – и почувствовала, что не может дышать. Ноги подкосились, и она без чувств опустилась на пол.
Глава 11. Его больше нет…
Рассвет наползал на Петербург, окутывая его густой туманной дымкой. Ничего не разглядеть за окном, кроме черных деревьев, поднявших к небу тонкие черные ветки, будто костлявые руки… Какие же они белые – эти июньские ночи? Они серые, промозглые, тягучие, безутешные…
Карла больше нет, а значит, нет ее самой. То, что осталось, – зыбкая смертная оболочка, не более. Почему он умер, как он мог, как он посмел умереть? Как допустили это небеса?
Столько ушло с его смертью, столько не сбылось… Елизавета целыми днями сидела у окна, безучастно глядя в сад и не замечая ничего вокруг.
Она перестала спать – чуть сухие глаза в изнеможении закрывались, перед ней возникало лицо Карла, и стоило забыться сном, как его образ не уходил, и тогда нужно было обязательно проснуться, чтобы избавиться от душевной муки. А проснувшись, она тут же вспоминала, что произошло, – и воображение рисовало такие картины его страданий, что перехватывало дыхание и боль сдавливала сердце с новой силой. Она пыталась представить его умершим – казалось, что это позволит его отпустить и станет хоть немного легче, – но видела только живым, веселым, красивым. Как может быть, что он лежит в холодном склепе, в непроглядном мраке, совсем один, с обезображенным оспой лицом, исхудавший и почерневший за время болезни? Разве возможно им больше никогда не встретиться?
Она перестала есть, кусок не лез в горло – и девушки чуть не плакали, видя, как медленно тает их госпожа. За несколько дней она исхудала и осунулась так, что ее было не узнать, на еще недавно прелестном лице, казалось, остались лишь огромные глаза, скулы заострились, некогда прекрасные рыжеватые волосы в беспорядке спадали на плечи.
Она не разговаривала – ни с кем. Слушала отстраненно, не слышала почти ничего из того, что ей говорили. Выражала согласие или несогласие чуть заметным кивком или поворотом головы. Устало отводила глаза и снова смотрела в сад.
Она не выходила из своих покоев почти неделю – позволила себе это, чтобы хоть немного отболело, утихло, занемело…
– Воистину неудачно получилось с Карлом Августом. Вот уж не ко времени он подхватил эту проклятую оспу… И правда, сие бич всей Европы, победить который способа нет…
– Однако нужно решать, и решать здесь и сейчас. Промедление смерти подобно.
– Вы правы, князь. Елизавета Петровна теперь может быть для всех нас только костью в горле. Она растеряла всех претендентов на свою руку, и надежды на хоть какой-нибудь брак в ближайшем будущем нет никакой. Конечно, она неамбициозна и не имеет интереса и способностей к интригам, но отсутствие женихов может сподвигнуть и самую тихую гусыню вспомнить о своем праве на престол и возжелать увенчать себя короной.
Александр Данилович Меншиков был крайне раздражен и потому несдержан. Блестяще проведенная комбинация с помолвкой Марии и Петра Второго могла закончиться афронтом. То есть полнейшим афронтом! И что, все усилия – впустую?
– Ее влияние на Петра до сих пор слишком велико. Если бы она была чуть коварнее, – Меншиков усмехнулся, – давно бы стала его законной женой.
– Она слишком беспечна, – отозвался князь Нарышкин. – Но это и хорошо. Она не придаст значения такой возможности и не воспользуется ею. А глупыш Петр слишком любит свою тетушку, чтобы принуждать ее делать то, что ей не по сердцу.
– Петр несколько наивен, как большинство в его возрасте, но он отнюдь не глуп, – возразил Меншиков.
– Согласен с вами, – кивнул Бестужев. – Если он заподозрит хотя бы тень попытки повлиять на него, взбрыкнет тут же.
– Вот-вот, именно взбрыкнет! И последствия его необдуманных действий будут непредсказуемы.
– Посему, господа, для Елизаветы Петровны есть только два пути. Либо она выходит замуж, либо посвящает себя Господу.
– Последнее есть наисладчайший удел для истинной дочери Христовой, – заметил с тонкой улыбкой Бестужев.
Меншиков хмыкнул.
– Возможно, дорогой граф, однако прошу не забывать о том, как этот удел оборачивался для некоторых дочерей Христовых в государстве Российском.
– Что вы имеете в виду?
– То, что нам всем не след забывать! – вспылил Меншиков. – Неужто минуло каких-то три-четыре десятка лет и мы мирно забыли о Софье Алексеевне да о милом ее друге, Ваське Голицыне? Давно ли бунт давили? Давно ли стрельцам головы рубили? Давно ли по всей Москве кровь текла?
– Да что ж вы, батюшка, так-то… Не все, чай, таковы змеи, как Сонька-то… Вот, к примеру, Евдокия Лопухина – разве ж она из монастыря хоть раз дернулась? А Лизка что? Дитя!