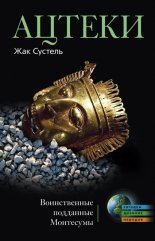Елизавета. В сети интриг Романова Мария
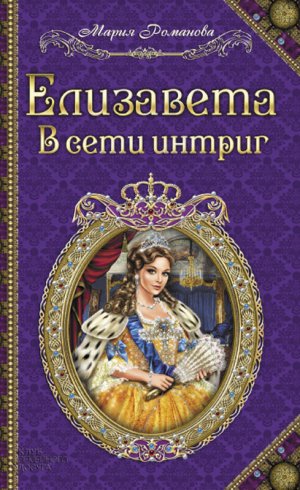
– Дитя? Она дитя не кого-нибудь, а самого Петра! И змее Соньке, как-никак, родная племянница! – Ноздри Меншикова раздувались, он в бешенстве опустился в кресло. – Нашел кого вспомнить – Дуньку Лопухину! Дура дурой, окромя косы, да сарафанов, да разговору глупого, сроду ничего не имела! А тут кровь! Петра кровь родная!
– Нельзя ее со счетов сбрасывать, – тихо согласился Бестужев. – Прав ты, Александр Данилыч, лучше отвлечь ее, чем в заточении держать. Елизавета весела, красива, ее монастырь, ежели против воли, озлобить может.
– Вот-вот, ежели против воли! Может, она сама захочет теперь в монастырь-то…
– Все же лучше бы ей замуж… И найти кого побогаче…
– Кого побогаче? Хоть кого-то бы найти… Нет, все же не хочу я Лизку в монахини стричь, разве что другого выхода не будет. Судите сами: на Петра влиять можно и нужно, если моя Машка с умом себя поведет, будет Лизавета ей в подмогу. Карл Фридрих на нее заглядывался, аж заходился весь, а он, верьте моему слову, еще покажет себя на европейской арене, и тогда Лизка нам может очень пригодиться… А будет замужем – некогда станет о власти думать-то… Что ей тогда: парики, да румяна, да наряды заморские… Она еще молода, и жениха подобрать хоть трудно, но можно, особливо ежели хвост не пушить и аппетиты умерить. Да и кто знает: вдруг завтра овдовеет польский король – вот и Елизавета, женись, будь любезен. А в случае чего (не дай бог, конечно, но всяко бывает в жизни) – вот она, Лизка, пожалуйте, законная наследница Петрова. Так что покуда так решаем, – поднялся Меншиков. – Подождем немного. Поспешим – людей насмешим, как говорится.
– Очень рад видеть вас в добром здравии, ваше высочество. – Меншиков склонился перед Елизаветой в почтительном поклоне.
– Очень рада и я, милый Александр Данилович.
Все более чем хорошо. Голос спокоен и ровен, взгляд – она уверена – мягок и приветлив, и руки не дрожат, и улыбка такая, как всегда, – от нее мужчины напрочь теряют голову. Скромное платье, украшений самая малость – что ж, дочь великого Петра вынуждена жить на нищенское содержание, урезанное больше чем в три раза, – по личному распоряжению, кстати, милого Александра Даниловича.
Что поделаешь – теперь она не наследница престола и даже не невеста голштинского герцога, а лишь обуза для императорской семьи и казны государственной…
– Как здоровье дорогой Мари?
– Благодарю, ваше высочество, – да что он взялся кланяться, в самом деле, зачем теперь-то уж эти игры, – дочь моя прекрасно себя чувствует и, хоть сейчас приготовления к свадьбе мешают ей, к великому ее и нашему сожалению, явиться ко двору, намерена в самом ближайшем будущем засвидетельствовать вам свое почтение и выказать свое соболезнование и поддержку…
«Да, племянничек любимый, Петруша, чует мое сердце, попал ты аки кур в ощип… Будешь ли игрушкой в руках всесильного Данилыча али посмеешь супротив него пойти? Ах, грехи наши тяжкие, и так и так беда может быть…»
– Уж не знаю, любезный Александр Данилович, смогу ли увидеться с ней в ближайшее время, хоть видеть ее была бы рада безмерно… Обстоятельства вынуждают меня к уединению.
– Не верю своим ушам, милое дитя, Лизанька! Неужели вы желаете покинуть петербургский двор?
«Что смотрите так, Александр Данилович? Не в монастырь я собралась, даже не надейтесь».
– Желания мои теперь все подчинены одному чувству – глубокой скорби по дорогому моему нареченному Карлу Августу.
– Скорблю всей душой вместе с вами и сожалею о вашей потере. – Меншиков склонил голову. – Вы потеряли достойного спутника жизни, Европа утратила благородного справедливого правителя.
– Благодарю вас, граф, и надеюсь, что вы поймете меня и отнесетесь с сочувствием к моей просьбе.
– Все, что угодно, ваше высочество. Вы знаете, что моя преданность и верность вашей семье, моя искренняя любовь к вашему отцу, матери, к вашим сестрам и вам самой никогда не подвергались и не будут подвергнуты сомнению.
– О да, граф, и я безмерно благодарна вам за все. Теперь же я бы хотела удалиться на некоторое время в Царское Село и тихо оплакать там, вдали от суеты двора, моего дорогого Карла Августа. Его кончина стала для меня большим горем, а ведь я только что потеряла матушку. Это слишком тяжелое испытание для меня – потерять сразу двух самых близких мне людей.
«Соглашайся, ты не можешь не согласиться! Это хороший вариант. Я сама предлагаю его тебе. Я сама отойду от двора, меня не нужно удалять от него, меня не нужно выгонять, не нужно выдавать замуж, не нужно городить огород с моим пострижением, черт возьми! А вскоре Петр женится на твоей дочери, и я перестану представлять для тебя даже самую малую угрозу… Тебе нужно только немного выждать… Ну соглашайся же! Я не хочу в монастырь!»
– Была бы очень признательна вам, Александр Данилович, если бы вы посодействовали мне. – Елизавета присела в книксене, улыбаясь и доверчиво, как ребенок, но все же с некоторым кокетством глядя на графа (мы же оба знаем, что вы не откажете мне, своей любимой Лизаньке!).
– Конечно, милое дитя, я все сделаю для того, чтобы вы были если не счастливы, то хотя бы умиротворены и имели возможность избежать непосильных для вас тягостей и забот. Однако же, думаю, вскоре ваша душа найдет утешение и будет пребывать в мире и покое, так как все в нашей жизни – тлен, и все преходяще, и радости, и страдания наши…
«Каким соловьем заливаешься, впору к проповеди либо к исповеди! Что ж, Александр Данилыч, главное, что ты согласился, – теперь некоторое время я могу быть спокойна. Да и видеть мне всех вас, Господи, совсем невмоготу…»
Глава 12. Дороги воспоминаний
Эрнст Иоганн Бирон не без тревоги следил за Елизаветой – та словно и не видела, как ее сторонятся, не замечала, что стоит одна-одинешенька и что даже самые захудалые кавалеры стараются обойти ее десятой дорогой. Цесаревна явно думала о чем-то невероятно далеком и от приема, и от замерзающего Санкт-Петербурга. И чем более отстраненной выглядела Елизавета, тем, с точки зрения почти всесильного обер-камергера, ее следовало опасаться. Ибо наверняка тайные, невысказанные мысли ее несли угрозу царице, а значит, и его сытому и спокойному существованию.
Бирон боялся признаться даже самому себе, что не об Анне болит его душа, не о ней он постоянно в тревогах. Собственное благоденствие и спокойствие детей в его глазах стоили куда дороже, чем политика или привязанность царицы. Однако ежели путь к достойной жизни лежит только через политику и ложе Анны – значит, он будет усердным царедворцем и не менее усердным фаворитом.
Бирон увидел, как к Елизавете подошел китайский посланник – на диво высокий для своей нации, он был почти одного роста со статной цесаревной. Даже издали было понятно, что косоглазый посланник сыплет комплиментами, а Елизавета, мило улыбаясь, принимает их со всем возможным в ее положении удовольствием.
Ох, как же сейчас хотелось Эрнсту Иоганну подслушать, о чем шепчутся эти двое! Быть может, вовсе никакие не комплименты, а самый что ни на есть кровавый комплот затевают, прикидываясь незнакомыми? Ну уж нет, сего он терпеть не намерен.
Бирон давным-давно чувствовал себя подлинным хозяином и дворца, и столицы, да и, чего греха таить, всей империи. Желание стать герцогом Курляндии уже бог знает сколько лет назад переросло в куда более могучее желание – желание власти без каких бы то ни было ограничений. Такой властью, быть может, не обладает в этом мире ни одна коронованная особа, однако на меньшее Бирон был не согласен – все ему было мало, меньшее он, в любом случае, рассматривал только как очередную ступеньку к осуществлению, возможно, и несбыточной, но такой красивой мечты.
– Душенька мой, что ты так пристально рассматриваешь?
Отчего-то голос Анны Иоанновны показался сейчас Бирону отвратительным – надтреснутый, капризный, сладкий. И что за кличку она ему придумала – «душенька», – так, поди, в приличных домах левреток кличут к кормушке или кошечек на руки берут с подобными словами. Но мужчину, царедворца, советчика и даже опору называть столь… гадким словом просто глупо!
Однако следовало сдержаться! Да и какова потеха будет гостям слушать перебранку царицы со своим многолетним амантом! Словно пара, что долгие десятилетия прожила вместе, ссорится у лотка коробейника…
«Однако о чем может столько времени любезничать цесаревна с посланником? Не пора ли уже ему убраться подобру-поздорову, пока его не обвинили в заговоре против «живота императрицы»?! Пусть Елизавета продолжает в одиночку сиять красотой – хотя и ей тоже не пристало столь долго гостить на празднике. Одним словом, пора уже им обоим убираться, пока Анна Иоанновна не почуяла недоброго…»
Елизавета тем временем отняла руку у посланника и отрицательно качнула головой. Бирон залюбовался длинной шеей и белыми плечами «сестрицы Лизаньки», как иногда не без яда называла цесаревну царица.
И мысли Эрнста Иоганна приняли в этот миг совсем иной поворот, обратились, можно сказать, своей противоположностью. Всесильный фаворит впервые спросил себя, отчего это он не уделял доселе более пристального внимания цесаревне Елизавете? Отчего видел одну лишь Анну царицей? Отчего был готов свою жизнь положить ради ее спокойного царствования?
«Ведь цесаревна-то Елизавета куда умнее Анны, да и хороша безмерно. И к тому же моложе… Из нее вышла бы замечательная возлюбленная. А уж если ей немного подсобить, так и совсем неплохая царица… А при такой царице стать канцлером куда слаще, чем быть обер-камергером при нынешней, старой да неумной…»
Китаец наконец покинул зал приемов. Елизавета вновь оборотилась к окну, взглянула в темные дали за ним. Сделала несколько шагов назад, поправила кружева.
«Сейчас или никогда! Ну же, глупец Эрнст Иоганн, решайся! Второго такого же шанса может не быть!»
Обер-камергер сделал пару шагов к одинокой фигуре Елизаветы. Та все еще смотрела во тьму за окном.
– Душенька, куда ты? Подай руку, я желаю спуститься к гостям.
Бирон обернулся к царице и безмолвно протянул руку. Та, с трудом поднявшись, оперлась на нее.
– Пойдем, душенька. Веди меня, что-то тяжко мне в одиночку-то ходить.
Царица почти стонала, но Бирон отчего-то был уверен, что это всего лишь скверное скоморошничанье.
«Увы, шанс утерян… Да и был ли он?»
Провожая царицу по залу, Эрнст Иоганн, однако, решил не отказываться от поисков еще одного случая, быть может, более удачного. Да и от намерений своих отказываться не собирался, равно как не собирался в них раскаиваться.
«Молодая любовница всегда лучше старой. А молодая царевна всегда лучше стареющей царицы…»
Из записок фельдмаршала Б. Х. Миниха
18 октября 1740 года герцог Курляндский Бирон был признан и провозглашен регентом Российской империи в силу завещания императрицы Анны. Он принес присягу в качестве регента перед фельдмаршалом графом Минихом.
Он сам председательствовал в Кабинете, членами которого были в то время граф Остерман, князь Черкасский и Алексей Петрович Бестужев, которого герцог привлек на свою сторону и которого, по его рекомендации, императрица назначила членом Кабинета, чтобы уравновесить власть Остермана, о котором ее величество всегда говорила, что он вероломен и никого не может терпеть около себя.
В одном из пунктов завещания императрицы было сказано, чтобы герцог-регент почтительно и сообразно их положению обходился с ее племянницей принцессой Анной и принцем ее супругом; но герцог поступал совершенно наоборот; с его стороны имели место лишь надменность и угрозы: я сам видел, как трепетала принцесса, когда он входил к ней. Так как герцог уже обошелся империи в несколько миллионов рублей еще в бытность свою только обер-камергером, сановники внушили принцессе: весьма вероятно, что за шестнадцать лет, пока он будет регентом и один будет располагать всею властью в управлении империей, он вытянет еще по крайней мере шестнадцать миллионов, если не больше, из России.
Так как другим пунктом того же завещания герцог и государственные министры уполномочивались, по достижении молодым принцем Иоанном семнадцатилетнего возраста испытать его и вынести суждение о том, в состоянии ли он управлять государством, то никто не сомневался, что герцог найдет способ представить молодого принца слабоумными своей властью возвести на престол своего сына принца Петра, который должен был, как говорили за два года до этого, жениться на принцессе Анне. Итак, принцессу убедили в том, что для блага государства нужно арестовать регента Бирона, отправить его с семьей в ссылку, а вместо него сделать герцогом Курляндским принца Людвига Брауншвейгского.
Как мы увидим ниже, регент был арестован в ночь с 7 на 8 ноября.
…Этот человек, сделавший столь удивительную карьеру, совсем не имел образования, говорил только по-немецки и на своем родном курляндском диалекте. Он даже довольно плохо читал по-немецки, особенно если попадались латинские или французские слова, и не стыдился публично признаваться при жизни императрицы Анны, что не хочет учиться читать и писать по-русски, чтобы не быть вынужденным читать ее величеству прошения, донесения и другие бумаги, которые ему присылали ежедневно.
У него были две страсти: первая, весьма благородная, – любовь к лошадям и к выездке. Будучи обер-камергером в Петербурге, он выучился отлично выезжать себе лошадей и почти каждый день упражнялся в верховой езде в манеже, куда ее величество императрица очень часто приезжала и куда, по ее приказанию, министры приносили ей на подпись государственные бумаги, составленные в Кабинете. Герцог убедил ее величество произвести большие расходы на устройство конных заводов в России, где не хватало лошадей. Племенные жеребцы для заводов были доставлены из Испании, Англии, Неаполя, Германии, Персии, Турции и Аравии; было бы желательно, чтобы эти великолепные заводы поддерживались и после него.
Его второй страстью была игра: он не мог провести ни одного вечера без карт и вел крупную игру, а так как он часто выигрывал, это ставило в затруднительное положение тех, кого он выбирал себе в партнеры.
У него была довольно красивая наружность, он был вкрадчив и очень предан императрице, которую никогда не покидал, не оставив вместо себя своей жены. Государыня вовсе не имела своего стола, а обедала и ужинала только с семьей Бирона и даже в апартаментах своего фаворита. Он был великолепен, но при этом бережлив, очень коварен и чрезвычайно мстителен, свидетельством чему является жестокость в отношении к кабинет-министру Волынскому и его доверенным лицам, чьи намерения заключались лишь в том, чтобы удалить Бирона от двора.
Регент ежедневно появлялся в Кабинете. Его министрами были те же лица, что и в царствование императрицы Анны, то есть граф Остерман, Черкасский и Бестужев.
Бирон был уверен, как он полагал, в преданности гвардии; я командовал Преображенским полком, а под моим началом находился майор Альбрехт, его ставленник и шпион; Семеновский полк был под начальством генерала Ушакова, весьма преданного Бирону; Измайловским полком командовал Густав Бирон, брат герцога, а конногвардейским – его сын принц Петр, а так как он был еще слишком молод, то Ливен, курляндец, впоследствии фельдмаршал.
Однако в самом начале против Бирона был составлен заговор, в котором участвовал секретарь принца Брауншвейгско-го по имени Граматин, что явилось одной из причин, по которой герцог так сурово обращался с принцем и принцессой Анной. Секретарь и его сообщники были подвергнуты допросу и пытке и во всем сознались; этим началось регентство Бирона.
Будучи врагом прусского короля, он вступил в новые сделки с Венским двором, но это не могло иметь никаких последствий, так как его регентство длилось всего двадцать дней, с 18 октября по 7 ноября, когда он был арестован и на следующий день отправлен в Шлиссельбург, а оттуда в Пелым, в Сибири, место его заключения, выбранное его так называемым другом князем Черкасским, который прежде был губернатором в Тобольске и знал места, где обычно содержались лица, впавшие в немилость.
Глава 13. Вечная невеста
Бирон удивился, когда после этих мыслей Елизавета вдруг окатила его долгим оценивающим взглядом.
«Ведьма, – с легким ужасом подумал обер-камергер. – Но до чего же хороша!..»
Елизавета усмехнулась, еще раз с ног до головы смерила Бирона взглядом и присела в легком книксене. Между ними было добрых полтора десятка шагов, и поэтому Бирон так и не понял, что именно хотела сказать цесаревна. Однако ответил на ее поклон милостивым кивком.
Елизавета вновь поправила узкое кружево и, повернувшись, отправилась к выходу из Малого зала.
– Душенька мой, что ж это ты? Отпустил цесаревну и даже соглядатая за ней не наладил?
Голос Анны Иоанновны сейчас был Бирону отвратителен. А ее не менее гнусная манера выносить сор из избы прилюдно, иногда даже забавлявшая Эрнста Иоганна, сейчас просто взбесила его. Сквозь зубы, стараясь говорить тихо, но так, чтобы Анна в полной мере оценила степень его гнева, он проговорил:
– Ваше величество! Будьте любезны, не обращайте внимания на мелочи! Я обо всем позабочусь.
Однако Анна Иоанновна очень мало походила сейчас на императрицу, скорее на базарную торговку. Она вскинулась, отчего всколыхнулись ее пухлые щеки, подбородки и декольте.
– Да как же это ты, дружочек мой, а? Ничего не сказавши мне, ни о чем не доложившись, дело решать намереваешься?
Бирон почувствовал, как гнев затопляет его мозг. Очевидно, он покраснел столь сильно, что испугались все, кроме царицы. Анна Леопольдовна, умница, не стала ждать ответа Бирона:
– Тетушка, да что ж вы даже в собственный праздник все в делах? Ну пусть слуги хоть иногда делают свое дело… Не тревожьтесь ни о чем…
Нельзя сказать, чтобы царица успокоилась, но милый мелодичный голосок племянницы, безусловно, привел ее в чувство. Она благодарно похлопала Анну-младшую по руке и вновь обратила взгляд к группам, фланирующим по залу. Бирон тоже был принцессе от всей души благодарен, однако не собирался забывать, что его (его!) обер-камергера Эрнста Иоганна Бирона какая-то девчонка назвала слугой, пусть даже в угоду царице и для его же блага.
«Однако недурно будет сделать вид, что я и в самом деле собираюсь наладить соглядатая…»
Обер-камергер вышел из Малого зала вслед за цесаревной Елизаветой. Той, конечно, уже и след простыл – должно быть, экипаж, что ее дожидался, и за угол повернуть успел. Но это сейчас для Бирона было только кстати, он любил торопиться медленно, а потому посчитал пару откровенных взглядов Елизаветы вполне хорошим началом для своих и впрямь далеко идущих планов.
Закрывшись в своем кабинете, Эрнст Иоганн набил трубку, приоткрыл окно и, откинувшись в кресле, погрузился в размышления. С поистине немецкой педантичностью он стал мысленно выстаивать шахматную партию завоевания сердца цесаревны Елизаветы. Сейчас он уже видел все: от первого поклона до того мига, как запрет за забой дверь опочивальни цесаревны в Летнем дворце.
Из воспоминаний Екатерины Второй
Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить; другой – для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах; иногда допускалось и на этот бал дворянство и наиболее именитое купечество. Придворные балы не превышали числом человек полтораста-двести; на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрице вздумалось в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, а всех женщин – в мужском, без масок на лице; это был собственный куртаг навыворот.
Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах, а дамы – в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений; большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой фацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она закончила, она подошла ко мне; я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент; она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною.
Глава 14. «О престоле я подумаю завтра…»
Удивительно, но Елизавета, возвращаясь в Летний дворец, тоже думала о прошлом. Однако в ее мыслях не было места расчетам. Да и какой может быть расчет, ежели Петруша был не только ее племянником, но и другом? Ежели все, о чем когда-то поведал циник Остерман любопытствующему Бирону, было ее жизнью и жизнью ее близких?
Что уж говорить о милом Карле Августе, епископе Любекском, который вот-вот должен был стать ее супругом…
Спокойный, веселый, благовоспитанный, но с легким и чуточку авантюрным характером, пригожий лицом… Даже сейчас при воспоминаниях на душе Елизаветы теплело.
Но как же больно было переживать его кончину! И не в том дело, что все ее надежды на будущее разом улетучились, а в том, что боль эта шла не от разума, где и в самом деле жили весьма радужные расчеты, а от сердца, которое за несколько месяцев успело привязаться к голштинскому принцу.
«Никто не знает, какими были мои дни… Никто и никогда не узнает, сколько слез я пролила… Да и не дело это – выставлять душу напоказ! Пусть дурни думают, что я скачу по верхам, что никого и никогда не люблю, что лишь веселюсь, ничего не принимая всерьез! И чем дольше сие будет продолжаться, тем лучше. Нет ничего хуже, чем серьезное выражение лица. Стоит тебе лишь свести брови, как все сразу начнут подозревать тебя в заговоре… Или в умышлении смертоубийства… Или в иных противных человеку замыслах и деяниях. А кому придет в голову подозревать болтливую кокетку, что скачет по жизни, словно кузнечик?»
Елизавета откинулась на изрядно продавленные подушки. Карета знавала лучшие дни, и минули они ох как давно. Но цесаревну не смущали ни скрипучие рессоры, ни истертый бархат, ни даже собственноручно сшитое платье – цель ее была столь высока, что тратить силы на гнев по таким низменным поводам было бы непростительной глупостью. Да и зачем?
На нее в простом платье, без колец и брошей, с одной лишь тонкой нитью каменьев в прическе, мужчины заглядываются так, что шеи хрустят. Китаец этот, даром что посланник, наверняка на многое готов. И уж точно будет прилагать все силы, чтобы остаться ее добрым другом, ибо сестрица Анна не вечна, а с Анной-младшей чего только приключиться не может на пути к трону-то…
«Биро-о-он… – Елизавета вполголоса рассмеялась своим мыслям. – Вот уж кто ищет путей наверх, не гнушаясь никакими средствами. Готова спорить на годовое содержание всего своего двора, что он станет делать мне нескромные намеки при первом же удобном случае. Глазки-то ма-а-асленые были у обер-камергера, тут и не хочешь, а все поймешь без ошибки. Да только мне такого аманта не надобно… В страшном сне не пожелаешь такого аманта… А уж врага нажить в его лице отказом – и того хуже. Как тут не поблагодарить судьбу, что привела Алешеньку? Как Господу в ножки за такое счастье не кланяться?»
Копыта упряжки более не цокали по мостовой – вдали от дворца ничего о городе не напоминало. Как начинались дожди, так ноги лошадей вязли в липкой грязи. А уж осенняя распутица могла и вовсе помешать выехать за ворота Летнего дворца.
– Ну вот я почти и дома… Алеша, поди, ждет, дождаться не может. Да и лекарь мой не преминет поинтересоваться, кто что говорил, да кто как смотрел. Уж сколько раз я пыталась его с собою брать… Нет, не желает. Говорит, что у него везде есть глаза и уши… Однако зачем же тогда меня-то расспрашивать?
Елизавета не давала себе труда задаться вопросом, когда и каким образом лейб-медик, не так давно матушкой возвращенный из ссылки в далекую Казань, сумел обзавестись «собственными глазами и ушами» при царском дворе. Болтливые языки сказывали, что там плетутся интриги против «душеньки Эрнста Бирона», да такие, что страшно себе и помыслить. А скромный лейб-медик Лесток, дескать, поддерживает сторону то обер-камергера, то его врагов – в зависимости от того, в чем видит собственную выгоду. Но Елизавета всегда Лестоку доверяла – должно быть потому, что он прошел через опалу и отлично знал, какой бывает цена даже за простое подозрение «на умысел противу царской фамилии».
Карета остановилась. Усердный лакей бросился помогать цесаревне, но низкий голос Разумовского со ступеней остановил его:
– Лизанька, душа моя… Вот, наконец и ты… Поди прочь, служивый. За лошадьми бы лучше приглядел да проследил бы, чтобы корму им задали и вычистили.
– Да что ж их чистить-то, батюшка Алексей Григорьич, когда их все утро холили, поди, щетку всю об них истерли. Они вона даже разгорячиться не успели. Все больше стояли в указанном месте.
– Тебя бы так, юначе, холили, как ты лошадок сих холить желаешь. Аль кормили б только тогда, когда впереди целый день работы тяжкой предстоит. Скотина, она тоже душу живую имеет. Ступай уж, делом займись! Да не лентяйничай. Приду, непременно проверю.
– Ох, Алексей, тебе б не певцом быть, а экономом иль управляющим делами.
– Любая служба почетна, серденько. А для твоей персоны я и золотарем могу стать, лишь быть от сего тебе радость да польза была.
Елизавета звонко рассмеялась.
– Вольно ж тебе, Алеша, глупости-то говорить. Твоя судьба много выше, а ты тут «золотарем готов ста-ать…»
– О судьбе, Лизанька, токмо Господь Бог ведает. А нам того знать не положено.
– Ну не хмурься, душа моя. Заждался, поди?
– Как есть заждался, серденько. Да и не кормила тебя твоя сестрица-то подколодная, готов спорить, даже ломоть хлеба не предложила.
– Нет. – Елизавета кивнула. – Не предложила она мне ни крошки хлеба, это верно. Только вина своего любимого позволила бокал испить.
– От гадюка, прости господи. – Алексей перекрестился. – И как таких подлых людишек только земля носит…
– Плоховато носит, родной мой, плоховато. Толста сестрица-то моя, одышлива, сера лицом. Видать, недомогает…
– И поделом ей. Пойдем, красуня, ужин заждался. Да и ночь уж глубокая стоит.
Елизавета, опираясь на руку Разумовского, поднялась по истертым каменным ступеням дворца. Душа ее была удивительно спокойна – ее ждали, ее любили, о ней беспокоились и заботились. Что еще может быть нужно женщине?
Кроме власти, разумеется…
Но об сем следовало думать не после утомительного куртага в студеном дворце, а хорошенько отоспавшись. Да и то лишь после того, как раз сто или даже двести все сам взвесишь и со сведущими людьми все обсудишь. Ибо одна голова-то хорошо, но две – куда умнее. Или куда хитрее, что ныне важнее всякого ума будет.
Однако этому весьма похвальному намерению сбыться было не суждено – у дверей в столовую нетерпеливо дожидался ее Лесток, верный друг, наперсник и советчик.
«Бог с ним, – не раз думала Елизавета после того, как ей рассказывали о встречах доктора и посланника французских монархов, маркиза де ла Шетарди. – Арман-то игрок, как тут без пенсионов обходиться? Должно быть, не только от Франции деньги перепадают. Быть может, и Туманный Альбион поддерживает нашего лейб-медика. Ну и пусть, лишь бы он продавался во славу нашего дела, а не выдавал тайны направо и налево. Хотя какие у меня, никчемной, могут быть тайны? О чем с Марфушей болтала третьего дня? Или сколько потратила на новый выезд?»
Елизавета усмехнулась своим мыслям. Счастье, что никому не догадаться о том, что же на самом деле у нее на душе. Потому что по сю пору никогда и никому она не доверяла до конца, не откровенничала, никого в душу не пускала. Должно быть, даже если бы все ее близкие разом продались хоть Тайной канцелярии, хоть французу Шетарди, хоть шведу Нолькену, все одно всей правды не раскрыли бы.
Права была матушка, сто раз права, когда учила доверять, но с оглядкой. А за годы, что прошли без нее, единственная наследница великого Петра преотлично научилась не доверять вообще никому.
«Даже Алеша, друг мой сердечный, много не знает. И, поди, не узнает никогда – я сама откровенничать не охотница, а он и не ведает, о чем спрашивать. Но то и к лучшему. Он и так ревнует и по поводу и без оного…»
Это была чистая правда – Алексей оказался невероятно ревнив. Он с некоторых пор не пропускал ни одной встречи Елизаветы даже с верным Лестоком, не говоря уже о менее близких ко двору цесаревны мужчинах. Каждый раз, когда в разговоре всплывало имя давным-давно почившего жениха, лицо Разумовского темнело. Он умудрялся ревновать Елизавету даже к запискам от посланников, от Шетарди или того же пройдохи Нолькена.
«Счастье, что я ни разу о Фрице не упоминала… Иначе Алешенька весь бы на ревность изошел. А сие мне совершенно без надобности…»
Да, о Фридрихе надо будет подумать – не как о душевном друге, не как об аманте (тут Елизавета усмехнулась – горе амант-то оказался, это все в прошлом), но как о соратнике. И не сейчас, когда за спиной несет караул хмурый Разумовский, а двери в столовую открывает Лесток. Однако подумать следует непременно.
– Итак, матушка, чем порадуешь?
– Да чем же порадовать мне тебя, граф? Не лазутчик я, чай, чтобы по дворцам-то шпионить. Царица Анна Иоанновна именины праздновала, во дворце было от гостей не протолкнуться, лакеи с ног сбивались…
Лесток кивал так, словно все это он уже знал и теперь просто проверял сам себя.
– … Принцесса Анна по обыкновению витает в облаках, как нездешняя. Ее жених вообще на рауте не показывался – видать, чересчур высоко ценит свою персону. Или, быть может, я слишком рано уехала…
– Так-так…
– О посланниках, что вручали грамоты верительные третьего дня, ты и без меня уж наслышан, о сплетнях, что услышала, рассказывать не буду – ибо не слышала я ничего. Однако царица обеспокоила меня видом своим нездоровым. Должно быть, ей лекарь не помешает хороший. Стареет сестрица-то…
– Стареет, матушка цесаревна, – согласно кивнул Лесток. – А от сей болезни лекарств не придумано, уж не взыщи.
– Да хватит вам все о политике… Время позднее, а Лизанька-то почитай с полудня ни крошки…
– Алешенька, друг мой бесценный, не беспокойся. Видишь же, ужинаю. И беседа сему вовсе не мешает. Моим бы воспитателям у тебя заботе поучиться.
– Да, поди, не сплоховал бы. – Разумовский улыбнулся в черные усы. – Нашел бы, что сказать, уму-разуму поучить…
– Да только давно уж нет в живых моих-то нянюшек.
– Вот потому я за тебя перед ними всеми ответ и держу, серденько.
Алексей коснулся губами пальцев Елизаветы. Цесаревна прижалась щекой к волосам Разумовского.
«Да, друг мой, ты-то и заменил мне всех моих ушедших нянюшек. Ты врачуешь мою душу, беспокоясь, как о маленькой девочке. Пожалуй, тебе бы я могла когда-нибудь открыться. Но когда-нибудь в будущем. Особливо ежели цель моя будет достигнута. А пока что с тебя довольно и того, что я не ищу никого, не вздыхаю ни о ком, радуюсь лишь тебе…»
Алексей, словно услышав мысли Елизаветы, выпрямился и обнял ее. Он был куда выше цесаревны и куда крупнее – поэтому объятием своим словно говорил, что приложит все силы, чтобы защитить ее от мира, коварных помыслов врагов и хитрой подлости друзей.
Лесток с улыбкой смотрел на них. Должно быть, он желал, чтобы улыбка выражала его поддержку и сочувствие, но Алексею отчего-то в улыбке этой увиделась змея, которая пристально следит за жертвой, чтобы в нужный момент совершить смертельный бросок.
«Змея, да к тому же породы неведомой, яду неузнанного».
При дворе все почему-то привыкли считать, что Арман Лесток ведет свой род издревле, что как минимум сто лет насчитывает история его дворянского семейства. Хотя злые языки перешептывались: дворянским ли было то семейство, доподлинно неизвестно, может, прихлебатели при Петровом дворе сочинили, может, купил он себе дворянство еще во Франции. Как бы то ни было, никто особенно правды не доискивался: дворянин – и слава богу… Но Елизавета помнила прекрасно: отец великолепного Армана был цирюльником и лекарем этого самого крошечного городка – у отца он и выучился основам медицины. Помнила – и благоразумно помалкивала. Зачем же надежного друга злить…
Арман продолжил свое образование во французской армии. Должно быть, зрелище страшных кровавых ран убедило его в том, что лучшего средства для лечения от всех болезней, чем кровопускание, не сыскать. Теперь он называл себя хирургом.
Он появился в России во времена царствования Петра Первого – в числе лекарей-иностранцев. Лесток был красив, обаятелен, легко сходился с людьми, да и лечил совсем неплохо. Хотя тут удивляться нечему: практика научит даже противу желания. Ежели пациент не помрет, конечно… Должно быть, Лесток учиться желал, ибо не прошло и года, как он уже стал лейб-медиком и врачевал царскую семью. Должность эта обещала блестящую карьеру, но жадность до развлечений и болезненная порой тяга к «златому тельцу» сыграли с хирургом злую шутку. Он уже был женат, но дворец есть дворец. Лесток увлекся дочерью придворного, соблазнил ее. История вышла некрасивая, скандальная, и Петр сослал Лестока в Казань.
Екатерина Первая вызволила его из ссылки и назначила лейб-медиком к Елизавете Петровне через шесть лет, когда Петр уже был мертв. Все те же злые языки упорно твердили, что Лесток был любовником Елизаветы. И это вполне понятно: красавец лейб-медик, который старше красавицы цесаревны, наверняка мог бы при желании добиться ее близости, тем более что Елизавета своему доктору всецело доверяла. Однако сей слух не был справедлив – и Лесток после Казани ума поднабрался, и Елизавете хватало ума, чтобы держать дистанцию, не допуская в аманты человека, от которого может зависеть ее жизнь. Ведь если что с чувствами случится, ежели амант отставку получит, то он, впавши в печаль, и отравить может, раз уж лейб-медиком остается. А изгнать из сердца и дворца одновременно не всегда так уж просто…
Елизавета по-особому, более чем доверительно относилась к Лестоку. Он жил на широкую ногу, любил крупную карточную игру и хорошую кухню, великолепно одевался, почитал балы и часто устраивал в своем доме знатные приемы. Жизнь его была бы прекрасна, если бы не вечное безденежье.
«Придется платить тебе за услуги, и платить более чем щедро. Да и, зная тебя не первый год, не сомневаюсь, что кормиться ты будешь не только с моей руки. Еще бы, лейб-медик… Наверняка будешь получать и солидные пенсионы от иностранных держав. Ну да и бог с тобой. Большой беды ты мне не причинишь, я уверена, державы те не обеднеют, а России – экономия. На одном Лестоке сбережем, почитай, четверть годового дохода».
Пройдет время, нынешняя цесаревна приобретет уверенность в себе и опыт, соберет вокруг себя тех, кому будет всецело доверять. Арман Лесток окажется не только честолюбив, но и ревнив. Он будет позволять себе изрядные капризы, осыпать Елизавету упреками – не слушается она, вишь ты, дельных советов, или слушается советов тех, кому он никогда и собачку не доверил бы (и речь иногда будет идти не только о посланниках или медиках, но даже и о канцлере, немало делавшем для чести российской). Елизавету начнут раздражать и авторитетный тон Лестока, и его непоколебимая уверенность в собственной правоте да непогрешимости, и его убежденность в том, что лишь он один знает, как правильно. Да и о непогрешимости-то следовало бы молчать. Лесток поймет, что заигрался, лишь когда рескриптом монархини маркиз де ла Шетарди получит отставку и будет с позором выслан из России.
Однако даже этого ему покажется мало – и он при – бежит как-то поутру к Елизавете, размахивая указом, подготовленным Бестужевым. В гневе будет кричать, что не потерпит над страной подобного надругательства и таких расходов ни понять, ни оправдать не может.
– Не твое сие дело, друг мой! – Тон Елизаветы будет смертельно холоден. – Куда ты лезешь? Ведь господин-то Бестужев, поди, по склянкам твоим да по флаконам нос не сует. Вот и ты в государственные дела не суй носа!
Вот так взойдет и закатится звезда Армана Лестока, французского лекаря и одного из тех, кого цесаревна почитала всю жизнь своими верными друзьями.
Из депеши Мардефельда
«Лесток, как мне показалось, отнесся весьма чувствительно к моему намеку на то, что ваше величество вознаградило бы звонкой монетой оказанные им услуги. Он мне сказал на это, что Англия предложила ему значительную пенсию и что императрица упрекнула его за то, что он ее не принял; что вслед за этим установлена была и определенная цифра, но это, однако, не делает его сторонником Лондонского двора, причем он заметил, что в данном случае есть некоторое лукавство с его стороны;… он сознался, что он уговорил императрицу в Москве не приступать к Бреславльскому трактату исключительно потому, что предложил его Вейч, и что, если бы сторонники Англии не воспользовались его отъездом в Ярославль, никогда договор с данной державой не состоялся бы; что он любит Францию из благодарности за то, что она дала 300 000 дукатов на осуществление намерения императрицы предъявить свои права на престол… она не могла бы исполнить его без этой сильной поддержки; что, однако, это обстоятельство не помешало ему высказать свое мнение маркизу де ла Шетарди в присутствии императрицы, когда он стал требовать от нее невыгодных для России уступок; что король польский хотел пожаловать ему орден, но он отказался его принять… я прервал его здесь, сказав, что почетнее всего носить ордена собственного своего повелителя, так как опасался, чтобы он не попросил ордена вашего величества. Затем он сообщил мне, что вполне предан вашему величеству в виду тождества ваших интересов с интересами императрицы. Я подхватил мяч на лету и просил его склонить государыню к безусловному поручительству за Силезию, уверив его, что ваше величество сделает то же самое относительно новых русских приобретений в Финляндии. Он мне это обещал».
Глава 15. И снова сестрица Анна
Елизавета поначалу вовсе не помышляла о российском престоле. Воспитанная как принцесса, она с малолетства знала, что ее судьба – брак во славу страны. Что, подобно Ярославне, дочери киевского князя, она должна будет выйти замуж так, чтобы страна ее супруга стала верной союзницей прекрасной и любимой России.
И если бы усилия матушки, Екатерины Первой, увенчались успехом, она действительно стала бы женой, а потом, быть может, и соправительницей Швеции или Франции, Саксонии или Пруссии. И лишь глупость и надменность европейских дворов, считавших союз с привенчанной дочерью Петра Первого возмутительным мезальянсом для наследников, в конце концов привели Елизавету к мысли о том, что единственно достойным ее может быть только престол российский. А вот грязные методы, которыми эти же европейские дворы пользовались для достижения своих целей, убедили цесаревну, что иных путей воцарения просто не существует.
Стояла глубокая ночь, но Елизавете не спалось. Мысленно она раз за разом возвращалась в Малый зал, пристально рассматривала морщины на нездоровом лице «сестрицы», пыталась разглядеть, о чем думает ее племянница, юная Анна Леопольдовна. Пыталась увернуться от пристальных взглядом Бирона… Удивлялась прихотям судьбы, которые именно этих троих сделали хозяевами царского дворца.
Недурно будет и нам взглянуть на тернистый путь, проделанный двумя Аннами к российскому престолу. Причем путь сей, без сомнения, видится нами сейчас совсем не так, как он виделся Анне Иоанновне, когда та всходила на трон, или цесаревне Елизавете, когда та удивлялась этому восхождению.
Восхождению Анны Иоанновны на трон способствовали, сами того не желая, различные дипломатические миссии.
Граф Вратислав, австрийский посланник в России, решил выдвинуться на первый план и приложил немало усилий к тому, чтобы по смерти Екатерины Первой на царство был возведен сын Анны Петровны Карл Петер Ульрих Голштинский, а Елизавета Петровна, тетка означенного сироты, была бы при нем регентшей. Для этого посланник направо и налево раздавал субсидии и подношения. Его соперники – датчане и британцы – стремились помешать будущему Петру Третьему завладеть российской короной. И для этого тоже раздавали презенты, субсидии и подношения налево и направо.
Тайный Совет, изнемогая от всех этих интриг, нашел, как им тогда показалось, идеальное решение – избавиться от обременительной царевны: теперь уже русские сами объявили Елизавету незаконной дочерью, рожденной вне брака. Была издана Декларация, которая аннулировала права на трон Романовых Елизаветы, равно как и права ее племянника. Более того, при живых наследниках сия Декларация объявляла угасшим сам род Петра Великого. Похоже, что вельможи страшились царевны, которая с годами становилась и сильнее, и мудрее, и решительнее. Став регентшей, она бы, чего доброго, отомстила за все унижения, перенесенные по вине многочисленных тайных недоброжелателей, Долгоруких, конечно, в первую голову. Посадить на трон маленького Петера Ульриха Голштинского означило бы возвратить ко двору Карла Фридриха со всем его многочисленным кланом. Если бы такое решение все же было принято, если бы Елизавета стала регентшей при малолетнем племяннике, России угрожала бы война с Данией и Англией. Хотя сие, с точки зрения Тайного Совета, было меньшим злом, чем собственная отставка или опала.
Елизавета не стала предпринимать в свою защиту ровным счетом никаких деяний. Она удалилась в имение Измайлово. Лесток тщетно уговаривал цесаревну тотчас же отправиться в столицу, опираясь на верных гвардейцев, явиться в Сенат, показаться народу. Продемонстрировать, одним словом, что род Петра не только не угас, но полон сил и готов на защиту славного имени великого царя пойти буквально по трупам. Считалось, что сотни посланий, которые писали ей в те дни ее сподвижники, то ли вообще до нее не дошли, то ли дошли с большим запозданием. Но все было много проще – Елизавета их все исправно получала, иные прочитывала и аккуратно складывала во все растущую стопку. И не предпринимала ничего. Ибо знала, что в любом случае победы ей еще не одержать.
Обескураженный молчанием Елизаветы Верховный тайный совет три дня ждал, прежде чем решить, кого лучше назвать новым государем. Дмитрий Голицын был первым, кто вспомнил о потомках Ивана V, старшего брата Петра Великого.
Его дочь Екатерина Иоанновна была замужем за герцогом Мекленбург-Шверинским, но хотя эта пара жила врозь, существовала опасность, что, если его жена взойдет на трон, герцог может обосноваться в России и начать вмешиваться в государственные дела. Собственно, от герцога Мекленбургского опасность исходила всегда, и некогда Елизавета Петровна считалась единственной спасительницей страны от усердий рекомого герцога. Ан нет – нашлась и другая спасительница, Анна Иоанновна. После скандала, спровоцированного Морицем Саксонским, она стала сговорчивой и на все согласной. К тому же ее любовник Эрнст Бирон казался настолько погруженным в дела Курляндии, что, думалось вряд ли захочет покинуть страну. Известно, что Тайный совет, бояре желали посадить на трон личность незначительную, которой они смогут управлять, исходя из собственных интересов. Одним словом, марионетку.
К тому же вспомним, как при Романовых непросто им жилось. Правление Романовых, по сути диктатура, было довольно жестким, простолюдины и чужестранцы вроде Меншикова и Лефорта слишком сильно влияли на российскую политику. Единственным выходом им виделось принципиальное ограничение монаршей власти, передача старой боярской элите Москвы, консервативной и приверженной православным обычаям, весьма широких полномочий. Тот же Дмитрий Голицын создал манифест, который описывал и права и обязанности новой монархии, первой представительницей которой должна была стать Анна.
В манифесте значилось, что надобно увеличить число тех, кто ответственен за принятие решений: законоположение предусматривало невероятно широкое участие дворянства в государственных делах. Все члены Тайного совета подписали сей документ, кроме Андрея Ивановича Остермана, первого кабинет-министра, который по обыкновению уклонился, сославшись на недомогание, – у каждого есть свой секрет, как подольше продержаться у кормила имперской власти и при этом не нести ни за что ответственности. Вот условия, что значились в манифесте, который Анна Иоанновна подписала, дабы все-таки стать русской царицей и избегнуть жизни в нищете и забытьи: императрица не принимает никаких решений без согласия Тайного совета, она не будет ни объявлять войну, ни заключать мир без его попечительства. Царица не может выносить приговор в отношении какого-либо дворянина и не должна конфисковать имущество обвиняемого, по крайней мере прежде, чем его вина будет доказана со всей непреложностью. И наконец, царица лишается права вступить в брак и сама назначить себе преемника. Каково было ставить подпись Анне под таким манифестом, особенно если вспомнить, что ей исполнилось тридцать семь – и она могла быть не только стареющей марионеткой, но и стать женой и заботливой матерью.
Анне внушали, что ее избрание произошло по воле народа. Однако основные условия, согласно которым бразды правления, и весьма ограниченного правления, заметим, все-таки стали известны будущей царице, до сих пор терпеливо ожидающей окончательного решения в Митаве. Уже упомянутый Андрей Иванович Остерман, хитрая лиса, втайне от Совета, разработал иной проект уже в пользу Анны. Почти неограниченная власть царицы, осознающей, кому она этим обязана, должна была стать для него гарантией, что за ним сохранится пост министра иностранных дел. О Елизавете, казалось, все забыли, ею пожертвовали.
Вельможи предпочли особу безликую и, как они надеялись, более управляемую. Родовитая знать полагала, что из женщины, лишенной политического опыта, сможет вить веревки.
Персона Елизаветы для всех этих политических игрищ явно не годилась – как белый день было ясно, что дочь Петра и Екатерины намерена продолжать дело своего отца, поддерживаемая министрами и царедворцами, признанными Петром Великим. Пусть при этом и лишится поддержки боярской верхушки. Бояре даже боялись представить, что именно сделает с ними цесаревна, ежели придет к власти – она и сейчас, будучи по существу никем, открыто потешалась и злословила, без различия чинов и званий.
В середине января к Анне были отправлены официальные курьеры Тайного совета. Каким образом Анну известили об интригах, плетущихся вокруг трона, и о том, что до последней минуты еще не решено, кто же станет следующим правителем России – неведомо. Однако Анна была все же монарших кровей и, всю жизнь проведя в тихой Митаве, дурой отнюдь не стала… Она сразу приготовилась вести двойную игру – любезно приняла Василия Долгорукого и без колебаний подписала поистине унизительные условия своего восшествия на престол. Она, а вот это уже настоящее чудо, согласилась даже с тем, что ее любовник Бирон не последует за ней в Россию. Бумага была утверждена.
Анна отправилась в путь, исполненная решимости отстаивать права, рассчитывая опереться на сторонников неограниченного самодержавия, располагавших серьезным козырем: безоговорочной поддержкой гвардии.
Члены Верховного Тайного совета встречали Анну в нескольких верстах от столицы. Государственный канцлер Головкин почтительно вручил новой владычице орден Святого Андрея Первозванного.
– Отчего меня не встречает гвардия? Царица присягу гвардейцев принимать желает.
Советники испытали некоторое замешательство – когда-то присяга и поддержка гвардии позволила Екатерине Первой завладеть троном.
Однако это были еще не все «несовпадения» с разработанным для ограниченной в правах монархини протоколом. Анна повелела величать себя полковником Преображенского полка, а Семена Салтыкова, кузена, тотчас же произвела в генерал-лейтенанты того же полка. Члены Тайного совета впервые почувствовали неженскую хватку царицы Анны. И ощутили, что в глубинах самого совета зреют комплоты, которые разрушат монолитную силу Совета, а то и вовсе приведут к его уничтожению.
На первом же заседании царица заставила Долгорукого и Головкина вслух прочитать манифест. Едва чтение закончилось и стало ясно, какую грязную бумагу состряпали эти достойные вельможи, царица собственными руками разорвала договор, который подписала в Митаве. В тот же день Верховный тайный совет будет упразднен и заменен кабинетом министров. Войска получили указ изготовиться к новой присяге. На каждом перекрестке установили посты. Голицына и Долгорукого сослали в их имения, подальше от столицы. И наконец, во все губернии были разосланы курьеры с отрадной вестью: Россия вновь имеет царя. Точнее – царицу. Властительницу, а не марионетку.
Состоялась коронация, но Елизавета на ней не присутствовала, предпочтя поздравить кузину письменно. Ее отсутствие разгневало Анну, от природы мстительную и злопамятную. Императрица опасалась цесаревны и ее кипучей натуры. К тому же она была недурно осведомлена о том, кто поддерживает дочь Петра в ее притязаниях на трон.
Подобная непочтительность, конечно, должна быть строго наказана: Анна решает удались Елизавету в имение, да при этом навсегда лишить ее даже слабой надежды на воцарение, пусть и по смерти кузины. Меньше чем через год после коронации Анна издает указ о новом порядке наследования престола – теперь исключительное право на трон принадлежит ее тринадцатилетней племяннице Анне Леопольдовне фон Мекленбург-Шверинской.
Юная герцогиня получила титул ее величества и обосновалась при дворе. Потомству же Петра Первого, казалось, уже навсегда отказано во всех правах, но тем не менее новая императрица не раз злобно сетовала на то, что голштинский принц – сын Анны Петровны, племянник Елизаветы и внук великого государя, – еще жив.
Елизавета стала жить в Летнем дворце, превратившись в схимницу и почти затворницу. Казалось, отныне она обречена прозябать только в своих поместьях и появляться при дворе в особых, крайне редких случаях.
Для Елизаветы наступали черные дни. Сначала Анна сослала ее в женский Свято-Успенский монастырь в Александровской слободе, в ста верстах к северо-востоку от Москвы. Императрица всерьез подумывала, не постричь ли соперницу в монахини – идея, от которой ее сумел отговорить Бирон, любовник царицы, давным-давно уже покинувший Курляндию. Этот человек, осмотрительный и предусмотрительный, не желал ссориться с дочерью первого русского императора. Более того, за спиной своей покровительницы он время от времени оказывал ей мелкие знаки внимания. Хотя, думается, Анна Иоанновна об этом преотлично знала, ибо ее любимым детищем была вновь устроенная Тайная канцелярия.
Итак, Елизавету вернули в столицу. Казалось, цесаревна ничуть не удручена ссылкой, не удивлена возвращением. Дескать, что царица прикажет, то и приму.
Более всего Анну изумляло, что цесаревна, отстраненная от власти, ведет все ту же былую праздную жизнь – за охотой следует бал, одного аманта сменяет другой. Время от времени Елизавета устраивала званые обеды и ужины, угощение для которых иногда готовила собственноручно.
Чтобы всегда видеть Елизавету и хоть как-то контролировать ее передвижения и встречи, Анна приказала цесаревне перебраться в Москву, в Анненгоф – деревянный дворец, специально выстроенный для императрицы. Елизавете пришлось терпеть крайне недружелюбное обращение царицы и отвратительные выходки ее сестры, Екатерины Мекленбургской. Но при этом она, к собственному немалому удивлению, обрела подругу в лице Анны Леопольдовны, племянницы императрицы. Девушки были различны во всем: во внешности и поведении, в оценке людей и событий, во вкусах и темпераменте. Но как бы там ни было, подруг сближала общая страсть: молодые женщины объединились во имя громадной и несбыточной цели – ни в коем случае не вступать в брак, навязанный силой. Анна восторгалась естественным изяществом и обаянием Елизаветы, а вот какие чувства испытывала та к своей сопернице, сказать трудно.
К несчастью для императрицы, Елизавета оставалась любимицей двора и сановников. Обосновавшись в столице, она сблизилась и с дипломатическими кругами, более того, у нее появилось множество почитателей, среди которых оказались испанский посол герцог Лирийский и прусский барон фон Мардефельд.
Наконец столицей Российской империи становится Санкт-Петербург. Двор переезжает на Неву, и Елизавету вновь селят в Летнем дворце. Однако ей отказано в праве приближаться к императрице и появляться при дворе, не испросив прежде соизволения, причем за несколько недель. Вельможи в ретивом усердии обидеть цесаревну и так выслужиться перед императрицей заключают ее жизнь в весьма тесные рамки. Они надеются, что, не имея достаточных средств, она станет менее привлекательной и не сможет своими способностями или щедростью привлекать новых друзей. Отдельно следует сказать о деньгах – к сожалению, они всегда равняют в несчастье и богачей, и бедняков, а те, кто желает нас притеснить, в первую очередь лишают достаточных средств к существованию.
С Елизаветой поступили именно так: сто тысяч рублей ежегодного содержания, которые полагались ей по завещанию Екатерины, отныне превратились в тридцать. И пусть к ним прибавлялись доходы от поместий, все же рекомой суммы не хватало для содержания двора, где так важно поддерживать видимость роскоши. Но цесаревна быстро научилась управлять своими расходами, значительно уменьшив число челяди, хотя все же не изгнав всех, без кого могла бы обойтись. Думается, поступила она столь «неэкономно» из простого человеколюбия – ведь слугам тоже нужно было содержать семьи, кормить детей, присматривать за престарелыми родствен – никами.
Похоже, что именно такая забота, мало свойственная членам царских фамилий, и объясняет то, насколько к цесаревне были привязаны люди, коих она числила своими друзьями. При этом маленьком дворе уже нашли свое место те, кому предстоит сыграть немалую роль во время грядущего царствования Елизаветы: Петр Шувалов и его невеста Мавра Шепелева, Михаил Воронцов и его будущая супруга Анна Карловна, кузина Елизаветы.
Безусловно, сказанного достаточно, чтобы понять, что двор Елизаветы выглядит не просто скромно, а почти скудно. Да и сам Летний дворец кажется крошечным по сравнению с палатами, возведенными для императрицы. Но цесаревна, к удивлению многих, не требует к себе никакого особого внимания или подхода, не устраивает Анне Иоанновне сцен, она словно старается уйти в тень. В первую очередь просто для того, чтобы царица своим ревнивым любопытством не мешала ей жить так, как хочется. Елизавета и ее друзья довольствуются строгой деревянной мебелью петровской эпохи, гобеленов в Летнем дворце было немного, да и те явно не первой молодости, не висели в комнатах цесаревны и громадные зеркала, подобные тем, что украшали дворцы императорских сановников.
Елизавета знала, что среди ее слуг немало царицыных шпионов, но уступать давлению кузины она явно не собиралась. Дочь Петра Великого любила общаться с народом. Прогуливаясь, часто забредала в гвардейские казармы, иногда, если была такая возможность, помогала старым солдатам и офицерам, которые помнили еще ее отца. Она охотно соглашалась быть крестной матерью и нередко приглашала в свою скромную резиденцию целые орды веселых ребятишек.
Анна взирала на все эскапады Елизаветы крайне неодобрительно, раз за разом делая попытки вернуть цесаревну в монастырь. Только Бирону удавалось отговорить ее – единственным козырем, который всегда действовал на императрицу, был прост: подобное деяние чрезвычайно уронит царицу в глазах народа. Оставалось вновь попытаться выдать неудобную и неугодную цесаревну замуж за иноземного монарха, желательно, помельче и понезаметнее – такой брак, дескать, навсегда удалит ее от двора и безусловно лишит возможности притязать на трон, буде Анна Иоанновна внезапно расстанется с жизнью.
Австрийский посол в России граф Вратислав вспомнил о до сих пор не женатом португальском инфанте доне Мануэле, чье уродство потрясло даже императрицу. Елизавета и Анна Леопольдовна в один голос объявили, что предпочтут монастырь подобному союзу.
Прусский король посватал одного из своих родственников, Антона Ульриха Брауншвейг-Бевернского. После долгих уговоров первого кабинет-министра Анна Иоанновна этот выбор одобрила, однако, поразмыслив, решила, что знаменитый родич Габсбургов и Гогенцоллернов куда больше подойдет не для нелюбимой кузины, но для обожаемой племянницы и наследницы русского трона великой княгини Анны, дочери Екатерины Мекленбургской.
Та все предложения от будущих супругов отвергала, женихов не пускала даже на порог своих комнат, а о принце Брауншвейге сказала так:
– Да лучше я брошусь в Неву, чем стану его женой, тетушка!
Анна Иоанновна решила не отступать – Антон Ульрих был приглашен в Россию, и уж не первый, далеко не первый день гостил во дворце. Анна Леопольдовна же, против собственных слов, отчего-то все не торопилась бросаться в Неву. Наоборот – время от времени она даже беседовала с женихом, хотя о браке старалась не упоминать.
Глава 16. Моя сердечная тайна
Воспоминания увлекали. Они возвращали почти тридцатилетнюю цесаревну в те времена, когда она была и намного моложе, и намного наивнее. Однако в той наивности была и своя изюминка – мир еще не казался таким жестоким, будущее не представлялось настолько безрадостным.
Чем больше Елизавета думала о грядущем, чем больше ощущала, что оно само просится ей в руки, тем сильнее ей хотелось вернуться, пусть и ненадолго, в теперь уже далекое прошлое – когда жива была матушка, когда она, Лизетка, вместе с любимой сестрой Аннушкой, пожалуй, единственной по-настоящему близкой, отправились в то самое, необыкновенное, незабываемое путешествие…
О-о-о, сейчас, в тишине опочивальни, прислушиваясь к дыханию Алексея, Елизавета чувствовала то же спокойствие, ту же защищенность, как и тогда, когда карета покинула столицу и устремилась на запад, в новые, неведомые миры…
Так оно все и было – ведь она, Елизавета, впервые за всю свою жизнь отправилась покорять Европу, в которую папенька столь старательно рубил окно, а потом и мостил дороги дружбы. Матушке нездоровилось, но она, пожимая руку младшей дочери, раз за разом повторяла:
– Все хорошо, милая… Я просто немного волнуюсь. Не так часто мне доводится вывозить дочерей в свет, представляя королевским домам…
За окошками кареты цвел май. Ухоженные поля сменялись садами. Колеса кареты то стучали по мостовым городков, то отмеряли дороги, укрытые лишь слоем пыли. Отчего-то сейчас Елизавета не могла вспомнить толком ничего – до того мига, когда матушка проговорила:
– Смотри, Лизанька… Вон там, видишь шпили? Это Дрезден.
– Дрезден, матушка?
– Да, моя хорошая. Вскоре мы увидим дворец курфюрста…