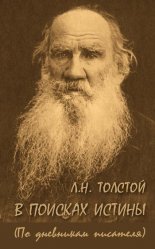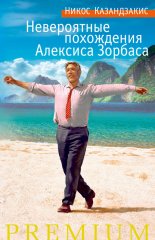Настоящая фантастика – 2014 (сборник) Ясинская Марина
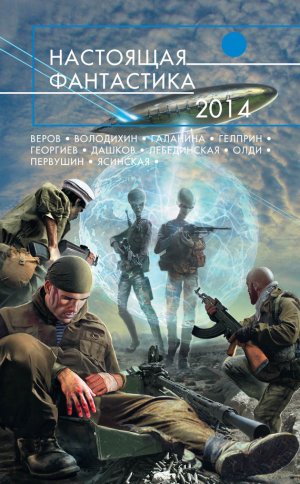
Услышав это, Хроники немедленно преисполнился благодарности и уважения к неизвестному автору.
– Мариана, я уже две недели от тебя ничего не видел, – обвиняюще заявил господин Завирайло-Охлобан, когда девушка зашла за положенными ей роялти.
Маша пожала плечами:
– Не приманивается.
– Жаль, – протянул владелец писарни, – Эти твои преступные истории очень хорошо покупаются. Как напишется новая – приноси.
– Обязательно, – соврала Маша.
На щедрые роялти, что приносил ему барон во Хамм, Станька снял роскошные меблированные нумера в самом респектабельном отеле города. Он стал одеваться в лучших ателье, питаться в дорогих тавернах и разъезжать в модных каретах. И хотя, на его взгляд, прыщей у него не убавилось, видимо, он все-таки изменился внешне, и в лучшую сторону – иначе чем объяснить то, что на Станьку стали обращать внимание молодые девушки?
Бывшему гувернеру очень нравилась его новая жизнь. Станька надеялся, что с ней никогда не придется расставаться, а потому хотел лишь одного – чтобы эти непристойные книги, приносящие королевские роялти, продолжали к нему являться.
О том, что когда-то он испытывал сожаление, не находя после писарных приступов на своем столе увлекательные детективные истории про гениального сыскаря, Станька почти забыл.
Жена лекаря-амуролога дождалась, когда тот отлучится в уборную, и прокралась к столу в его кабинете. Все, хватит, так больше продолжаться не может! Уже несколько месяцев ее муж только и делает, что пишет словно одержимый. Она устала надеяться, что Лексан Паныч со дня на день отнесет свою историю в писарню господина Завирайло-Охлобану, и сотни угольных копий разойдутся по городу, а ее соседки будут с уважением провожать ее взглядами и шептаться меж собой с тайной завистью: «Жена сочинителя».
Собрав все исписанные листы, что были на столе, жена Лексана Паныча бросила их в горящий камин и с удовольствием наблюдала за тем, как огонь жадно поедает бумагу.
Может, хоть теперь ее супруг вернется в лекарню принимать пациентов, и в доме снова появятся деньги.
Довольная содеянным, жена бывшего алкоголика, несостоявшегося сочинителя и, вероятно, вскоре снова практикующего лекаря-амуролога вышла из кабинета мужа.
Давно зреющее возмущение беспардонной наглостью тех книг, что перли без очереди, назрело и прорвалось. Последней каплей послужил очередной прорыв нескольких боевиков и дамских романов.
– Твари мы дрожащие или право имеем? – возопил кто-то из классиков, и это словно послужило сигналом. Воспитанные, благопристойные, уважающие себя книги вмиг позабыли о своих манерах и, словно обезумевшие, разом рванули к двери.
Мощный поток сметал на своем пути все жанры и все виды, уносил и тех, кто давно присмотрел себе автора, и тех, кто его еще не нашел, и без сожаления давил сопротивляющихся и нерасторопных.
Хроники быстро сообразил, что он должен сделать, чтобы выжить, – отдаться на власть потока. Его подхватило, закрутило и понесло, стремительно и неконтролируемо – никакой возможности выбраться.
Хроники несло вперед, к заветной двери, и он молился лишь о том, чтобы его не выкинуло в реальность слишком резко, иначе он рискует просто не успеть вселиться в своего автора.
Значительно разросшаяся писарня работала практически самостоятельно, как хорошо отлаженный организм, и впервые за долгое время у господин Завирайло-Охлобана появилось время почитать. Он вытащил наугад несколько рукописей, сваленных в тележку для продаж, и уселся в своем кабинете.
«Завоеватели звездных цитаделей» ему понравились, «Облава на цыплят» показалась приличной, но когда очередь дошла до «Проступка и возмездия», господин Завирайло-Охлобан потребовал к себе секретаря, а мгновение спустя трудящиеся в поте лица копировщики услышали возмущенный вопль владельца писарни:
– Мы и это копируем?
– Да, – едва слышно прошептал секретарь.
– И что – это покупают?
– Покупают. Правда, не так хорошо, как другое.
– Раз не так, то и нечего на него ресурсы тратить!
– Но…
– Что – но? – нетерпеливо спросил господин Завирайло-Охлобан.
– Это же классика, – неуверенно отозвался секретарь. – Это же – о вечном…
– О вечном! – фыркнул владелец писарни. – Я не на вечном деньги делаю. – Бросил секретарю рукопись «Проступка и возмездия» и приказал: – Больше не копировать!
Придя в себя после очередного писарного приступа, Маша обреченно взглянула на рукопись. «Мануэло» – гласило название. Неужели – опять неотличимая от дюжины других преступная история? Неужели опять – жечь?
Нет, на этот раз все оказалось иначе. Маша с увлечением прочитала о девушке-цыганке с удивительным голосом, выступавшей в лучших музыкальных салонах, и о непростой истории ее любви. Удовлетворенно улыбнулась и понесла рукопись в писарню.
Господин Завирайло-Охлобан удивил ее тем, что на этот раз взялся рукопись читать.
– А то приносят тут всякую муть, – пояснил он, поймав недоуменный взгляд девушки. – Приходится проверять.
Дочитав, сморщил свой солидный нос и недовольно спросил:
– А что, преступных историй нет?
– Нет, – твердо ответила Маша.
– Ну, ладно, сойдет, – дал добро владелец писарни, и девушка с облегчением вздохнула: впервые после истории про ожившего мертвеца ей не будет стыдно за то, что копируется под ее именем.
То, чего Хроники боялся больше всего, случилось – поток книг несся с такой скоростью и силой, что увлеченного им Хроники приложило о косяк двери между мирами, и он на миг потерял сознание.
А когда очнулся, обнаружил, что он уже в реальности.
И не в своем единственном, предназначенном ему судьбой авторе, а в безграмотном золотаре, словарный запас которого едва ли достигал сотни слов, половина из которых – нецензурные.
Грандиозные события великих империй, высокие башни неприступных крепостей, бесчисленные штандарты огромных армий, сложные интриги и зловещие козни, яркие подвиги и подлые предательства погибали, не получив ни малейшего шанса попасть на бумагу.
Если бы Хроники-не-рожденных-миров мог завыть как волк, он бы непременно взвыл. Но у него не было горла – у Хроники были только слова. Слова, которые некому было записать.
И бесконечное отчаяние погибающей книги вырвалось наружу недоуменным восклицанием насквозь пропахшего канализацией золотаря:
– Ядреный вошь, какого хна?
Жена лекаря-амуролога ожидала от супруга возмущений и криков, но в кабинете царила тишина, и она, не выдержав, на цыпочках подошла к двери и немного ее приоткрыла.
Лексан Паныч сидел за столом и сосредоточенно водил пером по странице. На углу стола лежала нетронутая стопка исписанных листов.
– Не может быть! – воскликнула пораженная супруга. – Я же сожгла твою рукопись!
Лексан Паныч поднял на жену пылающий неукротимым пожаром взгляд и тихо, но очень торжественно сказал:
– Она не горит.
Альтернативное литературоведение
Павел Шейнин
«40 000 смертей бортпроводника Живова»: история чтения и перечитывания
Мой старший брат – собачник. Однажды он сказал мне: «Такая удача, как Родрик, выпадает один раз в жизни». Чтобы вы понимали, Родрик – силихем-терьер, маленькая бородатая скамейка с чубчиком. Разглядеть в ней совершенство – это надо постараться.
Я думаю, рассказ Потоцкого был моим Родриком. Но тогда, при первом знакомстве, я этого не понял. А сейчас уже слишком поздно.
Его текст впервые попался мне под горячую руку тридцать лет назад, на заре моей критической карьеры. В то время мы все ожесточенно спорили о смерти литературы. Это была уже третья или четвертая по счету ее смерть, точно не скажешь. В любом случае, мы все были на взводе, каждый по-своему и в своей области. Я тогда увлекался научной фантастикой – и не скупился на разгромные отзывы. Все, что я читал, меня бесило, казалось инфантильным и отсталым. Блистательные, заоблачные идеи упаковывались в старую как мир приключенческую обертку. Фантасты как будто жили в жанровом гетто и совершенно не замечали, чем дышит остальная литература, куда идет, что и где у нее чешется. (Наше тогдашнее настроение хорошо отражает придуманная в те годы система для сертификации фантастических рассказов «3А»: одна А – это Анахронизм, АА – Анахронизм и Атавизм, ААА – Анахронизм, Атавизм и просто Ад.) С другой стороны, происходящее в «большой литературе» нас тоже категорически не устраивало. Постмодернизм должен был уступить место чему-то новому, но это новое все не приходило. А приходили вереницы экспериментальных, непропеченных текстов, беспомощных и напыщенных. Компьютерная литература, интерактивная литература, перепостмодернизм или что там еще – все казалось временным и поверхностным решением.
Попытка Потоцкого объединить искания большой литературы и научную фантастику вроде бы должна была меня воодушевить. Но я был вне себя от злости и поставил рассказу – стыдно сказать – одну звезду из пяти возможных. Мне показалось, что автор взял худшее из обоих направлений и смешал во взрывоопасных пропорциях.
«40 000 смертей бортпроводника Живова» – комбинаторный рассказ. Он состоит из 42 страниц, 42 фрагментов, разделенных на четыре группы. В первой и третьей группе – экспозиции и кульминации – по одному куску, так что выбирать не нужно. А вот во второй и четвертой группе – завязке и развязке – по 20 кусков, и тут открывается большой простор для маневра. Читатель должен проложить через этот лес свой маршрут. Самый короткий будет состоять из 4 фрагментов, самый длинный – из 42. В одном интервью Потоцкий на голубом глазу говорил, что изначально написал 40 000 текстов, в каждом из которых его главный герой трагически погибал, но потом выбрал один фрагмент из тысячи, чтобы сделать свой рассказ «хоть чуть-чуть читабельным». Кажется, интервьюер принял это за чистую монету.
Математическое замечание на полях: может показаться, что название рассказа вводит в заблуждение. Где же, спрашивается, 40 000, когда здесь всего-навсего 42 смерти? Но нельзя забывать о силе комбинаторики. Предположим, что под «смертью» в названии Потоцкий имел в виду множественную смерть бортпроводника Живова (что это значит, станет понятно ниже из краткого пересказа), описанную всем рассказом. В таком случае, каждый читательский маршрут – это одна смерть. А таких маршрутов астрономически много. Кратчайших, 4-страничных – всего 400 (первую и третью категорию можно не считать, а во второй и четвертой нужно выбрать по одному фрагменту из 20, итого 2020 вариантов). А вот длиннейших, 40-страничных траекторий (приготовьтесь) – 59 190 122 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, или же 5,91901221036, или же 61036. Читается это как 6 андециллионов, или 6 квинтиллионов квинтиллионов, или 6 триллионов триллионов триллионов. Цифра получается так: чтобы найти количество перестановок из 20 элементов, нам нужен факториал 20-ти, что равно 2 432 902 008 176 640 000. (Подразумевается, что если вы сначала читаете 14-й фрагмент, а потом 15-й – это отличается от случая, когда вы сначала читаете 15-й, а потом 14-й.) Остается возвести полученную цифру в квадрат (так как для каждой из 2 432 902 008 176 640 000 завязок у нас есть 2 432 902 008 176 640 000 развязок), и мы получаем количество маршрутов. Ясно, что теперь осталось подсчитать число 19-, 18-, 17-страничных прочтений и так далее. Вычисления получаются довольно громоздкими, поэтому достаточно просто умножить имеющегося гиганта на 17. (Во всяком случае, так я сделал 30 лет назад, мотивировав это следующим образом: «20-страничные варианты намного разнообразнее всех остальных; 19-, 18-, 17-страничные и так далее вплоть до 4-страничных прочтений лишь немногим обогащают общее количество маршрутов»). И вот мы получаем слегка завышенную, зато изящную оценку в 100 триллионов триллионов триллионов. Так что, если бы Потоцкий хотел быть честным с читателем, рассказ следовало бы назвать: «1,011038 смертей бортпроводника Живова».
В той первой рецензии я сравнил рассказ с серией интерактивных книг под названием «Choose your own adventure» – «Выбери свое собственное приключение». Они были популярны в 1970-е годы в США. Читателю предлагалось самому выбирать, в каком направлении повернется сюжет. В конце каждой страницы был перечень других странц, на которые можно прыгнуть. Как и у Потоцкого, там тоже были обязательные страницы (в том числе первая) и целый ассортимент концовок. Главное отличие, конечно, состоит в том, что у автора «40 000 смертей…» герой умирает во всех 42 фрагментах, что делает динамику читательского опыта слегка статичной.
Впрочем, нет. Умирает он только в 40 фрагментах. И вот тут-то начинается интересное.
Но сначала расскажу, что же все-таки происходит в рассказе. Речь там идет о некой расе под названием симфы: «бродяги высших сфер», «паломники квазиверсума», «ревизоры квантовых флуктуаций». За основу автор взял знаменитую трактовку квантовой механики, в которой система не выбирает одно из двух состояний, а принимает оба и таким образом разветвляется, причем одна из ветвей уходит в параллельный мир. И наша реальность – только один отросток чудовищно ветвистого древа. Точнее, гусеница на конце отростка, который ежесекундно удаляется от основания ствола на тысячу миров. Вся эта катавасия в рассказе называлась «симфеон», или «квазиверсум», или ПВА – «пространство всех альтернатив». Отсюда и «симфы» – существа, свободно путешествующие по древу альтернативных реальностей, челноки, прошивающие ткацкий станок мультивселенной. Живов – один из них.
В своей заметке тридцатилетней давности я довольно куце передал сюжет рассказа. Здесь позволю себе процитировать более позднюю статью, написанную пятнадцать лет назад, когда я уже значительно переосмыслил текст и глубже проникся его сюжетом (даже вдохновился им, как будет видно по стилю изложения):
Бортпроводником Живов был только в одной из реальностей – «материнской», той, в которой он вырос. И вот он оказывается обречен на 40 000 разнообразных кончин. Как это происходит? Все начинается в тот момент, когда он защелкивает ремень безопасности вокруг воздуха, во время традиционного никому не нужного инструктажа перед началом полета. В этот момент он проваливается в смерть – и в симфеон. Почему – в этом главная интрига рассказа. Оказавшись в квазиверсуме, на перекрестке переполненных меташоссе, он начинает путешествие по практической энциклопедии своих смертей.
(Замечу в скобках: этот казус в самолете – и есть первый фрагмент, экспозиция, которую нельзя пропустить.)
В мультивселенной Потоцкого каждое разумное существо – это не точка, а пространство, облако, размазанное по мириадам параллельных миров. Умерев в одной реальности, вы продолжаете безбедную жизнь в другой, третьей и энной. Вообще говоря, каждое отдельное действие в одном из миров – еле заметное коленце, которое выписывает только одна из миллиардов ваших ложноножек. И локальная смерть имеет значимость не большую, чем потеря ресницы. Но с бортпроводником Живовым происходит по-другому. Умерев в одной реальности, он умирает во ВСЕХ остальных.
Вообще в той статье я довольно много места уделил симфам. Следующий кусок непринципиален для понимания рассказа, просто любопытен:
Симфы – это «метатуристы поневоле», существа, случайно обнаружившие принципиальную многоплановость космоса, многомерные электрические овцы в момент короткого замыкания. К пробуждению симфа не обязательно приводит смерть. Это может быть любое продублированное событие. Например, одновременно в двух мирах вы выдираете себе волосок из носа – и просыпаетесь к высшей реальности. Получается так, будто двухполосная дорога сужается до однополосной, две далекие друг от друга ветви дерева снова срастаются, места для двух гусениц становится маловато – и одну из них выбрасывает в воздух между ветвями. (В другом фрагменте встречается такое объяснение: «Симф – это фасеточный глаз стрекозы, одна часть которого случайно увидела другую – и провалилась в reductio ad infinitum».)
Пробужденный симф может выбирать, чем ему заняться в муравейнике квазиверсума. Кто-то становится симфеологом – исследователем невообразимых глубин симфеона; кто-то – симфеоником, или симфантом, то есть сантехником собственного мультиразума, вантузом собственной творящей фантазии (сам акт воображения мира отпочковывает этот мир); кто-то – симфадуром, симфарадником, симфеткой. Несчастных постигает судьба симфобов и симфреников, счастливым уготован титул симфеарха – мудреца и покровителя симфов. Некоторые решают вернуться в свой локальный сон, многим это не удается, и они зависают в промежуточном состоянии. Но Живов не становится никем из них.
А вот дальше уже важнее:
Ему предстоит испытать все свои смерти – и после этого исчезнуть, стать по отношению к мультивселенной «нигдешним» и «никогдашним». Не нужно путать его параллельную множественную смерть с обычной кончиной. Нет, это – додекафоническая смерть, подлинное симфиаско. Космос вымарывает Живова из всех своих бесчисленных черновиков. Собственно, каждая смерть длится всего-то мгновение, и в какой-то момент, устав от мельтешения агоний, бортпроводник обнаруживает, что может абстрагироваться от происходящего, как бы встать в стороне от оркестра гильотин, неустанно отрубающих его головы. И вот, продолжая низвергаться в мультиад, равнодушно регистрируя отмирание очередного «я» (минус 21 грамм, минус 21 грамм, минус 21 грамм) и отмечая нюансы очередного экзистенциального спазма, Живов начинает расследование, которое и составляет суть рассказа.
Почему? Почему царь-колокол звонит по нему? Кто дал старт этому чудовищному некромарафону? Сначала бортпроводник поддается панике. Вереница трагических развязок без завязок кажется вызывающе бессмысленной. На помощь герою приходят другие обитатели симфеариума. Бродячий симфеонавт, коллекционирующий все аватары своего первого поцелуя, кратко вводит Живова в физику симфеона. Несчастный симфелитик, испытавший нечто подобное полисмерти Живова, потерявший большинство своих альтер-эго и теперь способный лавировать только между тремя одинаково отвратительными мирами, уверяет героя, что рано или поздно череда мучений оборвется. Все свои смерти симфелитик переживал не одновременно, а с большими промежутками, и потому считает землянина симфулянтом, будто бы он только симулирует свои смерти для какой-то непонятной цели. Далее, коварный симфеодал пытается завербовать героя, чтобы он стал его вассалом и помог в войне с соседними симфеодами. И каждый из встреченных симфов выдвигает новую версию в деле Живова. Особенно его увлекает вариант, подсказанный безобидным тронутым симфриком и по совместительству конспиросимфом: тот убежден, что Живов стал пешкой в чьем-то преступном замысле, что его подставили, что он будет умирать, пока не найдет того, кто его подставил, и не расправится с ним. С этим созвучна версия о мультиверсальном покаянии Живова: якобы он совершил какой-то страшный грех, и могущественная секта симфанатиков, а может быть, их Симфаал собственной персоной обрек его на страшную кару.
Интересно, что если 30 лет назад я построил маршрут из 15 фрагментов, то 15 лет назад – из 30. Прошу прощения за каламбур, так уж вышло. Важно здесь, пожалуй, то, что и в первый, и во второй раз я выбрал один и тот же фрагмент из второй части, который непосредственно предшествует кульминации – это 8-я страница. Вот как я описывал ее в цитированной статье:
Версии множатся, сплетаются, распадаются, как сами миры, но все это – только прелюдия. Ближе всего к полиистине герой подходит, встретившись с престарелым симфеархом по кличке «экс-уай-зет» (XYZ, Ксиз). В своем мире он носил противоречивый титул YZ – Yawning Zeal, то есть Зевающий Раж, Зевающее Рвение. Покинув материнскую реальность, он прибавил к своему имени «экс» – «бывший зевающий раж». И вот благодаря Ксизу кое-что проясняется.
Прогуливаясь от смерти к смерти, зевающий зилот и бортпроводник размышляют о том, что в мультивселенной возможно абсолютно все. Следовательно, абсолютно все реализуется. Если возможно себе представить такое фантастическое стечение обстоятельств, настоящий танцующий фонтан обстоятельств, при котором в каждом из возможных миров один и тот же человек трагически погибает в один и тот же момент – значит, это возможно, и такой человек должен найтись. Ровно один на весь царь-космос, на все пространства-времена, на всю камасутру великогоотца и великой матери. И это поистине – совпадение совпадений. «Но ведь не может же быть, что я – победитель наименее беспроигрышной лотереи в мультивселенной!» – восклицает Живов. «Должен же был хоть кто-то победить? Вот ты есть хоть кто-то», – отвечает Ксиз. По его словам, ситуация идентична Большой проблеме сознания в домашнем мире Живова. Симфеархи по долгу службы хорошо знакомы с локальными мирами. (Правда, вместо Земли Ксиз использует термин Облако Земель, имея в виду размытый рой реальностей, основанных на земной фактуре.) Мудрец советует молодому человеку не задаваться вопросом «почему я», точно так же как в детстве ему не было смысла задаваться вопросом «почему я – это я, а не кто-нибудь другой». Дальше в рассказе следует очень трогательный философский кусок, где «судьба всего живого, всего симфонически живого» уподобляется пробуждению планктона в разлинованном желудке кита. Каждый маленький рачок, моллюск и микроб обнаруживает себя в определенной клетке, отмеченной его именем. Причем каждое имя – это одновременно изящная математическая формула и глубокий каламбур на неком уникальном языке. И вот планктон задается вопросом: как так получилось, что я оказался в этой клетке, чье название так потрясающе красиво, так удивительно подходит ко мне? А правда заключается в том, что желудок кита выстлан огромным экраном, на котором запущен клеточный автомат, постоянно генерирующий гармоничные математико-лингвистические конфигурации.
Симфеарху удается убедить Живова в своей точке зрения. И вот они подходят к последней реальности. Что тоже довольно иронично, учитывая, что количество параллельных миров по умолчанию бесконечно. То есть за время беседы симфеарх и бортпроводник исчерпали вечность.
Обратный отсчет неумолим. И тут Живов, уже как будто смирившийся со своей ролью мультикосмического козла отпущения, вдруг проявляет слабость. Он думает: ну а что, если я не тот, о ком говорит симфеарх, что, если мне останется один крошечный завалящий мирок – и в нем одном я не умру и поживу еще немного? Ведь если в симфеоне возможно все, если там бывает смерть-во-всех-возможных-мирах, значит, бывает и смерть-во-всех-возможных-мирах-кроме-одного. Мудрец Ксиз даже немного обижается на спутника за такие мысли. Как, он готов променять звание Первопроходца Тотальной Смерти на какую-то периферийную жизнь? И ведь даже если ему отпущен еще год или там миллиард лет, все равно затем его ждет дверь аварийного выхода. Живов колеблется – но понимает, что хочет еще жить.
Я специально привожу подробное описание этого куска, потому что очень уж он мне нравится, особенно про кита. Далее – пересказ 21-й страницы, то есть кульминации, которую, как и экспозицию, читатель не выбирает.
И вот – утро последней казни. Но где же Живов обнаруживает себя? В салоне самолета, посреди деловитого жужжания кондиционеров, с ремнем безопасности в руках, который ему через секунду предстоит снова замкнуть вокруг воздуха. Он затравленно смотрит по сторонам: здесь должно быть что-то не так, как в первый раз, в материнском мире. А надо сказать, что за время путешествия он досконально изучил обстоятельства своего первого катапультирования. «Должно быть какое-то важное отличие», – говорит он себе, занося ремень над воздухом. Что же будет? Избавление и дарованная жизнь – или всего лишь ложная надежда? Некий знак, который подскажет смысл всего происходящего? А может быть, окажется истинной версия одного из ранних собеседников Живова, и он, например, обнаружит в сиденье 21F того самого заговорщика, кто подставил его, – может быть, бортпроводнику стоит мгновенно сомкнуть ремень вокруг его шеи? А может быть, истинна версия одной встреченной на пути симфетки, которая утверждала, что там, в самолете, Живов не ответил на улыбку какой-то девушки и потому провалился в водоворот прожорливых миров? Тогда нужно найти эту девушку и тут же ей улыбнуться… И вот, в последний момент, все наконец решается.
Но как – полностью зависит от читателя!
30 лет назад именно на этом месте я вдруг возненавидел Потоцкого. Впрочем, возненавидел – не то слово. Я просто был в высшей степени озадачен, потому что ощутил противоречивость собственного читательского опыта. С одной стороны, я ХОТЕЛ увидеть развязку – по старой читательской привычке, от которой так и не удалось отучиться. И в первый момент я был страшно зол на автора. С другой стороны, я понимал, что эта развязка разочарует меня. Это тоже один из моих читательских инстинктов – я просто знал, что ТАКУЮ интригу невозможно разрешить так, чтобы по-настоящему удовлетворить читателя. Так что, подвесив финал, автор как бы высмеял парадокс читателя, как бы передразнил его физиономию с открытым ртом и горящими глазами.
Итак, в тот раз я без энтузиазма пролистал все варианты развязок и выбрал в качестве окончательной концовки следующий кусок (описание из моего текста 15-летней давности):
Желание героя исполняется. Ремень защелкивается, но воздух внутри него не утекает с леденящим душу свистом. Все-таки Живов – тот, кого американцы называют runner-up, занявший второе место, умерший в алеф-минус-один мирах. И ближайшую жизнь ему предстоит прожить в тени своего монументального смертепада, взвешивая каждое мгновение, каждое решение на весах вечной ночи, которая ждет его совсем рядом. Как будто все остальные не ведают своего местоположения в дебрях вселенского лабиринта, и только он один знает, что живет рядом с его крайней стенкой.
Я был уверен, что именно это – правильный финал, то есть такой, который сам Потоцкий считал наиболее финальным. Было в нем что-то дидактическое, мол, «живи здесь и сейчас, другого шанса не будет». В этот-то момент я и отбросил книгу. Неужели автор морочил мне голову только ради того, чтобы повторить вслед за Горацием «Carpe diem»? А главное, зачем было перекладывать ответственность за развитие сюжета на читателя? Мол, не понравился рассказ – сами виноваты, нужно было лучше подбирать фрагменты? В общем, тогда все это окончилось одной звездой из пяти возможных.
Прошло 15 лет. Как-то я затеял переезд, начал перебирать архивы в кабинете и случайно раскопал первую разгромную рецензию на рассказ Потоцкого. Как же я был раздосадован собственной недальновидностью! Ведь я сам, а не автор, выбрал ту концовку. Я сел перечитывать рассказ – и, разумеется, открыл для себя совершенно новый текст. Именно к тому времени относится длинная цитированная статья, которой я как бы пытался извиниться перед автором «40 000 смертей…». На этот раз я поближе познакомился с вариантами завязок и развязок. И в качестве завершающего аккорда теперь выбрал совсем другой фрагмент, находившийся на 31-й странице:
Все версии, перечисленные по ходу рассказа, оказываются верны. В салоне самолета, как в колоде козырных тузов, обнаруживаются все, кто виноват в мультисмерти Живова: заговорщики, симфанатики, обидчивые девицы и так далее. В этом варианте бортпроводник все-таки завершает круг перевоплощений и окончательно погибает, канает в Лету, как написал мой сын в школьном сочинении. Но за секунду до этого герой вдруг понимает, что истинная причина его смерти – это он сам, что он сам поверил во все озвученные версии и тем самым удостоверил их, сделал их истинными причинами своего падения. Он понимает, что его падение началось в тот момент, когда он с отсутствующим видом проводил инструктаж для пассажиров. В тот самый момент, когда ему было скучно, когда он принимал мир как данность, когда где-то в глубине души ослабил хватку жизни и мимоходом пожелал смерти. А все остальные версии – это просто для отвода глаз. Для отвода собственных глаз.
(Странно, конечно, сравнивать собственные тексты, написанные с 15-летним интервалом. Никакого сына и никаких школьных сочинений на момент первого знакомства с рассказом еще не было…)
Произведение заиграло для меня по-новому. Теперь концовка тоже была довольно назидательной, но уже гораздо более глубокой. Однако больше всего меня поразило другое: Потоцкий описывал мой собственный опыт чтения его рассказа в первый раз! Ведь это обо мне написано: «он сам поверил во все озвученные версии»! В тот первый раз я впопыхах выдвинул версию о том, где кончается сюжет произведения, поверил в нее как в объективную – и она стала таковой. Нередкий случай, но тогда, в начале своего пути, я не подозревал, насколько велика опасность стать заложником собственной интерпретации.
Если 30 лет назад я назвал «40 000 смертей…» «фантастическим попурри» и заявил, что «начинка у рассказа весьма экстравагантна» (боже мой, ну и лексика), то спустя 15 лет фантастическая составляющая отошла на задний план – собственно, как и в моих литературных предпочтениях. К тому моменту я уже осознал истину, прекрасно сформулированную поэтом Славомиром Адамовичем: «Потолок фантазии – реальность». Меня уже интересовали совсем другие литературные материи, я набирал дипломников с темами про Бахтина, Флобера, Умберто Эко. Одним словом, рассказ Потоцкого будто бы повзрослел вместе со мной. И Живов теперь становился жертвой не слепого фантастического случая, а собственного бездействия.
Интересно, что как раз на это время пришелся расцвет движения инфинитистов с их бесконечной литературой, и тут астрономическое количество прочтений рассказа пришлось как нельзя кстати. Да и мир Потоцкого, мир бесконечных миров, – это было в тему. Казалось, что автор написал текст на вырост, до которого читатели и критики доросли только теперь.
Статью я так и не опубликовал. Другие заботы завладели мной, и я забыл о бортпроводнике Живове еще на долгие 15 лет. И поэтому, когда на прошлой неделе один из моих студентов прислал мне ссылку на «40 000 смертей…», у меня в голове произошел маленький большой взрыв.
Лирическое отступление: я сейчас чувствую себя немного как герой фантастического романа Джона Серафини, мистер Слоним, который был литературным критиком, но при этом постоянно попадал в какие-то сумасшедшие передряги. Один раз он, например, не на жизнь, а на смерть боролся с другим критиком, также литературным персонажем – героем книги в мире самого Слонима. Так вот, этот критик второго порядка воспринимал реальность мистера Слонима как книгу – и трактовал ее на свой лад. Короче, эти двое начали «войну трактовок»: оба пытались так проинтерпретировать реальности друг друга, чтобы избавиться от соперника. Я это к чему: книжка Серафини – единственный известный мне пример остросюжетного романа, где главный герой – литературный критик. И сейчас я чувствую себя именно мистером Слонимом, потому что рассказ Потоцкого превратил мою собственную жизнь в нарратив, в котором герой постигает подлинный смысл случившегося спустя много лет.
Неделю назад я снова открыл «40 000 смертей…», перечитал их и понял, что заблуждался и 30, и 15 лет назад. Теперь в качестве развязки я выбрал 40-й фрагмент – один из двух, в которых герой не умирает. Чем же закончилась для меня история бортпроводника Живова на этот раз? (Это снова цитата – из новой статьи о творении Потоцкого, которую я готовлю к печати.)
Он застегивает свой ремень – и вдруг на него нисходит озарение силой в семьсот килобудд. Он понимает, в какой альтернативной реальности он оказался: в той, в которой никакого падения и никакой автоматной очереди смертей не было! Но, что гораздо поразительнее, не было в ней и никакой мультивселенной. Ведь в симфеоне такой мир тоже возможен, а значит, существует. И чтобы умереть во всех мирах, нужно умереть и в том мире, в котором ты не умираешь и в котором вообще вся эта болтовня о многих мирах ничего не значит! Получается громогласный парадокс. Живов понимает, что симфеарх ошибался и кошмар абсолютной смерти – не более чем сон… Как, впрочем, и весь квазиверсум. Тут еще одно маленькое запоздалое озарение подбегает к бортпроводнику и отвешивает ему оплеуху: квазиверсум! Симфы прекрасно знали то, что он понял только сейчас… И бортпроводник Живов, ветеран сорока тысяч смертей, роняет застегнутый ремень безопасности из рук.
Как и 15 лет назад, рассказ опять подвергся полному переосмыслению. Он стал для меня еще менее фантастичным! В последнем фрагменте Потоцкий оставляет место для сугубо реалистической интерпретации всего произведения: все случившееся было просто метафизическим приступом в голове главного героя! Парадокс как бы выдавливает его из мультиверсума обратно в универсум. Невозможность, внутренняя противоречивость абсолютной смерти в мире Потоцкого может быть экстраполирована на наш мир. Получается, что автор рассказа с мрачным названием «40 000 смертей бортпроводника Живова» доказал бессмертие души, продемонстрировал, что пушкинская формула «Нет, весь я не умру» – применима к любому человеку в мульти– и просто вселенной.
Но было еще кое-что. Я обратил внимание на тот фрагмент рассказа, где говорится о симфантах – существах, которые создают параллельные миры, просто воображая их. «Да это же «Число зверя» Роберта Хайнлайна», – сказал я себе и принялся искать другие аллюзии в тексте. Их оказалось очень много. Я обнаружил кивки в адрес Станислава Лема (слово «нигдешний» употреблялось в одной философской тираде в романе «Осмотр на месте»), Йэна Бэнкса (симфетки Потоцкого могут переносить своих партнеров в параллельные миры во время интимной близости, точь-в-точь как героини романа Бэнкса «Transition», «Переход»), Пелевина (демон-демиург в его рассказе «Отель хороших воплощений» выходит из священного транса, увидев свое отражение в бутылке, – это созвучно уже упоминавшемуся сравнению симфа с «фасеточным глазом стрекозы, одна часть которого случайно увидела другую – и провалилась в reductio ad infinitum»). И как я мог не заметить раньше, что 42 главы – это очевидная отсылка к Дугласу Адамсу! (Что тоже иронично, учитывая, что 42 – это ответ непонятно на какой вопрос, то есть квазиответ – двоюродный брат квазиверсума.) Я находил аллюзии почти на любого фантаста, которого смог вспомнить, причем ровно на одного в каждом фрагменте. Выходило, что каждая очередная смерть Живова – это еще и смерть какой-то разновидности фантастической литературы.
Но главная подсказка ждала меня как раз в 42-м фрагменте. Дело в том, что в последних девяти словах рассказа акростихом читается слово «кенотафия». Это любопытный пример контронима – слова, противоречащего самому себе. С одной стороны, его можно расшифровать как «эпитафия по Кено». Имеется в виду Раймон Кено, создатель «Ста тысяч миллиардов стихотворений» и других комбинаторных шедевров, один из основателей французского объединения «Улипо», Мастерской потенциальной литературы. Потоцкий в молодости увлекался литературными играми улиповцев. С другой стороны, кенотаф – это «пустая могила» (от греч. kenos – пустой и tphos – могила), мемориал, не содержащий никаких останков покойного. Так, есть кенотафы Никколо Макиавелли и Марины Цветаевой. Значит, «кенотафия» – это эпитафия Кено, чья могила пуста, или же эпитафия неумершему Кено, или же – эпитафия неумершей литературе. Потоцкий высмеял, подорвал смерть не только своего героя, но и всей литературы.
В первый раз «40 000 смертей…» открылись для меня как цирковой номер с жонглированием научно-фантастическими кеглями, во второй раз – как притча о слабости воли, в третий – как апология литературы и литературного процесса, высмеивание ее периодических предсмертных жалоб, всегда оканчивающихся новым приливом сил. И здесь рассказ опять как будто вырос вместе с эпохой. Я нашел в нем описание не только того, что было, но и того, что стало. Сомнения в будущем литературы, мучившие меня и мое окружение 30 лет назад, опрокидывались и высмеивались Потоцким точно так же, как их опрокинуло само время. Пусть очередной автор уйдет в небытие, пусть очередное направление выдохнется, литература никуда не денется, потому что само ее умирание – легко превращается в сюжет.
А может быть, литература умирает в конце каждой книги и рождается в начале следующей?
Я бы с удовольствием обсудил это с Потоцким. Я бы с удовольствием узнал у него, зачем он 30 лет водил меня за нос со своим бездонным текстом. Но если герою и литературе в целом не страшны 40 000 смертей, автору оказалось достаточно и одной.
Неделю назад мой студент прислал мне две ссылки: вторую – на «40 000 смерей…», а первую – на новость о кончине Потоцкого. Так что материал, который я готовлю, одновременно будет и некрологом.
Я почти дописал его. Но чего-то не хватает. Концовка никак не получается. Наверное, меня ставит в тупик неокончательность моих выводов. Что, если я не увидел чего-то еще более важного? Что, если через 15 лет я открою рассказ про бортпроводника – и пойму, что был слеп? Может быть, текст заставит меня поверить во что-нибудь совсем уж невероятное. Например, в то, что смерть Потоцкого так же внутренне противоречива, как и смерть Живова, а значит, по большому счету, просто не может восприниматься всерьез.
Сергей Чебаненко
Над Саракшем звездное небо
«…Но почему мне иногда кажется, что этот – или очень похожий на него – роман будет все-таки со временем написан? Не братьями Стругацкими, разумеется. И не С. Витицким. Но кем?»
Б. Н. Стругацкий, «Комментарии к пройденному»
История появления текста под названием «Над Саракшем звездное небо» и загадочна, и скандальна.
Началась она поздней осенью 2013 года, когда в одно из крупнейших в Москве издательств обратился фантаст Алексей Голубев – писатель, хорошо известный читателям еще с последней четверти минувшего века. Был участником семинаров в Малеевке и в Дубултах. В постперестроечное время перебрался в Канаду. Иногда – раз примерно в два года – Голубев наезжал в Россию. Официально – поучаствовать в каком-нибудь из конвентов, а неофициально – попить водочки с приятелями из «фантастического цеха». Обычно в эти редкие визиты на Родину Алексей приезжал не с пустыми руками: два, а то и три новых романа появлялись на редакторских столах.
Однако осенью 2013 года Алексей Голубев принес в издательство не только текст своей очередной «нетленки», но и толстый заклеенный пакет из плотной коричневато-желтой бумаги. На склейке имелись нанесенные чернилами подписи Аркадия и Бориса Стругацких и дата, когда конверт, видимо, был запечатан – 27 марта 1983 года.
Редактор издательства, которому был вручен пакет, – сам, кстати, писатель, – на своем веку видел немало самых необычных текстов. Но даже он испытал шок, когда конверт был вскрыт: внутри обнаружился аккуратно напечатанный машинописным способом на слегка пожелтевших от времени листах бумаги текст неизвестного романа братьев Стругацких «Над Саракшем звездное небо».
Припертый «к стенке», писатель Голубев, потея от волнения и сбиваясь, рассказал, при каких обстоятельствах к нему попала запечатанная в конверт рукопись. Три десятилетия назад, в ноябре 1983 года, сам Аркадий Натанович попросил Алексея Голубева принять на хранение и ровно через тридцать лет отдать в издательство текст этого романа. Голубев боготворил Стругацкого-старшего и безропотно взял пакет. Конечно же, рукопись пропутешествовала с Алексеем в зарубежье, а обратный перелет на Родину совершила только через тридцать лет.
Правда, в сентябре 1991-го, сразу же после безвременного ухода из жизни Аркадия Стругацкого, Алексей позвонил из заграницы Борису Натановичу, выразил соболезнования и поинтересовался, как быть с рукописью, отданной ему на хранение? Последовала пауза, а потом Стругацкий-младший сказал:
– А вот так и поступите… Отдайте в издательство, как и было задумано Аркадием Натановичем.
И, помолчав, добавил едва слышно:
– Наверное, так и в самом деле будет лучше…
Сказать, что появление текста «Над Саракшем звездное небо» вызвало сенсацию – это значит не сказать ничего. Новость распространилась мгновенно. Фэндом и писательское сообщество бурлили, расколовшись на два непримиримых лагеря.
Первые – к ним относились и члены группы «Людены», и публикатор текстов Стругацких Светлана Бондаренко, и исследователи творчества крупнейших российских писателей-фантастов, – в один голос утверждали, что им ничего не известно о нежданно объявившемся романе. Мол, ни в одном из писем братьев друг другу о нем нет ни строчки. Ни разу ни Аркадий, ни Борис и словом не обмолвились среди родственников и друзей о том, что за океаном хранится их неопубликованное произведение. В «Комментариях к пройденному» Бориса Стругацкого нет ни малейшего упоминания о том, что где-то существует текст под названием «Над Саракшем звездное небо».
Вторая группа – в основном читатели-фанаты и молодые фантасты – бурно приветствовали появление «посмертного» романа братьев Стругацких и горели желанием поскорее увидеть книгу на книжных полках.
Алексей Голубев клялся и божился, что получил рукопись из рук самого АН тридцать лет назад. Были назначены несколько очень серьезных экспертиз. Исследование бумаги, на которой напечатан текст романа, подтвердило, что она изготовлена три десятилетия назад. Машинописная печать выполнена в те же годы – это стало ясно из анализа оттиска красящей ленты. Более того, эксперты убедительно доказали, что текст романа отпечатан именно на той пишущей машинке, которой пользовались АБС в далеком уже 1983 году. Привлеченные к процессу опознания, десять литературоведов единодушно подтвердили, что произведение «стилистически исполнено в характерной для А. Н. и Б. Н. Стругацких манере». То же самое – с вероятностью 98,7 процента – «выдала на-гора» и компьютерная программа-лингвоанализатор.
Казалось бы, все стало на свои места. Но… Одновременно все эксперты предостерегли: сегодня уже существуют настолько искусные технологии подделки, что все же остается вероятность появления ловко сработанной фальшивки.
Поэтому публиковать полученный от писателя Голубева текст под именем АБС издатели не решились. В итоге книга была издана летом 2015 года в рамках проекта «Обитаемый остров» под авторским названием «Над Саракшем звездное небо», но под псевдонимом Дмитрий Строгов. В некоторых книгах братьев Стругацких под этой фамилией значился некий «признанный писатель», «Толстой двадцать первого века».
Стоит ли говорить, что роман был едва ли не в мгновение ока раскуплен и в обычных, и в интернет-магазинах? Во Всемирной сети появились пиратские копии текста, которые скачивались миллионами читателей по всему миру.
Увы, прошло уже более полугода после выхода в свет книги «Над Саракшем звездное небо», но качественных отзывов на опубликованный роман пока не появилось. Споры по поводу авторства текста по-прежнему кипят на литературных форумах в интернете, периодически выплескиваясь на страницы газет и журналов в виде желчных обвинений спорящих сторон и взаимных скандальных разоблачений. Возможно, поэтому наши ведущие критики и литературоведы, обычно неравнодушные к книгам фантастического жанра, не спешат дать оценку произведению Дмитрия Строгова. Постараемся восполнить пробел и выскажем некоторые соображения относительно романа, всколыхнувшего как сообщество фантастов, так и пестрый конгломерат любителей фантастики.
1
По объему роман «Над Саракшем звездное небо» относительно невелик – всего чуть более одиннадцати печатных листов. Если не принимать во внимание фантастические допущения – инопланетный мир и технологические диковинки землян и саракшанцев, – текст написан в классических канонах детектива и шпионского романа.
Роман полифоничен. Повествование ведется попеременно по двум сюжетообразующим линиям – от имени Максима Каммерера, уже знакомого читателю по трилогии «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер», и от имени саракшанца Эрладо Штертака. В свою очередь, в каждой из линий повествование идет как от первого, так и от третьего лица. В тех случаях, когда нужно дать общую панораму событий и показать динамичность происходящего, Дмитрий Строгов использует повествование от третьего лица. Когда же в тексте подчеркиваются чувства и переживания героев, рассказ ведется от первого лица. Такой переход позволяет автору не только полнее показать внутренний мир героев, но и создает эффект выпуклости и объемности текста в целом.
В полной мере используется Дмитрием Строговым и принцип многоязычия. Максим Каммерер, Эрладо Штертак и другие персонажи романа говорят и думают каждый на своем языке, характерном только для этого персонажа. Речь персонажей узнаваема, диалоги выглядят живо и в полной мере отражают речевые особенности героев произведения.
Текст романа не является линейным. Автор усложняет фактуру повествования, периодически делая пейзажные, лирические, исторические отступления. Размышляет о конфликте цивилизаций Максим Каммерер, с теплотой вспоминает наставников по летно-курсантской школе Эрладо Штертак, с позиций собственных жизненных интересов оценивают окружающий мир прочие персонажи романа. Как результат, произведение становится многогранным, панорама мира видится яснее и четче, персонажи обретают черты чувствующих и действительно живущих людей. В романе в изобилии ассоциативные цепочки, иносказания, аллюзии, косвенные высказывания, вложенные автором в уста персонажей.
Благодаря фантазии Дмитрия Строгова появляются в романе и совершенно новые для читателя обитатели Саракша: огромные, в половину человеческого роста, представители семейства кошачьих – почти разумные махкоты, домашние любимцы пандейцев.
2
Экспозиция в романе разделена на две части.
Внешняя экспозиция, выполненная в виде пролога под названием «Встреча над планетой», определяет не только время и место действия, но и схематично намечает будущие конфликты романа. В апреле 2188 года на орбитальной станции над Саракшем случайно встречаются земной резидент в Пандее Клавдий Луговинов и куратор проекта «Белый ферзь – 2» Григорий Серосовин. Из беседы старых знакомых (оба персонажа упоминались в «Жуке в муравейнике» как работники КОМКОНа-2) читателю становится известно, что предстоит осуществление проекта «Саракшанец в космосе» и эвакуация Максима Каммерера из Островной Империи, где он уже более десяти лет успешно работает под именем советника Адмиралтейства Иллиу Капсука.
Внутренняя экспозиция включает в себя первые три главы романа. В Иерархате Пандея группа ученых под руководством доктора Аегудо Гартука осуществляет амбициозный проект «Мировой Свет» – разрабатывает ракету с отделяемым пилотским отсеком, который сможет долететь в любую точку на поверхности Саракша, обогнув Мировой Свет. Мировой Свет – это некий заоблачный источник света над планетой, небо которой постоянно затянуто облаками, а сама планета из-за рефракции видится ее жителям огромным вогнутым шаром внутри бесконечного каменного пространства.
Дмитрий Строгов не злоупотребляет географическими, социальными и политологическими описаниями Пандеи, но из текста и речи персонажей романа становится в общих чертах ясно авторитарное устройство этого саракшанского государства. Религия жителей страны основана на культе Святого Дракона. Наместником божества на Саракше является Дракон-Генералиссимус Тупир Линстак. Ниже в управленческой пирамиде располагаются многочисленные чиновники: Величайшие, Трех– и Двуглавые драконы (генералитет), Большие драконы, старшие и младшие змеи (старшие офицеры), полу– и четвертьзмеи (младший командный состав) и рядовые-змееносцы.
Разработка ракеты «Мировой Свет» оказывается в центре интриг трех группировок. Руководитель Военного ведомства Величайший дракон Гекта Трабарук и глава тайной полиции Великий дракон Санга Баларок намереваются использовать ракету для прямого ядерного удара по столицам сопредельных и заокеанских стран. Главный дипломат Пандеи Величайший дракон Хенга Рамирек и начальник внешней разведки Трехглавый дракон Геранга Севадлюк хотят запустить множество ракет в заоблачную «зону равновесия» – круговой участок в пространстве между твердью вогнутого Саракша и Мировым Светом, на котором силы гравитации уравновешены, – и оттуда шантажировать бомбардировкой противников Иерархата Пандея. Третья группировка представлена мечтающим не столько о создании военной техники, сколько об исследованиях заоблачных высот вблизи Мирового Света разработчиком ракеты Аегудо Гартуком и поддерживающей его Главой Научного ведомства академессой Рагией Магаллук.
Хотя в целом разработка ракеты «Мировой Свет» ведется под патронатом Военного ведомства, Главному дипломату и начальнику внешней разведки удается внедрить в группу «светосмертников» (пилотов-камикадзе, которые должны пилотировать начиненную ядерными бомбами ракету, наводя ее на цели) своего человека – Большого дракона Эрладо Штертака. Он должен не только информировать своих руководителей о разработке проекта, но и сорвать планы внезапного ракетного удара по другим странам.
Дмитрий Строгов скуп в описании внешности Большого дракона Штертака. Читателю сообщается лишь минимум информации: Эрладо довольно молод – около тридцати лет, спортивно сложен, темноволос и кареглаз. Он один из лучших разведчиков Пандеи – более трех лет резидентствовал в Островной Империи. Целостный образ главного героя формируется уже по мере чтения романа – и как следствие взаимодействия его с другими персонажами, и как итог размышлений Штертака о сути происходящих событий.
Пока в Пандее кипят нешуточные политические страсти, Иллиу Капсук мирно трудится советником в Адмиралтействе во Внешнем круге Островной Империи. Параллельно он тайно создает прогрессорско-разведывательную сеть из жителей Внешнекружья. Иногда Мак Сим посещает внутренний Солнечный круг для бесед с Высоколобыми на интеллектуально-просветительские и мировоззренческие темы. На фоне интриг на материке полусонное существование «умиротворенной еще Карлом-Людвигом» Островной Империи кажется несколько скучноватым, сбивая напряженный ритм, заданный повествованию в «пандейских» главах. Но в целом Строгову удалось показать, что Саракш – это очень сложный и многоплановый мир, в котором есть место и спокойной жизни, и напряженному действию. И опять же, без излишней детализации и ненужных подробностей, глядя на окружающий мир глазами Капсука-Каммерера, читатель получает общие представления об устройстве Островной Империи и людях, которые ее населяют.
3
Завязка «пандейской» линии романа начинается с того момента, когда Эрладо Штертак и другие «светосмертники» пребывают для подготовки к испытательным пускам на скрытый среди лесов секретный ракетный полигон Зуррея на юге Пандеи. Следом за ними из столицы страны тянутся и нити интриг.
Действие романа развивается очень динамично. Без излишних технических подробностей Дмитрий Строгов описывает процесс подготовки пилотов. Читатель вместе с Эрладо Штертаком погружается в напряженный ритм испытаний на вибростендах, центрифугах, в термо– и барокамерах, участвует в тренировочных полетах на самолетах и изучении устройства пилотского отсека «Мировой Свет». Все эти перипетии подготовки преподносятся с юмором, чередой занятных случаев и историй.
Тем временем тайная полиция через своего информатора во внешней разведке узнает, что Эрладо Штертак – «человек со стороны». «Тайполы» и не подозревают, что эту информацию разведчики «слили» им намеренно. Шеф тайной полиции Великий дракон Санга Баларок дает указание готовить к первому испытанию ракеты «Мировой Свет» именно Штертака – как основного пилота. Во время испытательного пуска в акваторию Мирового океана пилот-«светосмертник» непременно погибнет, и военная разведка не только потеряет своего агента, но и не получит никаких полных данных о проекте.
Такое решение Санга Баларока как раз и требовалось и начальнику внешней разведки Трехглавому дракону Геранга Севадлюку, и руководителю ракетной программы доктору Аегудо Гартуку. Первому нужен выход «Мирового Света» в заоблачную «зону гравитационного равновесия», чтобы получить подтверждение, что там можно разместить несколько ракет и постоянно шантажировать им другие государства на планете. А второй мечтает не только о полете «за облака», но и о возвращении пилота на Саракш, чтобы доказать, что человек может исследовать большие высоты.
Пока Эрладо Штертак «грызет гранит науки» на полигоне Зуррея, Максим Каммерер успешно завершает операцию «Белый ферзь». Во время одного из вояжей по островам Внешнего круга Островной Империи советника Иллиу Капсука прямо на глазах у растерявшейся охраны похищает и увозит на винтокрыле специальная эвакуационная группа землян, переодетая в форму десантников княжества Ондол – это событие, по существу, и становится завязкой в романе по «линии Каммерера». Поскольку Максим по легенде является гражданином Иерархата Пандея, он появляется в Столице этого государства. Дракон-Генералиссимус Тупир Линстак вручает «лучшему разведчику страны» высшую награду – Золотые Уши Дракона. Через шпиона Островной Империи в тайной полиции Пандеи земляне-прогрессоры сбрасывают информацию о награждении Капсука в Адмиралтейство Островной Империи. В результате скандала в разведывательном сообществе островитян часть его руководителей уходит в отставку.
Главы, посвященные разведывательным интригам в Пандее и в Островной Империи, написаны Строговым живо и очень динамично. Отслеживая хитросплетения замыслов земных прогрессоров и пандейских шпионов, читатель буквально погружается в текст, степень вовлеченности в процесс чтения оказывается настолько высокой, что от романа трудно оторваться.
Казалось бы, автор мог бы и дальше ехать по наезженной колее, развивая действие в изначально избранном направлении и наворачивая одну интригу на другую вплоть до самого финала романа. Но Строгов снова отдает нить рассказа Эрладо Штертаку. Ведь по сюжету Большой дракон Штертак – не просто пилот, но и секретный сотрудник внешней разведки Пандеи. Эрладо анализирует происходящие события, внимательно присматривается к людям, которые окружают его на секретном ракетном полигоне Зуррея. И приходит к ошеломляющим выводам.
С помощью простейшей слежки Эрладо выясняет, что начальник службы безопасности полигона старший змей Реджар Тапурака связан с хонтийской разведывательной группой, обосновавшейся неподалеку от ракетных комплексов. Во время дружеской попойки в офицерском казино инструктор по пилотированию малый дракон Геноор Шасайюк проговаривается, что когда-то был пилотом в Стране Отцов, хотя по документам он коренной пандеец. Симпатичная девица из штаба полигона младший четвертьзмей Сиринда Нетелмек заводит любовную интрижку с Эрладо и пытается завербовать Штертака в качестве агента Островной Империи. Главный конструктор ракетных двигателей Уйгильдо Щуртиук, увлеченный математическими расчетами, начинает тихонько напевать песенку на языке аборигенов острова Хаззлаг.
Открытия шокируют Эрладо: «Либо система безопасности на полигоне Зуррея работает из рук вон плохо, либо все происходящее – какой-то фарс. Ничем иным я не мог объяснить тот факт, что на секретном объекте вдруг обнаружилось скопище агентов разведок едва ли не из всех стран мира. Хонтиец, «папаша», островитянка, хаззлаговский ученый… Если копнуть глубже, среди персонала ракетной базы наверняка обнаружится подполье княжества Ондол, шпион с горных вершин Зартака и даже тайный посланец мутантов-южан. Я пришел к выводу, что кто-то намеренно свел в одном месте интересы всех спецслужб планеты. Но кто? И зачем? Я не находил ответа».
Тем временем разведка островитян устраивает настоящую охоту на «предателя Иллиу Капсука». Угроза настолько серьезна, что Максима Каммерера по распоряжению главы КОМКОНа-2 временно перемещают на орбитальную станцию землян над Саракшем.
Соотношение темпа и ритма романа создает композиционную динамику текста. Строгову удалось практически на всем протяжении произведения задать высокий ритм – «экшн», внешнее действие в каждой из глав буквально бурлит. В тех же главах, где ритм все же несколько спадает, возрастает темп – динамика внутреннего напряжения. Так, контакты Эрладо Штертака с персоналом полигона Зуррея приходятся на достаточно спокойные с точки внешнего действия главы, однако внутреннее напряжение, динамика развития взаимоотношений персонажей, изменение характера главного героя, его мыслей постоянно держат «в тонусе» читателя романа.
4
Как и любой роман, «Над Саракшем звездное небо» неумолимо приближается к кульминации. Дмитрий Строгов подводит к кульминации и линию повествования, связанную с Эрладо Штертаком, и линию Каммерера. Сначала в каждой линии происходит собственная кульминация, в которой конфликт соответствующей линии повествования достигает наибольшей остроты. Затем следует общая кульминация романа.
Вне сомнения, кульминацией «линии Штертака» является полет главного героя в заоблачные выси. Доктор Гартук заводит с будущим пилотом «Мирового Света» откровенный разговор и сообщает Эрладо, что есть возможность не только полететь за облака, но и вернуться живым обратно. Для этого Гартук собирается за несколько минут до старта перепрограммировать управляющее устройство в пилотском отсеке. Ракета не станет падать на другую сторону вогнутого мира, а выйдет на орбиту «гравитационного равновесия». Совершив три оборота вдоль внутренней поверхности шарообразного мира, пилотский отсек включит тормозные двигатели и вернется в атмосферу планеты. На конечном участке траектории пилот будет катапультирован и спущен на парашюте вместе с материалами научных исследований в заоблачных пространствах. Эрладо соглашается принять участие в тайном проекте.
Предстартовые эмоции главного героя, его ощущения после старта, когда сначала начались вибрация ракеты и перегрузки, а потом наступила невесомость, выписаны Строговым очень тщательно и подробно. Автору удалось в полной мере заставить читателя сопереживать главному герою, покинувшему Саракш и несущемуся в неведомые заоблачные высоты в тесном пространстве пилотского отсека. Конечно же, венчают цепочку событий яркие ощущения Эрладо, когда он первым из саракшанцев оказывается на космической орбите:
«Огненный ослепительный шар, на который невозможно было взглянуть, чтобы не ослепнуть, висел в пространстве где-то слева и вверху от меня. Еще одно шарообразное тело – меньших размеров, серо-желтое, с синеватыми разводами и пятнами на поверхности, – плыло в черной бездне впереди пилотского отсека. А под ногами, под днищем летательного аппарата, находилось нечто громадное, бело-серое, выпуклое. Несколько секунд я вглядывался в это нечто, силясь понять, что все-таки вижу. Потом сообразил: единственное, что я сейчас могу видеть в таком ракурсе – это наш мир, мой родной Саракш. Он просто вывернулся наизнанку и из вогнутой сферы сделался похожим на огромный мяч, окутанный пеленой туч и облаков.
Пилотский отсек летел над гигантской сферой, огибая ее по замкнутой траектории. Огненный ослепительный шар – настоящий Мировой Свет, что же еще? – постепенно уходил за спину, опускался, словно постепенно погружаясь в бело-серое тело Саракша. Наступил миг, когда летательный аппарат нырнул в темноту и окончательно ушел от лучей заоблачного светила. И тогда в темноте миллионами и миллиардами разноцветных глаз зажглись крупные и совсем маленькие, бело-желтые и оранжево-красноватые точки – нечто очень далекое, светящееся, для названия чего и слова-то подходящего не было ни в одном из языков на Саракше.
Я смотрел на все это во все глаза, делал беглые зарисовки в пилотском журнале, фотографировал и как заведенный горячим шепотом повторял одно и то же слово:
– Массаракш, массаракш, массаракш!»
5
Одновременно с «пандейской» цепочкой событий назревает кульминация и по «линии Каммерера». Оказывается, что пространство вокруг Саракша контролируется не только землянами, но и «странниками» – цивилизацией галактического уровня, следы которой жители Земли находят едва ли не во всех достигнутых ими мирах. В безвоздушном пространстве – «прямо из ничего» – формируется корабль «странников» и начинает движение к летящему вокруг Саракша пилотскому отсеку с Эрладо Штертаком.
«Здесь уже не просто запахло серой, – размышляет Максим Каммерер. – Лукавый собственной персоной, поблескивая в лучах Мирового Света округлыми боками из янтарина, несся по вытянутой орбите к маленькому космическому кораблику саракшанцев».
Землянами за всю историю космических полетов был зафиксирован только один случай «контакта» с кораблем «странников». В середине двадцать второго века «янтариновый страж» атаковал и уничтожил звездолет «Пилигрим» над планетой Ковчег. Каммерер опасается, что и корабль саракшанцев постигнет та же участь.
Максим пытается предотвратить возможную трагедию. Вместе со своим сотрудником Клавдием Луговиновым и кибертехником Стасем Поповым он на десантном космокатере летит наперерез «янтариновому стражу», сигналя всеми возможными способами и на всех возможных каналах. Каммерер вовсе не собирается устраивать «звездные войны» над Саракшем. Рискуя, он всего лишь хочет дать понять «странникам», что полет саракшанского кораблика патронируется землянами. И «старшие братья» его поняли:
«Кто-то мельком взглянул на меня [повествование в этой главе ведется от имени Максима Каммерера. – Прим. автора] из звездной бездны – огромный, всепроникающий и могущественный. Я почувствовал себя микроскопической букашкой на невидимой гигантской ладони.
Ощущение длилось какое-то мгновение – наверное, даже меньше секунды. А потом некто великий снова растаял в черноте космоса. Остался только застывший в пространстве янтариновый шар – теперь уже совершенно безжизненный и, кажется, пустой».
Но вот вопрос: хотели ли «странники» атаковать кораблик саракшанцев? Или ими двигало обычное любопытство, а Каммерер пал жертвой «синдрома Сикорски» – стал видеть во всем злую волю пришельцев? В лучших традициях братьев Стругацких Дмитрий Строгов не дает прямого ответа на этот вопрос, оставляя его решение читателям.
6
Казалось бы, суть конфликта исчерпана, ситуация нежданно возникшего противостояния двух цивилизаций успешно разрешена автором романа. Но Дмитрий Строгов талантливо переводит конфликт в романе на совершенно иные рельсы. Во время полета корабля «странников» земная орбитальная станция зафиксировала над Саракшем колебания различных полей. Анализируя полученные данные, земляне приходят к неожиданному выводу:
«Над Саракшем, с высоты примерно пяти и до ста километров, существовала причудливая смесь магнитного, электрического, гравитационного полей и еще чего-то совсем уж фантастического – такого, что даже наши сканеры и приборы не смогли толком отследить. Это невидимое глазу комбинированное поле висело над планетой как минимум последний десяток тысяч лет. Оно совершало нечто невероятное: ловило чаяния и желания людей, населявших планету, интегрировало их и материализовало суммарно полученный результат. Всепроникающее поле было причиной и существования вокруг планеты постоянного облачного слоя, и «закукливания» горизонта на Саракше.
Кто создал поле? Возможно, пресловутые «странники» или кто-то еще из всемогущих цивилизаций галактического уровня. Как поле работало? Мы так толком и не смогли разобраться.
Но эта парочка вопросов была лишь мелкими семечками по сравнению с обнаружившейся проблемой глобального характера. Какое событие космических масштабов могло так напугать саракшанцев, что они на веки вечные в едином всепланетном порыве закрыли небо над головами тучами и свернули свой мир в замкнутое пространство? Пролетавшая мимо хвостатая комета? Гигантский блуждающий астероид? Или нечто иное, невообразимое, однажды явившееся из глубин Вселенной, а потом снова канувшее в бесконечность? Ответа на вопрос, что же заставило цивилизацию целого мира, подобно земным страусам, «сунуть голову в песок», мы тоже не нашли».
Вот тут, на гребне основного конфликта романа, вырисовывается и главная идея произведения: способно ли человечество – без разницы: землян или саракшанцев, – преодолеть собственный конформизм? Может ли человек сбросить с плеч давящий на него тысячелетний груз страхов, ложных убеждений, нелепых верований? Чего в нас, людях, больше: желания загородиться от всего, «закуклиться» в собственном более или менее благоустроенном мирке, зациклиться на собственных проблемах, или же стремления к познанию, к преодолению преград, к социальному и мировоззренческому развитию?
Строгов дает оптимистические ответы на эти вопросы. В «мире Полдня» землянами уже давно решены вопросы соотношения личного и коллективного, развития и сохранения идейных ценностей цивилизации. В критических ситуациях любой землянин способен «перешагнуть» собственные страхи и желание упрятаться в своей «хате с краю». Что очень убедительно демонстрируют в романе «Над Саракшем звездное небо» Максим Каммерер и его товарищи, фактически прикрывшие собой корабль саракшанца Эрладо Штертака от «янтарного стража» цивилизации «странников».
С землянами – все ясно: они хоть и «почти такие же», но все же «идеальные» люди. А вот сможет ли преодолеть собственные глобальные психологические проблемы цивилизация Саракша? Ответ Строгов дает тоже положительный. Символом такого преодоления тысячелетних страхов и извечных нелепых верований становится заатмосферный полет Эрладо Штертака – первый космический полет саракшанца.
7
Конечно же, в финале романа читателя ждет развязка. Именно здесь автор сплетает воедино событийную, идейную и тематическую линии произведения. Дмитрий Строгов изменил бы собственному писательскому реноме, если бы обошелся в ней без сюрпризов.
Вернувшись на Саракш и получив всемирную известность, Эрладо Штертак встречается с выгуливающим в столичном парке домашнего махкота Максимом Каммерером. И сюжет романа снова делает крутой вираж, вырисовывая перед взором читателя новую мировоззренческую проблему. Чтобы не выступать в роли «испорченного телефона», просто приведем достаточно обширную цитату из текста романа:
«– Вы соображаете, что говорите, господин Большой дракон? – советник Иллиу Капсук удивленно изогнул бровь.
– Вполне, – кивнул Эрладо, внешне оставаясь совершенно спокойным. – Я просто сопоставил кое-какие факты. Там, на полигоне Зуррея, собраны агенты практически всех государств. Это на секретном-то полигоне!
– Случайность, – советник пожал плечами. – Тайная полиция у нас работает из рук вон плохо.
– Дело не в тайной полиции, – Эрладо улыбнулся. – Шпионов собрали там с одной целью – чтобы технологии полетов за облака стали известны всем.
– И кто же это сделал? – фыркнул Капсук.
– Ваш добрый знакомый Трехглавый дракон Персиу Нумантук. Он лично формировал кадровый состав полигона, – Штертак посмотрел на Капсука в упор. Лицо советника оставалось невозмутимым. – Сделано это было загодя, еще до вашего внедрения в Островную Империю. Руководителем Персиу Нумантука тогда были вы. Следовательно, одно из двух: либо лучший разведчик Иерархата Пандея Иллиу Капсук профессионально несостоятелен, если у него под носом секретный полигон забивают агентами иностранных разведок. Либо с компетенцией советника Капсука все в порядке и он лично курирует операцию по внедрению шпионов на Зуррею. Я решил, что второе больше соответствует действительности. И сразу возник вопрос: а зачем Иллиу Капсуку это нужно?
– Ну, и на кого же работает этот интриган Капсук? – советник иронично усмехнулся. – На Хонти? На Страну Отцов? Или, может быть, на Зартак?
– На Саракше нет стран, заинтересованных в широком доступе к ракетным технологиям, – Штертак по-прежнему не отрывал взгляда от лица собеседника. – Такую операцию всеобщего информирования может осуществить только внешняя сила. Пришельцы из заоблачных миров.
Советник взглянул в глаза Эрладо. Уверенность, решительность и абсолютная убежденность в своей правоте. Где-то он уже видел эти карие глаза. Мельком, но видел. Лет десять назад, на Островной Империи? Черт, никак не вспомнить!
– Ладно, – Каммерер вздохнул и провел рукой по лицу, словно снимая маску советника Капсука. – Мы недооценили вас, Эрладо. Думали, что вы обычный пилот. А вы, оказывается, мальчик – ушки на макушке. Глазок-смотрок! Давайте перестанем ходить вокруг да около. Чего вы хотите?
– Откровенного вашего ответа на мои вопросы, – Штертак снова заулыбался. – Я не думаю, что вы пришли сюда, чтобы причинить зло Саракшу. С вашим-то технологическим уровнем… Если бы хотели, давно бы уже поставили наш мир на колени. Тогда зачем вы здесь?
– Чтобы помочь вам встать на ноги. Вы наделали много ошибок. Ядерная война. Авторитарные диктатуры. Постоянные военные конфликты.
– И вы этому противодействуете?
– И мы этому противодействуем, – подтвердил землянин. – Усмирили Островную Империю. Избавили от тоталитарных замашек вашего Дракон– Генералиссимуса. Предотвратили путч в Стране Отцов.
– Благодетели, значит? – Штертак скептически ухмыльнулся. – А вы подумали, что мы имеем право сами разобраться с проблемами в своем мире?
– Когда-нибудь так и будет, – согласился Каммерер. – А пока…
– Послушайте, а там, в вашем заоблачном мире, – Эрладо зло прищурился, – вам тоже помогали старшие братья с других миров?
– Ну, насколько мне известно, нет, – Максим устало опустил плечи.
– Тогда почему вы считаете нас слабее себя? – Шертак осклабился. – Да, мы наделали глупостей. Но это все в прошлом. Старший брат помог младшему, спасибо. Но младший встал на ноги и больше не нуждается в опеке. Он сам теперь будет строить свой мир. И познавать заоблачные миры.
Каммерер задумчиво посмотрел ему в глаза. Эрладо выдержал взгляд собеседника.
– Вы понимаете, что я не принимаю таких решений в одиночку? – спросил Максим.
– Понимаю, – Штертак кивнул и взглянул на часы. – Пожалуй, вам пора идти, господин Капсук. Иначе опоздаете на совещание у Дракон-Генералиссимуса. До свидания!
– До свидания, господин Большой Дракон, – Максим усилием воли снова надел на лицо маску советника. – Любопытно было с вами побеседовать!
Эрладо не ответил, повернулся и зашагал по аллее парка.
Советник Иллиу Капсук некоторое время молча смотрел ему вслед, а потом ласково потрепал по загривку послушно просидевшего у его ног всю беседу со Штертаком махкота и тихо произнес по-русски: