Путешественник Тэффи Надежда
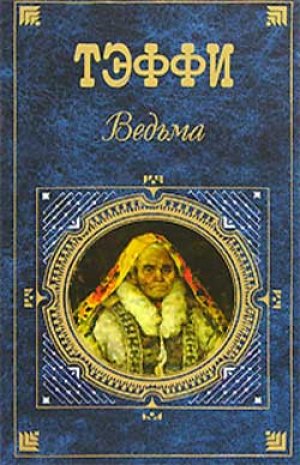
– Ничего себе, подарок ко дню рождения…
– Ты отказываешься от подарка из-за того, что он от благородного дарителя? Успокойся и слушай. Мы сделаем вот что. Ты ляжешь на спину. Я лягу тебе на талию и все время буду оставаться у тебя перед глазами. Пока мы будем ласкать друг друга и играть – а мы проделаем все, кроме завершающего этапа, – моя сестра незаметно прокрадется и насладится твоей нижней частью. Ты никогда не увидишь Шамс и не дотронешься до нее, кроме как своим zab, и в этом не будет ничего отвратительного. А между тем ты будешь видеть и ощущать только меня. Мы с тобой доведем друг друга до исступления, а когда zina завершится, тебе будет казаться, что все это произошло со мной.
– Это нелепо.
– Ты, разумеется, можешь отказаться от подарка, – холодно сказала шахразада. Но при этом придвинулась ближе, так что ее груди коснулись меня. – Но подумай, не лучше ли будет дать наслаждение мне и насладиться самому, а заодно и облагодетельствовать бедное создание, обреченное на вечную тьму и забвение. Ну что… неужели ты отказываешься? – Ее рука добралась до моего ответа. – Ага, значит, все-таки нет. Я не сомневаюсь, что ты добрый человек. Очень хорошо, Марко, давай ляжем.
Мы так и сделали. Я лег на спину, как приказала мне Мот, и уложил ее поверх моей талии, так, что не видел, что там, за ней. После этого мы начали прелюдию. Шахразада легонько поглаживала кончиками пальцев мое лицо, запускала их мне в волосы, касалась груди, а я делал то же самое с ней, и каждый раз, когда мы дотрагивались друг до друга, независимо от того, где именно дотрагивались, мы чувствовали покалывание, которое ощущаешь, если погладить кота против шерсти. Пока что Мот вела себя как самая обыкновенная женщина. От моих прикосновений соски ее поднялись и встали торчком, и даже в тусклом свете я мог разглядеть, как расширились глаза шахразады, и ощутить, как припухли от страсти ее губы.
– Почему ты называешь это «созданием музыки»? – в какой-то момент спросила она. – Это гораздо приятней, чем музыка.
– Ну да, – ответил я после некоторого раздумья. – Я и забыл, какая музыка у вас здесь, в Персии…
Иногда девушка протягивала руку назад, чтобы погладить ту часть моего тела, которую закрывала собой от моих глаз, и каждый раз это вызывало резкую вспышку желания, но Мот всегда вовремя убирала руку, иначе я мог бы выпустить spruzzo прямо в воздух. Она позволила мне коснуться внизу ее тайного местечка, лишь прошептав дрожащим голосом:
– Действуй своими пальцами осторожней. Только zambur. Помни, внутрь нельзя. – И эта игра заставила Мот несколько раз испытать пароксизм страсти.
Ну а потом она обхватила широко расставленными ногами мою грудь, выпрямилась (при этом завитки внизу ее тела оказались как раз напротив моего лица, так что до михраба можно было дотянуться языком) и прошептала:
– Языком нельзя нарушить девственную плеву. Ты можешь делать им все, что хочешь. – Хотя шахразада не пользовалась духами, эта часть ее тела издавала прохладный аромат, похожий на аромат папоротника или салата-латука. Мот не слишком преувеличивала, рассказывая о своем zambur. Он напоминал собой кончик языка, когда встретился с моим языком, и был таким же скользким и тоже двигался толчками, когда обследовал мой язык. Это послало Мот в состояние продолжительных, накатывающих на нее судорог, которые то усиливались, то слабели, как и та песня без слов, которую девушка исполняла в качестве аккомпанемента.
Мот назвала это исступлением, это и было исступление. Я и правда поверил, когда выпустил spruzzo в первый раз, что все происходит где-то внутри ее михраба, хотя он, все еще закрытый и влажный, касался моего рта. И только когда я снова смог собраться с мыслями, то осознал, что еще одна женщина сидит на мне верхом, на нижней части моего тела, и это, должно быть, и есть несчастная, живущая в изоляции от всего мира сестра Мот Шамс. Я не мог увидеть ее, не собирался этого делать и не испытывал подобного желания, но, учитывая, как мало весила другая шахразада, рассудил, что она, должно быть, маленькая и хрупкая. Убрав губы от жаждущего холмика Мот, я спросил:
– Ваша сестра намного младше вас?
Словно возвратившись откуда-то издалека, девушка какое-то время молчала, прежде чем произнести задыхающимся тонким голоском:
– Нет… не очень…
А затем снова оказалась где-то далеко, причем я, как мог, старался послать ее все дальше и выше, а затем и сам вторично присоединился к Мот в полете торжества. Мои последующие несколько spruzzi изверглись в чужой михраб, но меня совершенно не заботило, в чей именно. Однако я все-таки смутно надеялся на то, что уродливая молоденькая шахразада по имени Солнечный Свет наслаждается не меньше меня самого.
Zina втроем продолжалась долго. В конце концов, мы с Мот оба были в расцвете юности и могли продолжать возбуждать друг друга, вновь и вновь возобновляя цветение, а царевна Шамс радостно (по крайней мере, я так предполагал) подбирала каждый мой очередной букет. Наконец даже казавшаяся ненасытной Мот, похоже, насытилась, и ее толч ки затихли, также и мой zab успокоился и опал, утомленный, требуя отдыха. Член саднило так, словно с него содрали кожу, язык болел у самого корня, а все мое тело пронизывало изматывающее опустошение. Мы с Мот лежали какое-то время спокойно, восстанавливая силы. Она безвольно приникла к моей груди, ее волосы рассыпались по моему лицу. Три вишни, которые служили украшением, давным-давно оторвались и потерялись. Пока мы лежали так, я ощутил влажный поцелуй, которым наградили кожу на моем животе, а затем послышалось шуршание и невидимая Шамс поспешно удрала из комнаты.
Я встал и оделся. Мот скользнула в крошечную тунику, которая совсем не прикрывала ее наготу, и снова проводила меня по коридорам andrun в сад. Где-то с минарета первый в этот день муэдзин начал заунывно призывать к предрассветной молитве. Так и не остановленный никем из стражников, я отправился через сад к тому крылу дворца, в
котором находилась моя комната. Слуга Карим добросовестно бодрствовал, ожидая господина. Он помог мне раздеться для сна и издал несколько благоговейных восклицаний, увидев, как я был изнурен.
– Итак, копье молодого мирзы нашло свою цель, – заключил он, но не задал ни одного дерзкого вопроса.
Карим только немного повздыхал: казалось, он был слегка обижен тем, что мне больше не требуется его помощь, и отправился к себе спать.
Дядя и отец отсутствовали в Багдаде три недели или даже больше. И все это время, почти каждый день, шахразада Магас вместе со своей бабкой сопровождала меня повсюду и рассказывала много интересного, и почти каждую ночь я проводил, удовлетворяя свои желания в zina вместе с обеими благородными сестрами, Мотыльком и Солнечным Светом.
Однажды днем мы с Мот сходили в Дом иллюзий, здание, которое совмещало больницу и тюрьму. Мы отправились туда в пятницу, когда это место было переполнено завсегдатаями-горожанами, которые проводили там досуг, а также посетителями-чужеземцами, поскольку это было одной из излюбленных в Багдаде забав. Люди приходили туда целыми семьями и группами, в дверях каждый получал от привратника большую рубаху, чтобы прикрыть свою одежду. Посетители ходили по зданию, слушая лекции сопровождающих о разных видах безумия обитавших там женщин и мужчин, смеялись над их кривляниями или обсуждали несчастных. Некоторые из таких кривляний действительно выглядели смешно, а некоторые были скорее достойны жалости; попадались и откровенно непристойные, а то и просто грязные выходки. Например, некоторые душевнобольные, оказывается, обижались на посетителей и швыряли в нас все, что попадало им под руку. Ну а поскольку всех обитателей этого заведения благоразумно держали голыми и ничего не давали им в руки, единственными метательными снарядами были их собственные нечистоты. В этом и заключалась причина, по которой привратник снабжал всех посетителей рубахами, и мы были рады, что надели их.
Иногда ночью, занимаясь zina в покоях шахразады, я и сам чувствовал себя таким же заключенным, которого подвергали надзору и увещеваниям. Как-то раз, это было во время третьего или четвертого свидания, в самом начале наших ночных утех, еще до того, как в комнату прокралась сестра, когда мы с Мот только разделись и начали наслаждаться прелюдией, красавица вдруг перестала ласкать меня, удержала мои руки и сказала:
– Моя сестра Шамс просит тебя об одолжении, Марко.
– Этого-то я и боялся, – ответил я. – Она хочет занять ваше место.
– Нет-нет. Ничего подобного. Мы с ней обе довольны нашим соглашением. Кроме одной маленькой детали.
Я только заворчал с подозрением.
– Я говорила тебе, Марко, что Солнечный Свет часто занималась zina. Столь часто и энергично, что теперь михраб бедной девушки стал очень большим от такого потворства своим желаниям. Честно говоря, она теперь так же открыта внизу, как и женщина, родившая много детей. Ее наслаждение нашей zina было бы гораздо сильней, если бы ощущение твоего zab увеличилось от…
– Нет! – возразил я решительно и начал извиваться, пытаясь, как краб, боком вывернуться из-под Мот. – Я не согласен ни на какие тайные действия…
– Подожди! – запротестовала она. – Держи себя в руках. Я же не предлагаю ничего такого.
– Уж не знаю, что взбрело в голову вам с сестрой, – сказал я, все еще продолжая извиваться. – Но я видел zab множества западных мужчин и знаю, что мой больше, чем у многих. Я отказываюсь от какой-либо…
– Да успокойся же ты наконец! У тебя замечательный zab, Марко. Он заполняет всю мою руку. Я уверена, что своей длиной и обхватом он вполне удовлетворяет Шамс. Она предлагает всего лишь усилить действие.
А вот это уже показалось мне оскорбительным.
– Да ни одна женщина еще не жаловалась на то, как я занимаюсь любовью! – закричал я. – Если твоя сестра такая уродка, как ты говоришь, то, полагаю, едва ли ей пристало критиковать то, что она может получить!
– Ах, скажите пожалуйста, какой обидчивый! Критикуют его! – издевалась надо мной Мот. – Да имеешь ли ты понятие, как много мужчин мечтают, причем совершенно безнадежно, когда-нибудь возлечь с благородной шахразадой? Или хотя бы когда-нибудь увидеть ее лицо открытым? А у тебя целых две шахразады, и обе они лежат с тобой, обнаженные и податливые, каждую ночь! И ты осмелишься отказать одной из них в маленькой прихоти?
– Ну… – сказал я, смирившись. – А что это за прихоть?
– Это способ повысить наслаждение женщине, у которой большое отверстие. Увеличивается не сам zab, а его тупой конец… Кажется, так вы это называете?
– На венецианском наречии это fava – большая головка. Думаю, на фарси это звучит как lubya.
– Очень хорошо. Теперь вот что. Я, конечно же, заметила, что ты необрезан, и это хорошо, поскольку обрезанный zab тут не подойдет. Все, что надо сделать, вот… Смотри. – И с этими словами Мот сжала своей рукой мой zab и оттянула крайнюю плоть как можно дальше, а затем начала теребить. – Видишь? От этого большая головка выпячивается и становится значительно больше.
– Но это же неудобно и чуть ли не больно.
– Всего чуть-чуть, Марко. Потерпи, не так уж это и страшно. Давай сделай так, словно вставляешь в первый раз. Шамс говорит, это даст ее нижним губам прекрасное ощущение, словно бы они впервые разделяются. Своего рода приятное изнасилование, говорит она. Наверное, женщины получают от этого удовольствие, хотя я, конечно же, не узнаю этого, пока сама не выйду замуж.
– Dio me varda! – пробормотал я.
– Послушай, ты, наверное, боишься дотронуться до безобразного тела сестры? Не беспокойся, она сама все это проделает своей собственной рукой. Солнечный Свет только просит твоего разрешения.
– Не желает ли Шамс чего-нибудь еще? – ядовито осведомился я. – Для чудовища она кажется необычайно разборчивой.
– Нет, вы только послушайте, что он говорит! – снова возмутилась Мот. – Да ведь любой знатный мужчина позавидовал бы тебе. Оказаться обученным разным сексуальным штучкам, о которых большинство мужчин никогда и не слышали, да не кем-нибудь, а благородными шахразадами. Да ты должен быть благодарен Шамс, Марко, ибо однажды, когда ты захочешь доставить удовольствие женщине с большим или дряблым михрабом, ты порадуешься, что знаешь, как это сделать. И она тоже будет тебе благодарна. А теперь, пока не пришла Солнечный Свет, заставь меня быть тебе признательной раз или два, но уже другим способом…
Глава 5
Иногда, для развлечения и в назидание, мы с Мот посещали заседания придворного суда. Тамошний суд назывался просто диван, видимо из-за изобилия диванных подушек, на которых сидели шах Джаман, визирь Джамшид и многочисленные муфтии – знатоки исламских законов; иногда заседания посещали и представители монгольского ильха-на Абаги. Пред судом представали преступники, которых допрашивали, и обычные горожане – диван рассматривал их прошения и жалобы. Шах и его визирь вместе с другими представителями власти выслушивали обвинения, оправдания и просьбы, а затем совещались и лишь после этого выносили приговоры или определяли меру наказания.
Поскольку я был простым зевакой, то посчитал деятельность дивана интересной и поучительной. Однако если бы я оказался преступником и меня притащили бы туда, я наверняка счел бы его ужасным. Ну а будь я простым горожанином, обратившимся к судьям с жалобой, я осмелился бы просить о чем-либо диван только в самом крайнем случае. Потому что совсем рядом, на открытой террасе, стояла огромная горящая жаровня, а на ней – гигантский котел с кипящим маслом. Рядом ожидали несколько крепких дворцовых стражников и находящийся на службе у шаха палач, готовый применить масло на деле. Мот уверила меня, что использовать подобное наказание разрешалось не только по отношению к осужденным злодеям, но также и к тем горожанам, которые приходили с ложными обвинениями, злонамеренными жалобами или же давали лживые показания. И если стражники у чана выглядели довольно устрашающе, то палач просто внушал ужас. Он был в капюшоне, маске и одет во все красное, словно бы олицетворял собой огонь преисподней.
За все время я видел только одного злоумышленника, которого действительно приговорили к чану с маслом. Я бы судил его не так жестоко, но ведь я не мусульманин. Преступник этот был процветающим персидским купцом, чей домашний anderun состоял из разрешенных Кораном четырех жен и, кроме того, из обычного числа наложниц. Один из судей зачитал вслух: «Khalwat!» Это означало всего лишь «склонение к близости», но вскоре дивану были раскрыты детали его преступления. Купца обвинили в том, что он занимался zina сразу с двумя своими наложницами, тогда как четырем женам и третьей наложнице было позволено наблюдать за происходящим, а все это по мусульманскому закону было haram – запретно.
После того как были заслушаны обвинения, я проникся явной симпатией к ответчику, испытывая очевидную неловкость относительно собственной персоны, поскольку и сам почти каждую ночь занимался zina с двумя женщинами, которые, кстати, не были моими женами или наложницами. Однако когда я бросил вороватый взгляд на свою соучастницу – шахразаду Мот, – то на ее лице не увидел ни следов вины, ни опасения. Постепенно, по ходу рассмотрения дела, я узнал, что даже самый низкий проступок по мусульманским законам не заслуживает наказания, пока по крайней мере четверо свидетелей не дадут показание, что преступление действительно имело место. Купец же сам, то ли из чувства гордыни, то ли по глупости, разрешил пяти женщинам наблюдать за его героическим поступком, после чего они из-за нанесенной обиды, ревности или по какому-либо иному женскому разумению выдвинули против него обвинение в khalwat. Таким образом, все пять женщин получили возможность наблюдать, как несчастного вытащили, упирающегося и вопившего, на террасу и кинули живьем в кипящее масло. Я не буду останавливаться на том, что за этим последовало.
Не все наказания, вынесенные диваном, оказались столь неоправданно суровыми. Некоторые были специально разработаны для определенных видов преступлений. Однажды в суд приволокли пекаря; его обвинили в том, что он обвешивает покупателей, и приговорили к смерти в собственной печи. В другой раз перед судом предстал некий мужчина, единственное преступление которого заключалось в том, что он, прогуливаясь по улице, наступил на лист бумаги. На него донес мальчик, который шел следом и подобрал этот листок. Он обнаружил на бумаге среди других слов и имя Аллаха. Ответчик клялся, что вовсе не хотел нанести такое оскорбление всемогущему Аллаху, но другие свидетели заявили, что он был закоренелым богохульником. Они сказали, что частенько видели, как он кладет другие книги поверх своего экземпляра Корана, а однажды даже держал его в левой руке. Несчастному вынесли жестокий приговор: его, как и листок бумаги, должны были затоптать до смерти стражники и палач.
Однако дворец шаха внушал праведный ужас только во время заседаний дивана. Гораздо чаще религия служила поводом к тому, что дворец становился местом празднеств и развлечений. Персияне признают около семи тысяч древних исламских праведников ислама, а теперь представьте, сколько же у них всяких праздников. В дни, когда чествовали наиболее важных праведников, шах устраивал вечера, обычно приглашая на них лишь знатных и благородных людей Багдада, но иногда открывал двери дворца и для всех желающих. Хотя сам я не принадлежал к знати и даже не был мусульманином, но, поскольку я гостил во дворце, меня несколько раз приглашали на эти увеселения. Я припоминаю одну такую ночь, когда в честь какого-то давно умершего праведника в дворцовых садах устроили празднование. Каждому гостю выдали не обычную груду диванных подушек, на которых он мог сидеть или лежать развалясь, но вручили по огромной куче благоухающих свежих розовых лепестков. Все ветки на деревьях были уставлены свечами, и этот свет освещал темные уголки сада, высвечивая оттенки зеленой листвы. Каждая клумба была полна канделябров, и можно было разглядеть массу различных растений всевозможных цветов. Свечей оказалось достаточно, чтобы сделать сад почти таким же ярким и разноцветным, каким он был днем. Да вдобавок еще слуги шаха заранее приготовили множество маленьких черепашек, которых купили на базаре или велели наловить детям в окрестностях города. Они прикрепили каждой на панцирь свечу и отпустили тысячи этих созданий свободно ползать по саду, словно движущиеся пятнышки света.
Как всегда, еда и напитки здесь были гораздо более разнообразными, а угощение – более щедрым, чем я когда-либо видел на западных праздниках. Помимо прочего, гостей развлекали и музыканты, играющие на разных инструментах (многие из которых я не видел и не слышал раньше), под эту музыку выступали танцовщики и пели песни певцы. Мужчины-танцоры с пиками и саблями, печатая шаг, воссоздавали знаменитые сражения славных персидских воинов прошлого, подобных Рустаму и Зухрабу. Женщины-танцовщицы едва перебирали ногами, но при этом так потрясали своими грудями и животами, что заставляли зрителей вращать глазами. Певцы не пели песен религиозного содержания – ислам не одобряет этого, – а исполняли номера совершенно иного сорта, я имею в виду, чрезвычайно непристойные. Были здесь также и дрессировщики медведей с проворными и ловкими животными-акробатами. Чародеи заставляли змей с капюшонами, которых они назвали najhaya, танцевать в корзинах. Fardarbab предсказывали будущее по своим подносам с песком, shaukhran (клоуны), одетые в смешные наряды, прыгали, декламировали или делали непристойные жесты.
Сильно захмелев от финикового напитка araq, я наконец выбросил из головы христианские предубеждения против предсказаний и обратился к одному из fardarbab, старому арабу или иудею с бородой, на поминавшей лишайник. Я спросил, что ждет меня в будущем. Но, должно быть, предсказатель распознал во мне доброго христианина, не верящего в его магическое искусство, потому что только раз взглянул на рассыпавшийся песок и проворчал: «Остерегайся кровожадной красоты». Уж не знаю, какое это имело отношение к будущему, но я припомнил, что слышал что-то подобное в прошлом. Глумливо рассмеявшись над старым мошенником, я встал, развернулся и отправился прочь. Однако спьяну я выделывал такие пируэты, что, не дойдя до дома, упал. Затем пришел Карим и, поддерживая, довел меня до спальни.
Это была одна из ночей, когда я не встречался с Мот и Солнечным Светом. Накануне Мот велела мне отдохнуть в следующие несколько ночей, потому что сама испытывает, как она выразилась, проклятие Луны.
– Проклятие Луны? – словно эхо, повторил я.
Девушка нетерпеливо пояснила:
– Женское кровотечение.
– А что это такое? – спросил я, поскольку, по правде говоря, никогда не слышал об этом прежде.
Мот бросила на меня косой взгляд – ее зеленые глаза были полны удивленного раздражения – и нежно сказала:
– Глупый. Как все молодые люди, ты воспринимаешь женщину как нечто чистое и безупречное – подобно тем маленьким крылатым существам, которые называются пери. Утонченные пери даже не едят, а живут тем ароматом, который вдыхают от цветов, вот почему им никогда не надо мочиться и испражняться. Потому-то ты наверняка думаешь, что красивая женщина не должна иметь недостатков или слабостей, позволительных для остального человечества.
Я пожал плечами.
– А разве плохо так думать?
– О, я бы не сказала, потому что мы, красивые женщины, часто пользуемся этим мужским заблуждением. Но это заблуждение, Марко, и я сейчас предам свой пол, освободив тебя от этих иллюзий. Послушай меня.
И она объяснила, что происходит с девочкой, когда той исполняется лет десять или около того, что превращает ее в женщину, и продолжает происходить с ней и после, приблизительно раз в месяц.
– Правда? – удивился я. – Я этого не знал. И такое бывает со всеми женщинами?
– Да, они должны терпеть это проклятие Луны, пока не станут старыми и не высохнут во всех отношениях. Это проклятие сопровождается спазмами, болью в спине и плохим настроением. В это время женщины становятся мрачными и полны ненависти; мудрая женщина при этом старается скрываться от людей или облегчает муки при помощи терьяка или банджа, пока они не пройдут.
– Звучит устрашающе.
Мот рассмеялась, но невесело.
– А еще хуже для женщины, если время пришло, а проклятия Луны нет. Потому что это означает, что она забеременела. Обо всех этих выделениях, о той влаге, отвращении и неловкости, которые испытываешь в это время, я даже не буду говорить. Я чувствую себя такой злобной, полной ненависти и мрачной, что удаляюсь от всех. Ступай прочь, Марко, веселись и наслаждайся свободой своего тела, как все свободные от этого бремени проклятые мужчины, и оставь меня наедине с моими женскими страданиями.
Несмотря на все разъяснения шахразады Мот, я не мог после этого, а может, именно вследствие этого думать о красивой женщине, что она несовершенна или имеет постыдные изъяны. По крайней мере, до тех пор, пока какая-нибудь красавица сама, как донна Илария, не доказывала этого и таким образом не теряла мое уважение. Здесь, на Востоке, я учился все больше ценить красивых женщин и постоянно делал открытия. Так что не удивительно, что я боготворил красоту.
Сейчас постараюсь объяснить. Когда я был молодым, то верил, что физическая красота женщины свойственна только очевидным ее чертам, таким как лицо, груди, ноги и ягодицы, ну а также и в меньшей степени очевидным, вроде хорошенького и зазывающего (доступного) холмика «артишока», medallion и михраба. Но в своей жизни я знал достаточно женщин, чтобы теперь понимать, что существуют гораздо более утонченные особенности физической красоты. Хочу отметить одну из них: мне особенно нравятся внутренние мышцы (сухожилия), которые тянутся от женского паха по внутренней стороне ее бедер, когда обольстительница раскрывает их. Я также пришел к пониманию того, что даже особенности, свойственные всем красивым женщинам, различаются в достаточной степени, и научился наслаждаться этим. У каждой миловидной женщины красивые груди и соски, однако они бесконечно варьируются по форме и размерам, пропорциям и цвету, и все это красота. У каждой красивой женщины – красивый михраб, но до чего же восхитительно они отличаются друг от друга: по своему положению, чуть впереди или сзади, по окраске и пушку на наружных губах, по тугому, словно кошелек, и похожему на него отверстию, по местоположению zambur, его размерам и способности к возбуждению…
Возможно, что мои слова звучат скорее похотливо, нежели почтительно. Но я лишь хочу особо подчеркнуть, что никогда не мог, да и впредь ни за что не стану принижать всех красивых женщин на земле – даже после того, как однажды в Багдаде шахразада Мот, которая, кстати, и сама была одной из таких женщин, постаралась показать мне их с худшей стороны. Я имею в виду не только ее рассказ о проклятии Луны. Например, однажды она условилась со мной, что я незаметно прокрадусь в дворцовый anderun, но не для наших обычных ночных шалостей, а днем. Дело в том, что я сказал ей:
– Мот, а вы помните того купца, которого казнили у нас на глазах за его haram – способ заниматься zina? Такое часто происходит в anderun?
Девушка посмотрела на меня своими зелеными глазами и сказала: – Приходи и сам увидишь.
В тот раз шахразаде наверняка пришлось подкупить слуг и евнухов, чтобы они смотрели в другую сторону, потому что было невозможно незаметно провести меня днем в это крыло дворца. Мот посадила меня в коридоре во встроенный в стену шкаф для одежды. В нем было просверлено два глазка, которые выходили в две роскошно убранные комнаты. Я заглянул сначала в одно отверстие, затем в другое; обе комнаты были в этот момент пусты.
Мот сказала:
– Это общие комнаты, где женщины могут собираться, когда устают от одиночества в своих отдельных покоях. Этот шкаф – одно из многочисленных мест, откуда можно наблюдать за anderun и где время от времени останавливается евнух. Он наблюдает, нет ли между женщинами ссор и драк или каких-либо других беспорядков, и сообщает об этом моей матери, светлейшей первой жене шаха, которая отвечает за порядок в anderun. Сегодня евнуха здесь не будет, и я сейчас пойду и дам знать об этом женщинам. А затем мы вместе понаблюдаем, какую пользу они извлекут из отсутствия надзирателя.
Мот ушла и вскоре вернулась. Мы встали спина к спине в тесном шкафу, и каждый прижался глазом к смотровому отверстию. Долгое время ничего не происходило. Затем в комнату, за которой я наблюдал, вошли четыре женщины и расселись там и сям на диванных подушках. Все они были примерно одного возраста с шахрияр Жад и почти такие же красивые. Одна из них, несомненно, была урожденная персиянка, потому что у нее были кожа цвета слоновой кости и черные как ночь волосы, но глаза синие, как ляпис-лазурь. Вторую я принял за армянку, потому что каждая ее грудь была такого же размера, как и голова. Третья была чернокожей, эфиопкой или нубийкой, и у нее, конечно же, были ступни словно ласты, тонкие икры и зад как балкон, но она все равно выглядела довольно миловидной: симпатичное лицо с не слишком вывернутыми губами, хорошей формы грудь и прекрасные длинные руки. У четвертой женщины кожа была такой смуглой, а глаза такими темными, что я заключил, что она арабка.
Однако женщины, за которыми никто не наблюдал и которые были свободны делать, что хотят, не выказывали никаких безнравственных поползновений, но вели себя сдержанно и скромно. На всех, кроме одной, были чадры, и все четверо были полностью одеты и оставались одетыми, и к ним не присоединился никто из их тайных любовников. Чернокожая женщина и арабка принесли с собой какое-то рукоделие и довольно апатично им занимались. Персиянка, прихватив какие-то горшочки, кисточки и другие маленькие инструменты, уселась рядом с армянкой и принялась усердно делать той маникюр, а когда закончила, обе женщины начали вдвоем раскрашивать ладони и ступни хной. Вскоре я заскучал, так же как и эти четыре женщины. Я видел, как они зевают, слышал, как отрыгивают, и чувствовал, как они портят воздух, и удивлялся, почему я рассчитывал на пикантные штучки вроде вавилонских оргий в доме, полном женщин, только потому, что все они принадлежали одному мужчине. Ясно же, что, когда такому количеству женщин нечего делать, как только ждать, когда их позовет хозяин, то они могут лишь расслабляться и быть не более деятельными и оживленными, чем растения. С таким же успехом я мог бы наблюдать за грядкой капустной рассады. Я повернулся, чтобы сказать об этом шахразаде Мот.
Но она похотливо улыбнулась мне, предостерегающе приложила палец к губам и показала на свой глазок. Я нагнулся, посмотрел в него и едва удержался от удивленного восклицания. В этой комнате были двое: во-первых, совсем молоденькая девушка, значительно моложе любой из тех четырех женщин, что сидели в моей комнате, на редкость миловидная, мне удалось разглядеть ее лицо. Она сняла с себя шаровары и то, что было под ними надето, и оказалась обнаженной ниже пояса. Девушка эта была смуглой арабкой, но сейчас ее миловидное лицо было розовым от напряжения. Кроме нее в комнате был и представитель мужского пола – одна из обезьян шимпанзе ростом с ребенка, вся такая волосатая, что я никогда бы не догадался, что это самец, если бы девушка не работала с жаром одной рукой, чтобы поощрить свидетельство мужественности животного. Постепенно она достигла желаемого результата, но обезьяна лишь тупо смотрела на стоявшее вертикально доказательство, так что девушке пришлось приложить усилие, чтобы показать самцу, что и как с ним делать. Наконец и это закончилось, а мы с Мот все это время наблюдали в глазок.
После того как постыдное представление подошло к концу, арабка вытерлась куском ткани и протерла те царапины, которые нанес ей партнер. Затем она натянула на себя шаровары и выдворила шаркающую и подскакивающую обезьяну из комнаты. Мы с Мот ринулись прочь из гардеробной, в которой стало жарко и душно, в коридор, где могли поговорить, не опасаясь быть подслушанными четырьмя женщинами, которые все еще оставались в другой комнате.
Я заметил:
– Ничего удивительного в том, что визирь говорил мне, будто это животное называют невыразимо грязным.
– О, Джамшид просто завидует, – небрежно сказала царевна. – Обезьяна способна делать то, чего он сам не может.
– Однако у шимпанзе это получается не слишком хорошо. Его zab был едва ли не меньше, чем у арабки. Так или иначе, я думаю, что благопристойная женщина все же лучше использует палец евнуха, чем zab обезьяны.
– Разумеется, некоторые так и делают. Так что теперь ты понимаешь, почему мой zambur пользуется таким спросом. Здесь слишком много женщин, которым приходится ждать слишком долго и страстно желать, когда же их наконец вызовет к себе шах. Вот почему пророк (да пребудет с ним мир) давным-давно ввел tabzir. Потому-то благопристойные женщины и не должны испытывать страстных желаний и стремиться к недостойным мусульманки средствам спасения.
– Думаю, на месте шаха я бы предпочел, чтобы женщины обращались к zambur друг друга, чем к случайным zab. Ты только представь, а вдруг эта арабка забеременеет от той обезьяны! Какой отвратительный отпрыск может у нее появиться? – Эта ужасная мысль повлекла за собой другую, не менее ужасную. – Per Cristo[137], а вдруг твоя отвратительная сестра забеременеет от меня? Я что, должен буду на ней жениться?
– Не тревожься, Марко. Каждая женщина здесь, какой бы нации она ни была, имеет свои собственные способы, чтобы избежать подобной случайности.
Я недоуменно уставился на шахразаду.
– Они знают, как избежать зачатия?
– Это не всегда срабатывает, но все же лучше, чем полагаться на случай. Арабские женщины, например, прежде чем заняться zina, заталкивают себе внутрь затычку из шерсти, пропитанной соком плакучей ивы. Персиянка помещает в себя тонкую белую пленку, расположенную под коркой граната.
– Как отвратительно греховно, – вынужден был сказать я как добрый христианин. – А что лучше срабатывает?
– Конечно, персидский способ предпочтительней, хотя бы потому, что он удобней для обоих партнеров. Шамс использует его, и держу пари, что ты ни разу даже не почувствовал этого.
– Угадала.
– А теперь представь, что твой нежный lubya наталкивается на эту плотную затычку из шерсти внутри арабской женщины. В любом случае, я не верю в действенность этого способа. Что могут знать арабские женщины о том, как помешать зачатию? Пока арабский мужчина не захочет сделать ребенка, он никогда не занимается zina со своей женщиной, поскольку привык использовать для этого других мужчин или мальчиков.
Я успокоился, когда узнал, что царевна Шамс благодаря чудесному средству из пленки граната не собиралась беременеть и преумножать свое уродство. Хотя, по справедливости, я должен был бы встревожиться, потому что участвовал в одном из самых мерзких смертных грехов, который только мог совершить христианин. Поэтому я решил, что при первом же удобном случае, во время путешествия или уже после возвращения домой в Венецию, когда поблизости окажется христианский священник, я обязательно покаюсь. Разумеется, священник наложит на меня епитимью за то, что я прелюбодействовал с двумя незамужними женщинами одновременно, однако это был еще простительный грех по сравнению с другим. Я хорошо представлял себе ужас святого отца, когда я признаюсь, что, воспользовавшись безнравственными хитростями Востока, получил возможность вступить в половые отношения ради чистого наслаждения, а не из стремления христианина получить от этого в конечном итоге потомство.
Нет нужды говорить, что я не отказался от этого греховного наслаждения. Если что-то и огорчало меня слегка, то вовсе не ноющее чувство вины, а вполне естественное желание, чтобы zina каждый раз завершалась внутри красавицы Мот, а не внутри нелюбимой и непривлекательной Шамс. Тем не менее, когда Мот безжалостно отвергла мои робкие намеки на этот счет, у меня хватило здравого смысла больше их не делать. Я не хотел рисковать тем, что имел, в погоне за недостижимым счастьем. А чтобы утешиться, я придумал для себя историю – сказку вроде тех, что рассказывала нам шахрияр Жад.
В своей выдуманной истории я сделал Солнечный Свет не такой, какой она была, самой уродливой женщиной в Персии, но, напротив, восхитительной красавицей. Она была настолько великолепна, что Аллах в своей мудрости постановил: «Непостижимо, чтобы божественной красотой и приносящей радость любовью шахразады Шамс наслаждался лишь один какой-нибудь мужчина». Именно по этой причине Шамс и не могла выйти замуж. В знак подчинения всемогущему Аллаху она была принуждена оказывать внимание всем достойным и добрым почитателям, и однажды я сам оказался одним из таких временных поклонников. Какое-то время я утешался этой историей, только когда в этом была необходимость. Каждую ночь, пока zina не достигала высшей точки, у меня не возникало нужды в чем-то большем, чем очарование и близость царевны Мот, чтобы возбуждать и поддерживать свое рвение. Но потом, когда наша взаимная игра заставляла восхитительное давление повышаться во мне так, что его уже нельзя было сдержать и я позволял ему выйти, тогда я мысленно призывал свою воображаемую
сказочную красавицу Солнечный Свет и делал ее вместилищем всплеска своей любви.
Как я уже сказал, какое-то время этого мне было вполне достаточно. Но затем я начал ощущать пагубное влияние своего рода безумия. Я стал допускать, что моя история может оказаться правдой. Постепенно безумие мое усиливалось, я начал подозревать какую-то страшную тайну и решил, что если буду действовать незаметно, то первым (и единственным) раскрою этот секрет. В конце концов я дошел до такого сумасшествия, что начал делать Мот новые намеки: мол, я в действительности хочу увидеть ее сестру, которую не может видеть никто. Девушка забеспокоилась и встревожилась, а я уже дошел до того, что представлял себе, как дерзко упомяну имя Шамс в присутствии ее родителей и бабушки.
«Мне была оказана честь познакомиться с большей частью вашей благородной семьи, о светлейшие, – сказал бы я шаху Джаману или шахрияр Жад, а затем бесцеремонно добавил бы: – За исключением достойной уважения принцессы Шамс».
«Шамс?» – переспросили бы они сдержанно и оглянулись бы по сторонам со смущенным видом. А Мот начала бы бойко говорить что-нибудь, чтобы отвлечь нас всех, а потом довольно грубо буквально вытолкала бы меня прочь.
Бог знает, куда бы в конце концов завело меня такое поведение – возможно, меня отправили бы в Дом иллюзий, – но вскоре отец и дядя вернулись в Багдад и пришло время распрощаться со всеми тремя моими партнершами по zina: Мот, Шамс настоящей и Шамс выдуманной.
Глава 6
Отец и дядя вернулись вместе, встретившись где-то по дороге, к северу от Персидского залива. Бросив на меня взгляд, дядя весело захохотал, поприветствовав племянника следующим образом:
– Ecco[138] Марко! На удивление, все еще жив, в вертикальном положении и на свободе! Неужели на этот раз обошлось без неприятностей, scagarn?[139]
– Похоже на то.
И я отправился, чтобы удостовериться, так ли это. Я разыскал шахразаду Мот и сказал ей, что наша любовная связь подошла к концу.
– Я не могу больше уходить на всю ночь, не вызывая при этом подозрений.
– Очень плохо. – Она надула губки. – Моя сестра еще нисколько не устала от нашей zina.
– Я тоже, шахразада Магас-мирза. Хотя, по правде говоря, zina меня сильно ослабила. А сейчас я должен восстановить силы для нашего путешествия.
– Да, вообще-то вид у тебя измученный и изнуренный. Ну хорошо, стало быть, конец. Мы еще формально попрощаемся перед твоим отъездом.
В тот вечер дядя с отцом сообщили шаху, что решили все-таки не ехать морем, чтобы сократить наш путь на восток.
– Мы искренне благодарны вам, шах Джаман, за то, что вы предложили нам это, – сказал отец. – Но есть одна старая венецианская поговорка: «Loda el mar e tiente a la terra».
– Что значит?.. – вежливо спросил шах.
– «Восхваляй море, но занимайся землей». В переложении это означает: «Превозноси громаду и опасности, но держись за маленькое и надежное». В свое время мы с Маттео много путешествовали по бескрайим морям, но никогда не плавали вместе с арабскими торговцами. Нет такого пути по суше, который будет более рискованным и опасным.
– Арабы, – пояснил дядя, – строят свои океанские суда так же небрежно, как и ветхие речные лодки, которые светлейший шах видит здесь в Багдаде. Все они связаны веревками и проклеены рыбьим жиром, в конструкции нет ни куска металла. А лошади и козы на палубе сбрасывают свое дерьмо вниз, в каюты пассажиров. Может быть, арабы и достаточно невежественны, раз отваживаются выходить в море на таких утлых и убогих скорлупках, но мы – нет.
– Вполне возможно, что вы поступаете мудро, – сказала шахрияр Жад, которая как раз вошла в комнату, хотя там собрались только мужчины. – Я расскажу вам на этот счет одну сказку…
Она рассказала их несколько, и все они были про Синдбада-Морехода, который претерпел несколько неприятных приключений, встретившись с гигантской птицей Рухх, со старым Шейхом Моря и с рыбой, огромной, как остров. Шахрияр упоминала про кого-то еще, но я не помню. Суть ее повествования сводилась к тому, что Синдбад каждый раз начинал свои приключения с того, что садился на арабское судно, которое неизменно терпело крушение, а сам он выживал, потому что доплывал до какой-нибудь земли, не нанесенной на карту.
– Спасибо, дорогая, – сказал шах, когда его супруга закончила рассказывать шестую или седьмую сказку о Синдбаде. И прежде чем она начала следующую, он спросил отца и дядю: – Значит, вы напрасно съездили к заливу?
– Вовсе нет, – ответил отец. – Мы увидели, узнали и раздобыли много интересного. Например, я купил эту прекрасную стальную shimshir в Нейризе. Знающий человек сказал мне, что она была сделана из железа, добытого на расположенных неподалеку рудниках светлейшего шаха. Я, признаться, очень удивился. И сказал ему: «Разумеется, вы имеете в виду стальные рудники: сабля ведь стальная, и железо здесь ни при чем». А он ответил: «Нет, мы добываем в рудниках железо, кладем его в специальный горн, и железо становится сталью». Я страшно возмутился: «Что? Вы хотите, чтобы я поверил, что если засуну в горн осла, то он станет лошадью?» Этому человеку пришлось долго объяснять, чтобы убедить меня. Святая правда, о светлейший шах, что в Европе сталь всегда считали особым металлом высшего качества, а никак не простым железом.
– А вот и нет, – сказал шах, улыбнувшись. – Сталь – это железо, освобожденное от примесей особым способом, который вы в Европе, возможно, еще не знаете.
– Тогда я повысил свое образование там, в Нейризе, – заметил отец. – А еще мой путь пролегал через Шираз и, разумеется, через его громадные виноградники. Я попробовал все знаменитые вина в каждой винодельне, где они производятся. Я также попробовал… – Тут он замолчал и бросил взгляд на шахрияр Жад. – Да, кстати, в Ширазе великое множество миловидных женщин, их там больше, чем в каком-либо другом городе, где мне довелось побывать.
– Это правда, – сказала дама. – Я и сама там родилась. В Персии есть поговорка: «Если ты ищешь красивую женщину, посмотри в Ширазе, а если ищешь красивого мальчика – то в Кашане».
– А что касается меня, – вставил дядя Маттео, – то я обнаружил кое-что интересное в Басре. Масло, которое называется нефть; оно получается не из оливок, орехов, рыбы или жира, а сочится из самой земли. Оно горит ярче, чем какое-либо другое, дольше и без удушливого запаха. Я наполнил им несколько бутылей, чтобы зажигать по ночам во время нашего путешествия, а также, надеюсь, чтобы удивлять других, кто никогда не видел подобного вещества раньше. Сам я, признаться, здорово удивился.
– Да, относительно вашего путешествия, – сказал шах. – Раз уж вы решили продолжить его по суше, помните о моем предостережении насчет Деште-Кевир – Большой Соляной пустыни, которая лежит к востоку. Поздняя осень – лучшее время года, чтобы пересечь ее, хотя, по правде говоря, хорошего времени для этого вообще не существует. Я предлагаю вам взять для вашего каравана верблюдов, пять штук. По одному для каждого из вас и ваших вьюков, одного для погонщика и еще одного – для основного груза. Визирь отправится с вами завтра на базар и поможет вам выбрать верблюдов. Он же заплатит за них, а я взамен возьму ваших лошадей.
– Это очень любезно с вашей стороны, – заметил отец. – Вот только у нас нет погонщика верблюдов. А без него нельзя?
– Если вы не слишком искусны в управлении этими животными, то вам обязательно понадобится погонщик. Ладно, что-нибудь придумаем. Но сначала приобретите верблюдов.
Итак, на следующий день мы вчетвером, вместе с Джамшидом, снова отправились на базар. Верблюдов продавали на большой площади, выложенной по кромке высокими камнями. Выставленные на продажу верблюды размещались таким образом, что их передние ноги стояли на каменных выступах, из-за чего животные казались выше и высокомерней. Этот рынок был более шумным, чем любая другая часть базара, потому что к обычным выкрикам и ссорам покупателей и продавцов там добавлялись также сердитый рев и скорбные стоны верблюдов, недовольных тем, что их все время хватали за морды и поворачивали, чтобы продемонстрировать, как резво они встают и ложатся на колени. Джамшид заставил животных проделать все трюки. Он щипал их за горбы, щупал ноги верблюдов снизу и сверху, заглядывал им в ноздри. После того как визирь проверил почти всех взрослых животных, которые были выставлены в тот день на продажу, он отвел пятерых из них в сторону – одного верблюда и четырех верблюдиц. Моему отцу визирь сказал:
– Посмотрите, согласны ли вы с моим выбором, мирза Поло? Обратите внимание, что у всех передние ноги больше, чем задние, а это верный признак превосходной выдержки. Еще ни у одного из них нет червей в носу. Всегда следите за этим и, если когда-нибудь увидите признаки заражения, засыпьте им в ноздри побольше перца.
Поскольку отец и дядя сами совершенно не разбирались в верблюдах, они, разумеется, одобрили выбор визиря. Продавец велел своему помощнику отвести верблюдов, связанных в шеренгу, в дворцовые конюшни, а мы налегке отправились за ними.
Во дворце шах Джаман и шахрияр Жад уже поджидали нас в комнате, заваленной подарками. Они хотели, чтобы мы передали их великому хану Хубилаю. Здесь были туго свернутые qali высочайшего качества, шкатулки с драгоценностями, изящные блюда и кувшины, сделанные из золота, shimshir из нейризской стали с ножнами, украшенными драгоценностями. Для женщин хана Хубилая были приготовлены отполированные зеркала, тоже из нейризской стали, сурьма и хна, кожаные фляги с ширазским вином, тщательно упакованные черенки самых прекрасных роз из дворцовых садов, а также черенки не имеющих семян банджа и мака, из которого делают терьяк. Самым замечательным из всех подарков была доска, на которой какой-то придворный живописец нарисовал портрет мужчины – грозного и аскетического вида, но слепо го, его глазные яблоки были абсолютно белыми. Это было единственное изображение живого существа, которое я когда-либо видел в мусульманской стране.
Шах пояснил:
– Это лик пророка Мухаммеда (да пребудет с ним мир). В государствах великого хана много мусульман, и многие из них даже не представляют, как пророк (да пребудет с ним мир) выглядел при жизни. Вы возьмете этот портрет, чтобы показать им.
– Простите меня, – сказал дядя Маттео с несвойственной ему нерешительностью. – Я думал, что изображение живых людей запрещено исламом. А уж образ самого пророка?..
Шахрияр Жад объяснила:
– Изображение не считается живым, пока не нарисованы глаза. Вы наймете какого-нибудь живописца, чтобы нарисовать их перед тем, как подарите картину хану. Требуется поставить всего лишь две коричневые точки на глазных яблоках.
Шах добавил:
– Сама картина нарисована такими красками, которые через несколько месяцев поблекнут, и портрет полностью исчезнет. Таким образом, он не может стать предметом поклонения, которые так чтите вы, христиане, и которые запрещены Кораном, потому что в них нет необходимости для нашей более цивилизованной религии.
– Этот портрет, – сказал отец, – станет самым удивительным подарком из всех, которые хан когда-либо получал. Светлейший шах очень великодушен в уплате дани.
– Я бы хотел послать Хубилаю также несколько невинных девушек из Шираза и мальчиков из Кашана. – Шах призадумался. – И я уже пытался делать это прежде, но почему-то они никогда не прибывали к его двору. Девственников, должно быть, очень трудно перевозить.
– Остается только надеяться, что мы сможем доставить все это, – сказал дядя, показывая на подарки.
– О, не беспокойтесь, тут проблем не возникнет, – заверил его визирь Джамшид. – Один из ваших новых верблюдов легко сможет нести весь этот груз и делать с ним восемь фарсангов в день, причем вода ему понадобится только раз в три дня. При условии, конечно, если у вас будет опытный погонщик верблюдов.
– А он у вас уже есть, – сказал шах. – Еще один подарок от меня, на этот раз не для хана, а для вас, господа. – Он сделал знак стражнику у дверей, и тот вышел. – Раб, которого я сам только недавно приобрел, его купил для меня один из придворных евнухов.
Отец пробормотал:
– Великодушие светлейшего шаха не имеет предела и поражает.
– Ну что вы в самом деле, – скромно сказал шах. – Что я, не могу подарить своим друзьям раба? Даже такого, который стоил мне пять сотен динаров?
Стражник вернулся вместе с рабом, который тут же упал ниц и пронзительно заверещал:
– Да будет благословен Аллах! Мы снова встретились, добрые хозяева!
– Sia budel![140] – воскликнул дядя Маттео. – Да это же тот негодяй, которого мы сами отказались купить!
– Эта тварь Ноздря! – воскликнул визирь. – И правда, мой господин шах, как это вы решились обзавестись этим презренным лишаем?
– Боюсь, что он привел евнуха в восхищение, – кисло пояснил шах. – А меня – нет. Итак, он ваш, господа.
– Ну… – сказали дядя и отец, чувствуя неловкость, но не желая обижать хозяина.
Подарок вообще-то принято хвалить, даже если он тебе не понравился. Однако на этот раз сам шах честно признался:
– Я никогда еще не встречал такого непокорного и противного раба. Он бранился и оскорблял меня на полудюжине языков, которые я не понимаю, кроме одного слова «свинина», которое встречалось во всех.
– Он также дерзко вел себя со мной, – добавила шахрияр. – Вообразите себе раба, который хулит сладость голоса своей хозяйки.
– Пророк (да пребудет с ним мир), – заметил тварь Ноздря, словно размышлял вслух сам с собой, – пророк называет дом, из дверей которого доносится женский голос, проклятым.
Шахрияр злобно посмотрела на него, а шах сказал:
– Вы слышите? Ну ладно, евнуха, который купил его без спроса, четвертовали. Евнух ничего не стоил, поскольку был рожден под этой крышей одной из моих рабынь. Но ведь этот сын суки шакала стоит пять сотен динаров, и им надо распорядиться с большей пользой. Вам, господа, нужен погонщик верблюдов, а он утверждает, что может им быть.
– Истинно! – завопил сын суки шакала. – Добрые хозяева, я вырос среди верблюдиц, и я люблю их, как своих родных сестер…
– В это, – сказал дядя, – я верю.
– Ответь-ка мне на вопрос, раб! – рявкнул на него Джамшид. – Верблюд становится на колени, чтобы его нагрузили. Он жалуется и стонет изо всех сил, когда на него укладывают каждый следующий груз. Как ты узнаешь, что его больше нельзя нагрузить?
– Это просто, визирь-мирза. Как только верблюд перестанет роптать, это значит, что вы положили на него последнюю соломинку, которую он сможет нести.
Джамшид пожал плечами.
– Он и впрямь знает верблюдов.
– Ну… – промямлили дядя и отец.
Шах сказал уныло:
– Вы возьмете его с собой, господа, или же на ваших глазах этот человек отправится в чан.
– Куда? – удивился отец, который не знал, что это такое.
– Давай возьмем его, отец, – сказал я, впервые за все время открыв рот. Я произнес это без всякого восторга, но я не хотел еще раз увидеть, как человека предают смерти в кипящем масле, пусть даже такого отвратительного паразита.
– Аллах вознаградит тебя, молодой хозяин-мирза! – закричал паразит. – О, украшение безупречности, ты так же сострадателен, как старый дервиш Баязид, который как-то во время путешествия обнаружил муравья, попавшего в корпию его пупка. Он прошел сотни фарсангов обратно к тому месту, откуда начал свое путешествие, чтобы вернуть насильно унесенного муравья в его муравейник, и…
– Замолчи! – завопил дядя. – Мы берем тебя с собой потому только, что хотим избавить нашего друга шаха Джамана от твоего вонючего присутствия. Но предупреждаю тебя, гниль, тебе придется нелегко!
– Я согласен! – завопила гниль. – Слова поношения и битье, которые дарованы мудрецом, более ценны, чем лесть и цветы, дарованные невеждой. И более того…
– Ges, – утомленно сказал дядя. – Тебя будут бить не по ягодицам, а по твоему болтающему языку. О светлейший шах, мы отправимся завтра на рассвете и заберем с собой это зловоние.
Рано утром Карим и двое других слуг одели нас в добротные одежды для путешествия, выполненные в персидском стиле, и помогли упаковать наши личные вещи. После чего нам вручили огромную корзину с прекрасными яствами, винами и другими деликатесами, приготовленными придворными поварами, так что мы были обеспечены кушаньями на добрый отрезок нашего пути. Затем все трое слуг доставили себе удовольствие, изображая беспредельную печаль, словно мы всю жизнь были их любимыми хозяевами и теперь покидали их навсегда. Они распростерлись ниц, прощаясь, скинули свои тюрбаны и принялись биться об пол обнаженными головами. Слуги не переставали делать это до тех пор, пока отец не раздал им бакшиш, после чего проводили нас с широкими улыбками и пожеланиями всегда пребывать под защитой Аллаха.
В дворцовой конюшне мы обнаружили, что Ноздря уже по собственной инициативе оседлал наших верблюдиц и нагрузил вьючного верблюда. Он даже тщательно рассортировал и прикрыл все подарки, которые посылал шах, так, чтобы они не упали, не дребезжали и не испачкались в дорожной пыли. Причем раб разместил их таким образом, чтобы мы могли определить, что он не украл ни единой вещи.
Однако вместо похвалы дядя сурово сказал:
– Ты, мерзавец, думаешь, что порадуешь нас сейчас и заморочишь нам голову, чтобы мы проявили к тебе снисходительность, когда ты вновь поддашься своей природной лени. Но предупреждаю тебя, Ноздря, мы ожидаем от тебя чего-то подобного и…
Раб перебил его с подобострастием:
– Хороший хозяин делает хорошего слугу и получает от него службу и послушание в прямой зависимости от уважения и веры, которые оказывает ему.
– Однако по всем рассказам, – заметил отец, – ты плохо служил своим прошлым хозяевам – шаху, торговцу рабами…
– Ах, добрый хозяин мирза Поло, я слишком долго был заключен, словно пленник, в различных городах и семействах, и моя душа рвется отсюда. Аллах создал меня странником. Я так понял, что вы, господа, путешественники, и потому приложил все усилия, чтобы меня прогнали из дворца, мечтая присоединиться к вашему каравану.
– Хм, – скептически произнесли отец и дядя.
– Ведя себя так, я знал, что рискую прежде всего попасть из дворца в котел с маслом. Но молодой мирза Марко спас меня, и он никогда не пожалеет об этом. Вам, старшие хозяева, я буду послушным слугой, но для него я стану преданным наставником. Я спасу юношу от опасности, как он меня, и я буду прилежно обучать его премудростям путешествия.
Таким образом, Ноздря оказался вторым, довольно странным учителем, которого я приобрел в Багдаде. Да уж, не такого компаньона я себе желал. Меня не слишком-то радовало, что обо мне будет заботиться этот грязный раб, который, возможно, научит меня чему-нибудь дурному. Однако я не хотел ранить его, а потому промолчал, изобразив на лице терпимость.
– Имейте в виду, я вовсе не претендую на то, чтобы считаться хорошим человеком, – сказал Ноздря, словно подслушав мои мысли. – Я человек простой, и не все мои вкусы и привычки приемлемы в благовоспитанном обществе. Несомненно, вы будете часто бранить меня или даже бить. Но я хороший путешественник, вот кто я такой. И теперь, когда я снова окажусь под открытым небом, вы оцените, как я полезен. Вы меня еще узнаее!
Итак, мы втроем отправились проститься с шахом, шахрияр, ее старой матерью и шахразадой Магас. По этому случаю они все рано поднялись и попрощались с нами так прочувствованно, словно мы и впрямь были дорогими гостями, а не простыми посланцами великого хана, взимавшего с персов дань.
– Вот здесь документы на владение этим рабом, – сказал шах Джаман, передавая их моему отцу. – Вы пересечете много границ, когда двинетесь отсюда на восток, и пограничная стража может потребовать бумаги, удостоверяющие личность каждого в вашем караване. А теперь прощайте, дорогие друзья, и пусть вы всегда будете под защитой Аллаха.
Шахразада Мот распрощалась сразу со всеми нами, для меня была предназначена лишь особая улыбка.
– Пусть вы никогда не повстречаете на своем пути ни ифрита, ни злобного джинна, а только сладких и совершенных пери.
Бабушка безмолвно кивнула головой, а шахрияр Жад произнесла прощальную речь – такую же длинную, как и все ее многочисленные истории, закончив явной лестью:
– Ваш отъезд оставляет нас безутешными.
И тут я набрался храбрости и сказал ей:
– Во дворце есть еще кое-кто, кому бы я хотел лично передать наилучшие пожелания. – Признаюсь, я все еще пребывал в легком замешательстве от своей выдуманной истории о шахразаде по имени Солнечный Свет и никак не хотел отказаться от заблуждения, что почти раскрыл какой-то связанный с этой девушкой тщательно скрываемый секрет. Во всяком случае, была или нет она такой ослепительной красавицей, какой я создал ее в своем воображении, Солнечный Свет была моей неизменной возлюбленной, и мне представлялось весьма учтивым попрощаться с ней особо. – Не передадите ли ей мои теплые пожелания, о светлейшая шахрияр? Я, правда, не уверен, что шахразада Шамс – ваша дочь, но…
– Вот уж точно, – сказала шахрияр со смешком. – Моя дочь, это надо же такое придумать! Ваша шутка, молодой мирза Марко, скрасит горечь расставания. Шамс во всей Персии одна-единственная. И уж, конечно, она никакая не шахразада, а самая настоящая шахприяр.
Я сказал неуверенно:
– Никогда раньше не слышал такого титула.
Совершенно сбитый с толку, я вдруг заметил, что Мот отступила в угол комнаты и прижалась лицом к висевшему на стене qali, были видны лишь ее зеленые глаза, сверкавшие от озорства. Девушка явно старалась удержаться от смеха и сгибалась чуть ли не пополам.






