Кочубей Аладьин Егор
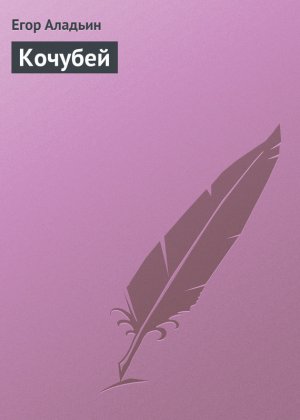
Сорокин отпрянул к окну, поднял руки, словно пытаясь защититься.
— Я стреляю в изменника, в предателя революции, объявленного вне закона! — крикнул Высленко, в упор стреляя в Сорокина.
Сорокин стукнулся головой об угол, опустился на колени и рухнул, подогнув под себя руки.
Щербину, убегавшего из Ставрополя, догоняли по татарскому тракту. Под ним была кобылица Кукла. Не раз она спасала Щербину.
Таманцы отстали. Щербина почувствовал себя вне опасности.
Но таманцы не прекратили погони. На залитую луной дорогу выскочили верховые. Щербина бросился в сторону. Лошадь покатилась в обрыв и, грохнувшись на дно у жестких кустов терновника, подняла морду. По верху двигались всадники. Щербина ясно видел их четкие силуэты. Кукла раздула ноздри, приготовясь заржать. Он схватил ее морду обеими руками, целовал:
— Кукла, Куклочка, молчи, молчи, Кукла…
Таманцы исчезли. По сухой терновой балке продирался Щербина, ведя в поводу качающуюся, обессиленную лошадь.
Гриненко, так же как и Черный, был приговорен коллегией Чрезвычайной комиссии к расстрелу. Адъютант главкома просил устроить митинг, где он всенародно покается в содеянном. В праздничный день в Пятигорском цветнике открылся митинг. На трибуну, затянутую красным сукном, вышел бледный Гриненко. Он окинул взором народ. Собрались тысячи бойцов одиннадцатой армии. Торчали штыки пехоты, пестрели разноцветные верха кубанских шапок кавалерии. Вперемешку чернели куртки железнодорожных рабочих, белели овчинные шубы женщин… Ни в одном взгляде не нашел Гриненко сожаления или сочувствия. И когда начал он свою исповедь, гробовым молчанием встретила ее толпа.
— …Наш штаб и ЦИК не ладили. ЦИК не давал денег, а деньги нужны были, сами знаете… — рассказывал Гриненко.
— Знаем, знаем! — выкрикнул кто-то. — На мадамов да пьянку.
— Вот именно, — согласился Гриненко, кивнув головой. — Когда Сорокину ЦИК пожалел два миллиона, он очень рассердился. Говорил: раз идет война, вся власть военным, а гражданская власть только мешает, и деньгами тоже должны распоряжаться военные… А когда мы его спросили, куда же девать ЦИК, он сказал, что надо его убрать. Гражданская война еще не скоро кончится, и ЦИК никому не нужен сейчас…
Гриненко рассказал о подготовке переворота, о расстреле Матвеева, а после и руководителей партии и Реввоенсовета.
— …Теперь надо было вымазать в деготь побитых, чтобы на нас пальцем не указывали. Костяной да Кляшторный написали прокламацию, будто Рубин, Рожанский, Равикович, Дунаевский продавали нас кадетам, а то, что нас били белые на фронте, тоже им в вину пришили. Вы знаете эти прокламации, их много было на всех углах наклеено.
— Ты о себе говори, каяться же вышел! — закричали из толпы.
— Подписался я тоже тогда в палачи, предавал мучениям малолетка брата товарища Крайнего, да и Минькова Бориса. Расписались они под показаниями, что мы изготовляли, да под письмами… обещали даже им освобождение, а потом, сами знаете… расстреляли.
Толпа загудела:
— Чего его тут исповедовать! В собачий ящик!
— Сколько людей перебил, а мы нянчимся!
К раковине, откуда говорил Гриненко, продрался казак, увешанный оружием, с запыленным и обожженным лицом:
— Товарищи! Как я его станичник — просю разрешить мне его самолично кончить. Срам перед станичниками будет, как возвернемся… Дайте, я его кончу.
Казака успокоили. Гриненко опустил голову.
— Ну, давай закруглять, а то на фронт надо, — требовали красноармейцы.
— Моя просьба к вам и к ЦИКу, — не подымая головы, попросил Гриненко, — не расстреливать меня, а дать мне револьвер с одним патроном, чтобы я сам себя убил.
Толпа зашумела:
— Дать ему наган!
— Нехай помрет, как казак, а не как подлюка! — выкрикнул одностаничник Гриненко.
— Стой, братва! — вылез дерзкий красивый матрос и поднял руку. — Мы, черноморцы, против, нет ему доверия. Пускай выскажется, на чем базируется просьба.
— Я прошу вот почему, — отвечал вновь притихшим людям Гриненко. — Я бросил семейство, пошел вместе с вами за революцию. Думал побороть врага нашего, буржуазию… свихнулся с пути я… Как? Сам не пойму. Туман кругом, и вроде ничего видно не было… Хуже кадета я… Товарищи, революции бойцы, вижу, расстрелял Советскую власть… нельзя жить мне на белом свете… подлюка я, плюньте в глаза мои…
Все притихли, ближе подвинулись к трибуне. Кое-где под напором тел затрещал забор. Гриненко подошел к краю сцены. Он стоял без шапки, опустив голову. Руки были опущены на алые, дорогого сукна шаровары, вымазанные мазутом и грязью. Пальцы вздрагивали, теребя кубанку серого смушка. Сняли с него товарищи оружие вместе с поясом, ибо предал он интересы боевых полков и не мог выйти на суд товарищества подпоясанный. Кончилась слава его. Стыдно было бывшим его соратникам, и потупились они, слушая слово о черной корысти их прежнего друга.
— Нет прощения мне за великую измену, — тихо произнес Гриненко, но все услышали слова его. — Дайте моей страдающей душе искупить зло… искупить хоть каплю зла… позвольте мне застрелиться… Отец мой старик, жена, сын мой считают — понес жизнь я за революцию. Честным считают меня. Не кидайте от себя сына моего. Возьмите, выучите. Пусть он будет революционером. Простите меня и прощайте. Живите, боритесь за счастье трудового класса, а мы, с темным пятном предателей, должны умереть…
Плача, Гриненко сошел с трибуны. Ему выдали револьвер.
— Товарищ доктор, куда стрелять, чтоб с одного патрона? — шевеля белыми губами, спросил он врача.
Врач указал. Гриненко повернулся к народу, поцеловал наган.
— Целую святое оружие трудящихся, несущее смерть врагам революции.
Выпрямился и выстрелил себе в сердце.
Теряли остатки умерших листьев дубы, серебристые тополя и карагачи. Над парком кружились вороны, звонкие и крикливые. Строился у выхода матросский батальон, уходящий с бронепоездом на фронт. Группами отъезжали кубанцы, перебрасываясь словами.
XXXI
Дождливую осень и распутицу сменяла зима. На окопы, на заставы, на полевые караулы опускались ранние морозы и гололедка. Когда-то густые заросли облепихи-дерезы, ивы и топольника, скинув листья, поредели, лишив убежища птиц кубанских и зеленчукских заводей. Снимались, крякая, утиные стаи, перестраивались в четкие треугольники, шли на юг, к перевалам, пересекая хребет до начала горных метелей. Не порхали уже стрижи и хохлатые жаворонки. Над осыпями пустынных хребтов Абаширы-Ахубы парили черно-бурые грифы. Хищники выглядывали, не мелькнет ли стайка горных курочек или индеек, нацеливали взор, вытягивали когти…
Но беспокойно было на земле. Метались всадники на стремительных конях, повторяло эхо гранитных ущелий отрывистые гортанные команды, скрипели карачаевские арбы, и боязливо сторонились быки, почти влипая в скалу, когда мимо них по мышиным тропам проносились косматые бурки. От Сторожевой, Кардоникской, Зеленчукской, Отрадной, от Джегутинской, Джюрт-Юрта, пропадая в балках, в лесах, пробираясь ущельями и каньонами горных рек, двигались группы и одиночки. Одни застревали у белых, другие просачивались через фронты, сливались во взводы и шли на защиту революции, на оборону республики.
Сухо шелестели суркульские камыши, и иногда по улицам катились занесенные из степи кураи [21]. От Невинномысской через Суркули беспрерывно двигались войска и обозы. С фронта самовольно начинали сниматься наименее устойчивые части.
Рой прискакал в Суркули. Он должен был принять придаваемую бригаде пехоту. В теплой конюшне в стойлах, пропахших сеном и навозом, звучно жевали лошади. Сверкнув фиолетовыми зрачками, заржал серый жеребец и начал буйно топтаться, разбрызгивая грязь. Рой узнал жеребца Кочубея. Поставив иноходца рядом с кандыбинским Абреком, начальник штаба, по пути разматывая башлык, направился было в дом, но, заметив оживление на улице, задержался.
Двигались повозки, сопровождаемые верховыми. Беженцы это или регулярные части? На фурах везли гусей, визгливых поросят. Кое-где рядом с хрюкающей живностью стояли пулеметы. Ленты были заправлены в приемники. Казалось, пулеметы ощерились бледными деснами лент с золотыми клыками патронов, вот-вот начнут лязгать и скрежетать. Верховые были хорошо вооружены и в валенках. Валенки в стремена не влезали, всадники помахивали ногами, стремена позванивали.
— Куда? — любопытствовал Игнат Кочубей, вышедший за ворота.
— В теплые края.
— Шо-сь на птицев на перелетных не похожи.
— Может, в Курсавку на ярмарку? Так уже спасовки тю-тю! — просвистел второй кочубеевец.
— Какая часть? — строго опросил Рой у солдата, закутанного поверх башлыка клетчатым полушалком.
Солдат пропускал обозы и переругивался с кочубеевцами. Рой повторил вопрос. Солдат обернулся всем корпусом и, определив лицо командного состава, гордо бросил:
— Непромокаемая дивизия партизана Наглова.
Рой знал эту «дивизию». По предгорью давно ходили слухи о «непромокаемых» отрядах анархистов Наглова и Казанцева. Под нажимом белых эти отряды первыми покидали фронт. Солдат в полушалке, пропустив вихляющиеся на мерзлых колеях возы сена и зенитное орудие, установленное на спаренных тавричанских бричках, собрался отъезжать.
— Прощевайте! Встречайте кадета с хлебом да с солью! — перегнувшись в седле, крикнул он и огрел лошадь плетью.
— Встретим, не сумлевайтесь, партизан непромокаемый, — подморгнул Игнат. — Не хвостом встретим, грудью!
— Знаю, встретите, — обернувшись, заорал тот, — как же, свои, казачество!..
— Встретим и казачество, — зло ответил Игнат и погрозил кулаком.
Рой повернулся, думая уходить, но, обгоняя повозки, скакали человек шесть в гайдамацких шапках, гривы коней были украшены красными лентами. Группа по нарядам и поведению была похожа на так называемых «дружек» богатой казачьей свадьбы. Они, заметив командный флаг у дома, где собрались кочубеевцы, внезапно осадили лошадей, и один из «дружек» поднял вверх руку с плетью.
— Ребята! Пора смываться, пока живы! — завопил он. — Измена кругом! Ты ее в двери, она в окно. Сороке кишки выпустили, налетели коршуны-комиссары, мотали бы мы их душу, кишки…
— Стой, стой, горлодер! — перебил его Игнат, прикрывая ладонями уши. — Я шо-сь в твоих кишках запутался. Где измена?
— Поезжай в Невинку. Пусть у меня глаза повылазят, собирают комиссары казаков! Дают им винты, коней, пулеметы. Измена!..
Люди в гайдамацких шапках исчезли. Снова ползли обозы, орудия.
Во дворе штаба у колодца поскрипывал журавль, болталась на журавле деревянная бадейка-цыбаръ. Бадейку и водопойные корыта, точно жиром, затянуло льдом. Фуражир Прокламация, крякая, колол дрова. Бесплодное грушевое дерево больше не привлечет крикливую воронью стаю. Спилил дерево фуражир под самый корень,
Когда Рой докладывал Кочубею о положении дел на фронте, в хутор вступала пехота. Впереди шагал сивоусый командир. Четыре гармониста лихо растягивали мехи двухрядок:
- Ой, при лужке, при лужке,
- При счастливой доле,
- При знакомом табуне
- Конь гулял на воле…
Командир батальона был в овчинной шубе, в рыжей бараньей шапке. Сбоку висели казацкая шашка и наган. За спиной винтовка. Батальон двигался «пешим по-конному», в звеньевых колоннах. За гармонистами шли лучшие песельники. Сам комбат лихо высвистывал, заложив в рот четыре пальца. Лицо его было красно от натуги. Комбат свистел не хуже Соловья-разбойника, и глаза его весело щурились. На поясе его болтались побелевшие от мороза бомбы, похожие на водочные полбутылки.
- Чи не выйде моя милка
- С черными бровями…
На этом месте командир махнул рукой. Гармонисты мигом смолкли. Песня оборвалась.
— Стой! Вольно! Можно закурить.
Комбат степенно зашагал к штабу. Оправив густые усы, шагнул в горницу.
Явился в распоряжение комбрига Кочубея командир батальона Петр Кандыбин, — козырнув, отрапортовал он.
— Отец! — подмигнул комиссар Кочубею и, подойдя, подал старику руку. — Здоров, отец, давай поцелуемся.
Отец отстранился, насупился:
— Здравствуйте, комиссар. Выйдем, комиссар, в теплушку…
Кандыбин направился за отцом. Кочубей переглянулся с Роем.
— Семья! — улыбнулся Рой.
В черной хозяйской половине Кандыбин-отец, плотно притворив за собой дверь в горницу, попросил хозяйку пойти проветриться. Хозяйка, забурчав, накинула шаль, вышла. Старик заглянул на печь, под лавки, заметив поросенка, выгнал его и, накинув у двери крючок, медленно приблизился к сыну и точно заклокотал ругательствами.
— Отец, что с тобой? — удивился комиссар.
— Что со мной?! — наступая, шипел старик. — Еще он спрашивает, что со мной, ах ты… херувим какой!
— Что ты, отец, заикаешься, точно контуженный? Говори делом. Не забывай — я комиссар, а ты ко мне придан в бригаду, — пробовал отшутиться Кандыбин.
Старик взъерепенился:
— Ты мне комиссар там, в горнице, при людях… а тут я тебе так бока накомиссарю… Не позволю над отцом комиссарить.
— Отец, давай, давай толком, времени нет.
— Хочешь толком! Сейчас, сейчас, — ядовито протянул старик, исподлобья оглядывая статную фигуру сына. — Станишников на подмогу революции звали?
— Кто?
— Да вы, комиссары, Ревсоветы…
— Ну, звали.
— Всех звали аль только помазанников?..
— Всех, — еще не догадываясь, к чему клонит старик, ответил Кандыбин.
— Казаков и иногородних?
— Конечно.
— А в Невинке ты давно был?
— Признаться, с неделю уже не был. Все на фронте.
— Так поезжай в Невинку да прихвати Кочубея! — выкрикнул старик. — Кровью сердце обливается…
— Что ж там, в Невинке? Может, расскажешь?
— И расскажу, расскажу, — нервно выдыхал отец. — Пришли казаки в Красную Армию, а их военкомат уже третьи сутки манежит, ни да ни нет не говорит. Пошумели на комиссара Наглов да Казанцев, он и завилял… Встревают ребята-отрадненцы, жалются. В заступу, говорят, пойди. И перед кем в заступу? — обозлился старик. — Перед сыном, сопляком. Видать, мало я на тебе вожжей порвал.
— Да не шуми, батько. Я-то все же при чем?
— Ты-то казак? Казак. К себе доверие имеешь? Видать, имеешь. Глянь, шашка серебром горит, маузер — как у Магомета Кушкова, черкеска словно на отдельском атамане. Кочубей казак? Казак. Тысяч пять небось у вас в бригаде казаков. Была измена? Молчишь, сукин сын. А почему ж тем недоверие? — Старик опустился на лавку, отер пот ладонью, укорил: — Позоришь ты меня, Васька. Знай раз и навсегда: казак казаку неровня!
Кандыбин полуобнял отца:
— Иди, разведи пока хлопцев по квартирам. А это дело мы выправим. Сегодня вместе с Кочубеем подадимся в Невинку. Зря ты меня только ругал, отец. Ведь и по-хорошему договорились бы.
— Вас без этого не проймешь. — Снижая тон и боязливо оглядываясь, добавил: — Да мы ж один на один, Васька. Почитай, никто не слыхал. Я парасюка — и того выгнал, ногой, да в сенцы… Я тоже не без понятий, Василь!
Последний взвод вновь сформированных батальонов покинул Невинномысскую. Постепенно затухали резкие звуки оркестра. Во дворе военкомата осталось шестьсот человек. Шестьсот казаков не получили оружия. Военный комиссар отдал приказ расходиться. Казаки построились и вызвали комиссара.
— Мы — казаки предгорных станиц. Нас позвал Реввоенсовет. Почему не берете нас в Красную Армию? — тихо спросил комиссара вышедший из рядов казак, подпоясанный рушником поверх белой овчинной шубы.
— Нет надобности, — разводя руками, ответил комиссар. — В армию просили две тысячи. Мы дали. Больше надобности в пополнении частей нет.
Казак опустил голову, и все долго стояли так, понурившись, не говоря ни слова и глядя себе под ноги. Крутилась снежная поземка, у коновязей жались приведенные казаками верховые лошади. Заняв почти квартал, стояли мажары и линейки. Жены казачьи, сойдя с возов, сгрудились во дворе.
— Ничего не могу сделать, — точно извинялся комиссар, пожимая плечами, и поднял воротник.
Казак, говоривший от имени всех, медленно повернулся к шеренгам. На него подняли глаза выжидающе и как-то тоскливо. Бабы закусили концы платков и подшалков, и кое у кого блеснула слеза.
— Не хотят нас! Боятся… — резко отчеканивая слова, медленно произнес казак. — Что ж, товарищи станичники, докажем Советской власти свою идею, — тут голос его задрожал и усилился. — Голые дерутся красные солдаты с кадетами, а идут морозы еще лютее. Снимай кожухи, станичники! Для Кочубея! Раз мы не нужны ему… скидай!
Бросил шапку об землю, быстро размотал рушник и первый кинул белую свою шубу на землю, овчиной кверху.
Вмиг комиссар был завален горой поддевок, шуб, меховых черкесок, стеганых, добротных бешметов. Верховод прыгнул наверх и, потонув наполовину в одежде, заорал:
— Кто смерз, поняй домой, там отогреют шкуринцы… Зажарят в своей хате… А я найду самого Кочубея…
Оратору не пришлось искать Кочубея. Кочубей и Кандыбин прискакали вовремя. Лошади дымили и тяжело поводили боками. Кочубей спрыгнул, передал повод черкесу и, растолкав баб, спокойно вышел на середину. Казак-оратор точно застыл и, не закрывая рта, следил за комбригом.
Кочубей внимательно оглядел всех, подозрительно остановил взор на куче сброшенной одежды, на комиссаре, передернул плечами, снял шапку, бросил ее себе под ноги, скинул башлык, пояс, сложил подле себя оружие, потом, быстро расстегнувшись, содрал с плеч поддевку и швырнул ее на самый верх кучи.
— Зараз давайте балакать в одном положении, а то одному будет жарко, другому холодно. Шо це такэ?
Все разом одобрительно зашумели, перебивая и стараясь перекричать друг друга. Кочубей закрыл уши.
— Ярмарок! Это — не дело. Давай кто-нибудь один.
Из рядов выдвинулся сутулый казак в малиновом бешмете. Шум смолк. Много было здесь фронтовиков, и стремя в стремя проскакал казак этот с ними вместе по Курдистану, Туретчине, Персии. Имел двенадцать ранений и полный георгиевский бант, но уважали еще больше его не за храбрость и отвагу, а за трезвость ума.
— Мы, казаки, и не рады, товарищ Кочубей, что казаками родились, потому что нет нам доверия от Советской власти, видим мы это, — сказал он, глядя в землю, точно зазорно было ему поднять глаза. — Узнали мы — неустойки на фронте, услышали — зовет и партия казаков на защиту Советской трудовой власти. Подседлали коней мы, кто пеший прибрел, кто на мажаре приехал, шашки на брусках навели. Пришли по зову партии большевистской. Нет у нас иной власти, как власть трудового народа… — поднял голову. — Недоверие мы нашли у Советской власти. Думаете: обманем, продадим? Так ли это, товарищ Кочубей? А? Пойми сам, — захотели бы, давно с Шкуро гуляли бы аль с Покровским. Как до вас, так и до их дорог много, и гужевых накатанных, и балками, и тропками. Одернул нас комиссар. Не сказал прямо, а поняли мы его очень даже хорошо. Идите, мол, по домам, бог с вами, — казак наотмашь ударил себя в грудь и повысил голос почти до крика. — Да как мы пойдем по домам, что скажем станице? Кинулись, мол, к своим, не засватали. Да что же делать теперь? Одно осталось — к белому в дружки идти, покумоваться с огнем да нагайкою. Ведь жизни иначе не дадут нам в станице! К кадету толкаете?
Кочубей стоял упругий и собранный, опустив руки по швам. Был в одной летней гимнастерке и неподпоясанный. Чувствовал себя постыдно осужденным, и горели уши от стыда, а кто, может, думал — от мороза.
Молчание длилось минуты, но долгим показалось оно, так много мыслей прокрутилось в голове, таких мыслей, что и в десятки лет не передумаешь.
Кочубей указал на одежду:
— А це шо? Барахолка?
Ответил первый оратор, почему-то стуча зубами:
— Пожертвовали для войска твоего, Иван Антонович, для верного.
Кочубей не спеша стал одеваться. Надвинулись казаки ближе, и ему стало тесно. Надел шапку, застегнул крючки поддевки, подпоясался, перекинул через плечо маузер, шашку, за спину алый башлык и, облизнув побелевшие губы, поднял руку.
— Разобрать шубы!
Одежда моментально была расхватана.
— Становись! — повелительно скомандовал Кочубей.
Казаки мигом вытянулись в две шеренги.
— Смирно! По порядку номеров… рассчитайсь!
Побежал гул расчета.
— Триста первый! — выкрикнул последний.
Кочубей, поглядев на комиссара, недовольно качнул головой. Остановил галдящих женщин властным движением руки.
— Товарищи земляки-казаки. Бывает и на старуху проруха. Просю прощения, а вам за науку наше боевое спасибо.
Рявкнуло ответное «ура» и долго гремело, вспыхивая то там, то здесь, затихая и снова нарастая. Улыбался Кочубей, а к горлу подкатывался какой-то горячий комок.
— По коням! — пропел Кочубей, берясь за луку седла.
Те, кто привел верховых лошадей, побежали к коновязям, пешие бросились к подводам, выпрягали лошадей, надеясь в ближайшем бою добыть и оружие, и богатую кавалерийскую сбрую. Женщины целовали коням заснеженные горячие храпы и крестили мужей и сынов частыми, мелкими взмахами рук.
XXXII
Путь на Царицын, указанный в свое время Сталиным и Ворошиловым, путь, по которому ушла Стальная дивизия, удобный старинный почтовый тракт Ставрополь — Царицын, по которому могла быть выведена без потерь армия Северного Кавказа, теперь был отрезан. Предатель Сорокин, отказавшийся тогда от движения на Царицын, обрек боевые колонны армии на гибельный путь отхода. Теперь оставались две дороги: Моздок — Червленная — Кизляр — прикаспийскими степями до Астрахани и дорога на Владикавказ. Большинство частей одиннадцатой армии начало откатываться по первому пути — он вел в Советскую Россию.
Кочубей остался в арьергарде, прикрывая отступление. Бригада пополнилась приведенными казаками, и, кроме того, со всех сторон прибывали в бригаду казаки, бросившие обреченные станицы. По линии главной железнодорожной магистрали на Минеральные Воды белые встретили кочубеевскую конницу, готовую к бою, развернувшую крылья фронта — в Кубанскую область влево и в Ставропольскую губернию вправо.
Декабрьский мороз, жгучие ветры уже в течение недели истрепали людей и конский состав. Деникин наваливался свежими силами, подтянув, кроме полков Покровского и Шкуро, части генерала Шатилова, Драценко и Соколовского.
Кочубей стоял на ветреном кургане, силясь что-либо разобрать в снежных вихрях суркульской степи. Орудия били часто, настойчиво. Замолкая на одном участке фронта, ревели на другом. Гул не прекращался. Кочубей был худ, почернел; на бровях, ресницах намерзал иней. Комбриг ворчал, отворачивался, обмахивая лицо рукавом; Зайчик шатался под порывами ветра, грыз мундштуки, ронял пену на грудь, ноги, и пена мгновенно замерзала. Казалось, грудь и ноги жеребца были покрыты хлопьями ваты. Вокруг Кочубея, на седых от мороза конях, грудилось человек пятьсот его верных соратников — казаков и горцев. Посыльные сообщали о фронтовом прорыве. Рой указывал, что два офицерских батальона идут напролом. Кочубей готовился к личной атаке.
Появился Будков, организатор Выселковского полка, будущий начштаба Северного фронта. Будков выводил последние эшелоны и еле разыскал Кочубея.
— Иван Антонович, прикрывай. Одних больных сто тысяч, — сказал Будков.
— Раз надо, прикрою, — ответил Кочубей, не глядя на него.
На линии продолжительно и тревожно свистели паровозы. Будков исчез.
— Вася, — обратился Кочубей к комиссару, — шо-сь все хуже и хуже начинается заворошка, шо-сь Зайчик и то чует дурное… Поезжай, Вася, по фронту, подымай цепи в атаку…
В лицо кочубеевцам неслась мелкая колючая крупа. Спешенные сотни разворачивались под непрекращающейся ледяной сечкой. Бойцы закрывали лица, сгибались, ветер валил с ног. Кандыбин появился в цепи.
— Товарищ комиссар, невозможно идти!
— Что делать, товарищ комиссар?
Белые быстро приближались, подгоняемые ветром, стреляли. Белых не было видно, но кочубеевцы падали, и вокруг трупов курились злые визжащие завихрения.
— Немало хлопцев запишут бабы в поминаньица, — ворчал Пелипенко.
— Товарищ комиссар, невозможно идти! — кричали бойцы, некогда прославившие свои имена на этом самом, пропетом визгливыми пулями, плато.
Кричали конники героической бригады и падали. Людей, не знавших чувства страха, побеждала природа.
Комиссара валило с ног. Лицо до крови было побито ледяным дождем. Белые были близко. Методическая стрельба противника выкашивала кочубеевцев. Белые шли, вооруженные трехлинейными винтовками и пулеметами Виккерса и Гочкиса, одетые в замшевые безрукавки английских офицеров, в теплое белье и добротные заморские шинели. На ногах у них скрипели в мерном шаге великолепные ботинки с альпийскими шипами, не дающие возможности поскользнуться на этом обледенелом кубанском плато.
С ними состязались спешенные кубанские казаки в разбитых сапогах, в истрепанных черкесках, в нагольных овечьих шубах.
Комиссар увидал: еще немного — и дрогнет бригада, еще немного — и будет сломлен фронт, и беспорядочной толпой побегут люди. Что тогда остановит их?
Он позвал ординарца. Конь Абрек — подарок комбрига — рвался из рук, пытаясь умчаться за ветром. Ему тоже невыносимы злая крупа и сквозняки плоскогорья. Комиссар поскакал вдоль фронта, и визг пуль потерялся в свисте метели и карьера.
— Комиссар, невозможно идти!
— Вставай! — заорал Кандыбин, и вид бесстрашного всадника породил бодрость. — Товарищи, смерть или победа! — зовет комиссар.
Из серой метели вырывается Кочубей. С ним Ахмет, Левшаков, Рой, Володька и еще десяток всадников.
— Давай, комиссар! Давай грудь с грудью! — вопит Кочубей и пропадает.
— Смерть или победа!
— У-р-а-а!
Почему все громче и напористее слышно молодое, грозное «ура»? Комиссар поражен.
Ветер изменил направление. Крупа бьет в спину. Бойцы смахивают с лица ледяную корку, на ходу обирают с ресниц и усов сосульки, заряжают винтовки.
Снова мчится Кочубей. С ним партизанская сотня.
— Ломай кадета справа! Бери, комиссар, седьмую!
Конная седьмая сотня точно кует обледенелую землю. Полустанок. Водораздел позади. Вон там дальше впереди, в метели, угадывается Алексеевская. Будто гудит звонкий склон. Противник ведет быструю стрельбу горными пушками. Часто рвутся снаряды, лопаясь, как елочные хлопушки, в этом урагане звуков.
— Вперед! — кричит Кандыбин.
Близко рванул землю снаряд. В лицо ударили гарь и дым. Острой болью зажгло колено. Абрек рухнул. Осколок выдрал коню горловину. Хлынула кровь. Абрек откинул голову. Комиссар, ругаясь, освободил из стремени ногу. Попробовал подняться, упал. «Проклятый ветер!» — пробормотал он, стиснув зубы. Снова напрягся, поднялся рывком и свалился вниз, широко раскинув руки.
Что радость победы, когда погиб комиссар! Наваливались грозные шквалы, выхватывали лучших, заполнялись ряды такими же смелыми и доблестными. Ничто не могло сломить бригаду, но весть, полыхнувшая в этот вьюжный день, ударила болью по сердцам кочубеевцев.
— Товарищи, убит комиссар.
— Седьмая сотня, отрадненцы, убит комиссар на Алексеевской круче!
Кочубей повернул и мчался, припав к жесткой гриве. Ветер бил снова в лицо, и буран прорезался кочубеевским галопом, словно пикой, брошенной сильной рукой. Кочубей подбежал к комиссару, скользя и падая, и, бросившись на колени, приподнял тело своего друга:
— Васька… комиссар… як же так?
В грозное каре строились спешившие со всех сторон бойцы. Противник бежал, а бригада не могла зарываться в тылы.
— Снарядом. Конь убит, — перелетали слова к задним. — Хочет говорить комбриг!..
Кочубей встал и закричал молодо и торжествующе:
— Бригада! Жив комиссар!
То ли буря, то ли крики.
— Тачанку, бурки, докторов! Карьером в Курсавку, — распорядился Кочубей.
Ушла тачанка с комиссаром. Комбриг сунул дуло маузера в ухо еще живого Абрека и пристрелил его. Туго затянул башлык и, повернувшись, увидел плотную стену кочубеевцев.
— Чего нужно сотням? — коротко бросил он. — Шо нужно товариству?
Выдвинулся тогда вперед седой, уважаемый всеми Петро Редкодуб, казак с далекой линии из-под Тихорецка, и сказал от имени всего товариства:
— Мы ценим своих командиров, знаем их храбрость и воинские достоинства. Избрали мы командиров давно и ни в ком почти не ошиблись. Никто не продался кадету, никто не струсил в бою, никто не запятнал изменой или черной корыстью имя красного бойца. Но плохо одно, товарищ командир бригады: что ни бой — роняют острые клинки лучшие из лучших. Под Невинкой — Михайлов, сейчас — комиссар, да и десятки других под Суркулями, Пашинкой, на Кубани, Урупе. Что ж, не верит бойцам комсостав, кидаясь всегда вперед? Что же, не хватит нам, бойцам, своей доблести и силы? Так зачем командиры обижают нас? Требует бригада: руководите нами, не кидайтесь впереди всех. Нас много, а вас, командиров любимых, немного осталось к этой зиме…
Хотел мало сказать седой Редкодуб, а сказал много. Кричал уже надрывно последние упреки он, чтобы переорать бурю. Внимали ему бойцы, и передние передавали слова его другим, и перекатывалась рокочущей волною речь Редкодуба как нерушимая присяга.
Кочубей был растроган. Приблизился к Редкодубу, нагнул его голову, расцеловал. Ничего больше не добавил. Прыгнул на коня, и прозвенела крылатая кочубеевская команда:
— Вдогон за кадетом, хлопцы! Напоим коней в родной Кубани, быть может, в последний раз!
— Вдогон! — пролетело по сотням.
— Напоим коней в родной Кубани!
Сотни развернулись в лаву. Попутный порывистый ветер как будто нес их вперед и вперед. С гребня зарокотали пулеметы. Возле Пелипенко рухнул казак и покатился, гремя винтовкой и шашкой. Сотенный завернул крыло лавы в лощину.
— Сбоку ударим, — решил он, — без хитрости не избежать великих потерь.
Кочубеевцы нырнули в мерзлую падину, промяли бугристые сугробы и вырвались по ледяному склону.
У трехногих пулеметов острели башлыки. Пелипенко увидал, как от пулеметов отлетали черные гильзы, моментально заметаемые снегом.
— Ура! — рявкнул он.
Сотня обрушилась на пулеметчиков, встретивших их, огнем из наганов.
С фланга появился приземистый всадник: это был Рой на своем низкорослом иноходце.
— Выбивайте офицерскую роту из того вон леска, — приказал Рой, сблизившись с Пелипенко и скача с ним рядом. — Никак не сломит их пятая сотня. Гнать до самой Кубани. Приказ комбрига…
Рой пропал. Пелипенко ударил по леску…
…К вечеру по холодной реке поплыли фуражки с кокардами, плыли и офицеры, хрипя и окунаясь. Перерезали течение лошади, ошалело прядая ушами. Мало кто ушел на ту сторону в тот памятный день.
Проваливая кромку прибрежного льда, прыгая от укусов ледяной водоворотной струи, жадно глотали кубанскую воду моренные боем кони кочубеевской конницы.
Кочубей позвал Батышева. Хмурясь и словно стесняясь, грубовато приказал:
— Ты, Батыш, кажись, в курсе Комиссаровых выдумок, якие-то там групповоды, политруки. Может, кого убило. Погляди, поставь другого, подобного на то место… Шоб было то же, як и при Ваське. Не ломай его обычая, товарищ Батыш. Тяжкий путь впереди. Может, кто нюни распустит, цицьку запросит. Хай комиссарцы, для примеру… А посля мне доклад сделаешь.






