Кочубей Аладьин Егор
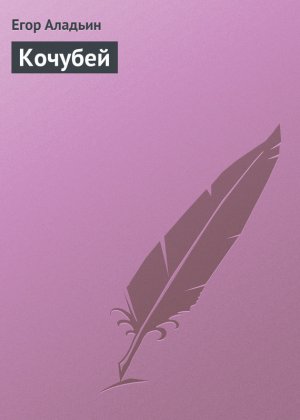
I
Екатеринодар был оставлен. Кочубей уходил к Армавиру, прорываясь к главным силам. Вслед ему, покидая станицы, на быстрых конях стремились казаки.
— Примай, батько, до свово табору, — просили они.
— Добре, хлопцы, добре, — зорко вглядываясь в новых бойцов, говорил батько. — Не пытаю, шо вы за люди и шо вы до цего робыли, бо я не попбатюшка, а просю вас порубить вон тех беляков, шо задерживают нас биля [1] того витряка…
Пели над головами кадетские пули. Кидались в седла хлопцы, на скаку выхватывая узкие кубанские шашки. Клубилась жестокая рубка у ветряка. Очищалась дорога. Кочубей улыбался, надвигая до самых белесых бровей папаху, скакал к месту боя.
— Добре рубались, добре… Накрошили капусты… Надо зачислить до части.
Мелькали по балкам станицы и хутора. Зеленели поля кукурузы и подсолнуха. Местами из диких тернов и зарослей донника взвивалась встревоженная птица: коршуны-шулеки, ястребы. На курганы взлетали всадники головной походной разведки. Приподнимались в стременах, выглядывая путь-дорогу.
Вел отряд осторожный Рой, бывший есаул, а сейчас начальник штаба. Недавно выбился в есаулы за разумную отвагу и сметку. Только год назад у озера Ван поздравил генерал Баратов сотника Роя с высоким казачьим чином. Не было сейчас на плечах его офицерских различий…
— Начальник штаба, может, собьем кадета? Раньше нашего занял станицу, — проверял есаула Кочубей, получив донесение о крупных силах, преградивших путь.
— Успеем еще порубаться вволю, надо обойти по Сухой балке, — советовал Рой.
— Добре! Такая и моя думка, — соглашался Кочубей, и отряд избегал западни.
Пепельной пылью покрывались лица, крупы лошадей и лаковые крылья таврических тачанок. Кони-зверюги несли те тачанки.
Забияка ветер играл красным бархатом отрядного штандарта. Золотые махры горели под солнцем. Переливались шитые кореновскими монашками буквы. Под штандартом — родной брат Кочубея, Игнат. Когда схватывались степные ветры, нарочно разматывал знамя Игнат на всю ширину тяжелых полотнищ. Клонился гнедой Игнатов жеребец, разметанная полоскалася грива, и казалось — ныряла в степных волнах порывистая лодка под бархатным парусом. Да разве одному Игнату было любо и дорого багряное знамя!..
II
Сорокин полулежал на покрытой текинскими коврами тахте. Он был в чесучовом бешмете и мягких кабардинских чувяках. Рядом с ним, в офицерском, наполовину расстегнутом френче, Одарюк — начальник штаба. Возле них — карта-двухверстка. Сорокин свысока бросал грубые отрывистые замечания. Его убеждал ровный голос Одарюка. Постепенно главком все меньше и меньше прерывал своего начальника штаба, а голос Одарюка слышался громче и уверенней.
Главком Сорокин значительно похудел за последние дни. Скулы обострились, пожелтели. Обычно лихо закрученные усы опустились книзу. Главком был не уверен в завтрашнем дне, прежняя слава его потускнела. Больше двух месяцев его преследовали неудачи.
Он зашагал по комнате. Резко поворачивался, бормотал, будто ни к кому не обращаясь, но зная, что его слушает Одарюк, старался и свои неудачи объяснить своим величием:
— …Сорокин отстоял Екатеринодар, Сорокин создал армию, Сорокин не допустил немцев на Кубань, Сорокин сам неоднократно кидался в атаки, и только его боялись враги…
Главком остановился у окна, замолчал.
— Сорокина обвиняют, что он дал отдохнуть и собраться с силами добровольческой армии. Сальские степи родили Деникина, — тихо сказал Одарюк.
Сорокин обернулся, сжал кулаки.
— Что вы этим хотите сказать?
— Наши неудачи — результат излишней боязливости. Боевые действия на Кубани характерны, — убеждающе продолжал Одарюк. — Кто имеет большую территорию , тот сильнее. В гражданской войне армии создаются на местах и снабжаются тоже из местных ресурсов. Деникин оправился от екатеринодарского поражения в Сальских степях, а окреп и раздался вширь, только выйдя оттуда… Щеголеватый адъютант главкома Гриненко доложило прибытии Кондрашева. Сорокин, видимо, обрадовался.
— Пусть заходит, — распорядился он. Кондрашев, быстро войдя, отрапортовал:
— Прибыл с фронта по вашему вызову, товарищ главнокомандующий.
Главком испытующе оглядел его. Коренастый, подтянутый, с небольшими черными усиками на умном энергичном лице, в темной черкеске, оттененной мягким блеском ценного казачьего оружия, — таков был начальник второй партизанской дивизии, пока еще мало известной главкому. Части дивизии организовались самостоятельно в предгорье из шахтеров, железнодорожных рабочих, фронтовиков-солдат и казачества и вошли в одиннадцатую армию с подходом ее в эти районы.
— Садитесь, — предложил Сорокин.
Кондрашев, мельком оглядев тахту, спросил:
— Не замараю, товарищ главнокомандующий?
Сорокин, метнув глазами, сдержанно буркнул:
— Разрешаю… — язвительно скривил губы. — Привыкли в навозе спать — вот и странно.
Кондрашев, ничего не ответив, сел, откинул полы черкески. Армейские юфтовые сапоги его были забрызганы грязью. На спине, лице густо лежала пыль. Сорокин присел возле него.
— Думаем добавить тебе славы, — испытующе глядя на Кондрашева, сказал он.
Кондрашев недовольно сдвинул брови, ожидал. Сорокин, прищурившись, но не спуская глаз, помолчал, потом медленно встал. Кондрашев тоже поднялся, откинув за бедро маузер.
— Шкуро, захватив Невинномысскую, закрутил нам горло. Натянет еще раз и задушит. Сегодня ночью вы должны взять Невинномысскую, — твердо отчеканил Сорокин. — Вам придаются Дербентский , Выселковский , Крестьянский полки, конный Черноморский и… партизанский отряд Кочубея.
— Кочубея?! — удивился Кондрашев. — Слышал об этом командире. Да ведь он крутится в тылах белых.
Главком довольно ухмыльнулся и пальцем подозвал к окну Кондрашева. Во дворе играли в карты конвойцы. В тени амбара спали дюжие казаки, раскинувшись на душистом сене. У коновязей лошади, мучимые жарой и мухами, терлись одна о другую и нервно помахивали хвостами. Недалеко, в направлении станицы Ольгинской, привычно перекатывались звуки орудийной стрельбы.
— Кочубей подходит, — вслушиваясь, сказал Сорокин. — Прорвется, сукин сын, все-таки. Подробно — у Одарюка…
Одарюк взял Кондрашева за локоть.
— Дмитрий Степанович, — ласково сказал он, — выйдемте в штабную комнату, я вам сообщу диспозицию сегодняшней операции.
Сорокин вдогонку крикнул:
— За Невинку — приезжай — угощу коньяком. — Обращаясь к адъютанту Гайченцу, подмигивая, приказал: — Позови Щербину: он нам пока что организует выпивку.
III
Сорокин не ошибался. В знойный полдень, ложно демонстрируя на правом фланге, беспокойный Кочубей прорвал стыки двух офицерских бригад. Когда белые сомкнулись, то внутри хитро задуманного охвата никого не было. Отряд Кочубея, минуя левобережную Ольгинскую, карьером вырвался на высокий берег Кубани. Кочубей бросил в ножны горячий клинок, и фанфары торжествующе прокричали сигналы отбоя и сбора. Огненный ливень с того берега размывал подножие великого Ставропольского плато. Отряд был вне огня. Опаленные боями, измотанные до этого трехсуточным бессонным маршем, бойцы как бы размякли. Сойдя с исхудавших коней и навернув на кулак повод, кочубеевцы раскидались на кулигах зеленого пырея. Соперничая с пионами и тюльпанами, вызрели по степи яркие цветы их башлыков, шаровар и шапок. Мертвым сном спал отряд, кое-где свалились и лошади. Коней мучила жажда, и они не могли есть.
Кочубей был доволен успехом. Дав поспать адъютанту Левшакову не более получаса, растолкал его и грубовато приказал:
— Поедем поглядим, як там раненые да убитые.
Они пробирались между спящими людьми. Кони осторожно ступали копытом, а иногда перепрыгивали через несуразно разметавшегося человека. Левшаков, мучимый озорствм и скукой, замахнулся на одного преградившего им путь казака, но Кочубей сердито остановил его:
— Не замай ты, шпингалет! Ослеп, чи шо? Это ж Пелипенко, взводный с партизанской сотни, добрый рубака.
Пелипенко лежал с распахнутой до пупка рубахой и храпел так, что лошадь его, перестав щипать пырей, обнюхивала его и фыркала.
Кочубей, отъехав и обернувшись, спросил:
— Мабуть, заметил адъютант, гайтан на шее Пелипенко?
— Ладанка? — догадался Левшаков. — Говорят, помогает, если с христовым волосом.
— Во дурень, а ще мой адъютант! — покачал головой Кочубей. — Где ж у Христа столько волосьев? Таких Пелипенко — як голыша в Кубани. То крест у него. Нияк от старого режима не отвыкнет.
Обозники спали на полостях, под возами. Раненые — их было человек пятнадцать — тоже дремали. Некоторые, тяжело раненные, стонали. Их бережно поила теплой водой из кубышки сестра милосердия, красивая девушка-казачка.
Кочубей, сойдя с лошади, шел по рядам повозок, сбивая плетью головки засохших маков.
— Вот тебе и баба, адъютант!
— Баба завсегда крепче мужика, товарищ Кочубей, — убежденно сказал Левшаков, пытаясь идти в ногу. Левшаков семенил, путал шаг и смущался неуменьем на ходу переменять ногу. Чуб его был мокр, щеки покрыты пылью, лицо обветренно и шелушилось. Нос облупился, и с него сходила уже, как говорят казаки, третья шкура.
— Это ты верно говоришь, — ухмыльнулся Кочубей. Посерьезнел. Повернувшись, быстро заговорил, не глядя на Левшакова: — Милосердие баба больше понимает, вот шо, дорогой мой адъютант. Тебе человек як блоха, а ей все як сын. Вот хлебороб! Кинет он хлеб в навоз? Нет. А горожанин кинет. Бо он не знает, кто и как тот хлеб рожает.
Заметив командира отряда, сестра милосердия оправила волосы под платком и облизнула яркие губы. Кочубей, подойдя, подал руку.
— Молодец! Оце милосердие. Як кличуть-то тебя?
— Наталья.
— А где убитые, Наталья?
— Там, — она указала в сторону тачанок.
Уходя, Кочубей спросил:
— А боевое дело як?
— Тоже могу, товарищ Кочубей, — задорно ответила женщина.
— О! — удивился Кочубей. — Вот так загвоздила. Шо ж ты можешь? С пушки аль с пулемета?
— Нет, — застеснялась она, — я как придется…
— Добре, добре, — похвалил Кочубей, — поглядим, яка ты до кадета милосердная…
Убитых было трое: два казака и третий иногородний, неизвестно откуда взявшийся в отряде. За робкий нрав и безответность его посчитали придурковатым и из оружия ему доверяли только старую драгунскую шашку, да и то без ножен. Этой шашкой он во время утреннего прорыва, когда напали на него сразу трое, зарубил двух пеших юнкеров. Третий же, стащив его с седла, заколол штыком. Трупы лежали прикрытые тонким рядном. На рядне проступила кровь. Серыми густыми пятнами сидели мухи. Кочубей, гневно согнав мух плетью, приподнял край брезента. Покачал укоризненно головой. Скрипнул зубами. Сердито растолкав дремавшего у трупов дневального, пошел обратно.
— Бережу, бережу бойцов, а все убивают, — тихо бормотал он. — Яку б такую на людей бронированную силу одягнуть [2], шоб пуля не взяла?
Уже спускаясь с пригорка и проезжая сухой глинистой падиной, он снова прервал тягостное для жизнерадостного Левшакова молчание:
— Во, адъютант. Видел ты? Убиты трое: два казака и городовик. Слухай сюда, Левшаков. Да эка ж меж ними разница? Все люди, трудящие люди, все под ярмом холки понатирали, дай боже… Казаки с Новой Рождественки, я знал их, были они соседи, с одного кварталу. Спрягались для пахоты по паре коней. Землю им удружили далеко, верстов за двенадцать от станицы, на бугре. Никогда у них, у супрягачей, не родило. Все зерно ветры выдували. А зимой — до богача в работники. Пришли в отряд до меня, под Выселками. Кони, як зайцы, у них были: одни ухи, а вместо седел — подушки… Потом справились. — Кочубей сплюнул и тряхнул головой. — Второй казак зря сгиб. Выручать дружка кинулся, сопли и поводья распустил, а кобыла споткнулась. Тут его и взнуздали.
Дурень…
IV
Противник вел перестрелку с батареями Кротова. Кротова окрестили заклепщиком: метким огнем он заклепывал орудия противника. Кротов был начальником кондрашёвской артиллерии. Сегодня, искусно передвигая орудия, вводил в заблуждение белых. Снарядов не хватало, и Кротов бил только по верным целям. В станице кое-где горели дома. Сероватый дым, пригнанный ветром до Кубани, клубился с того берега предрассветным утренним туманом. Мосты через Кубань — один железнодорожный, второй гужевой — были укреплены.
Внимательно шаря биноклем, Рой определил плотные проволочные заграждения, опускавшиеся крыльями в воду, и значительное оживление у мостов.
— Основной удар надо делать по мостам, — сказал Рой, опуская бинокль. — Через реку трудно. Кубань тут здорово крутится. А на бродах кадеты нагнездили пулеметов. Дурная курятина, товарищ Кочубей.
Кочубей выискивал места, уязвимые для прорыва. Чтобы было видней, он стал на седло, и ветер трепал его яркий башлык. Спрыгнув с седла, Кочубей враскачку подошел к начальнику штаба.
— Почитай еще раз приказ, начальник штаба.
Рой, пошарив в полевой сумке, вынул приказ, прочел:
«Товарищу Кочубею
Главком приказал взять сегодня ночью Невинномысскую и уничтожить части белых. Вашему отряду в районе хутора Усть-Невинского переправиться, совместно с Отрадо-Горным пехотным полком, через Кубань. У Невинномысских высот сосредоточиться к 3 часам 30 минутам. Ударить на станицу с юго-восточной стороны. Левый фланг охвата обеспечивается Черноморским кавполком. Фронтальный удар наношу я, условный сигнал — орудийный выстрел с высоты 216.
Помощник командующего войсками фронта
Кондрашев».
— Стой. Всего ты б мне и не читал, — скривился Кочубей, — читай главное.
Рой откашлялся.
— «Ваня. Я тебя еще не видал, но слыхал много. Сильно на тебя надеюсь и на твоих казаков.
Дмитрий».
Кочубей передернулся, на лице забегали мускулы, нахмурился, потом улыбнулся, взял бумажку и, далеко отставив от себя и ткнув пальцем, важно спросил:
— Где тут написано «Ваня»?
— Вот, — указал Рой.
— А «Митрий»?
— Вот.
— Добре. Начальник штаба, Невинку треба взять, — твердо сказал Кочубей. — Хлопцам вели потуже очкуры [3] подтянуть да шашки погострить о голыши.
Когда Рой повернулся, Кочубей остановил его и медленно, будто высказывая только сейчас пришедшее решение, приказал:
— Людей и коней накормить. Як потемнеет, спустить отряд вот туда, — он указал на мельницу Баранова и шерстомойку.
Далекая, вытянутая по Кубани левада была пустынна. Двухэтажный дом мельника можно было определить только по рыжему пятну крыши: видно, окружили дом немалые поля и акации.
Левада находилась под действием прямого огня противника. Кочубей понимал сложность задачи.
— Як ты кумекаешь, начальник штаба?
Рой, передернув плечами, поднял бинокль. Несколько минут длилось молчание. Наметанный глаз есаула вновь обследовал опасные подходные пути и удобные для конницы места сосредоточения. Мелкая лощинка, пожалуй, поможет провести спешенные сотни. Он опустил бинокль и утвердил решение Кочубея:
— Рискнем. По мостам ударить только с левады. А для пехоты пробег большой. Только нужно незаметно.
— То твое дело. Стремена подвязать, на копыта-тряпки. Хлопцев предупреди: за цигарки и разговоры — плетюганов… — Внезапно оборвав речь, схватил Роя за руку: — Глянь, глянь, як Кондрашев подтягивает брюхолазов!
— Тактически правильное решение задачи, — похвалил Рой, оценивая местность, — принцип внезапности. Туманы тут бывают по утрам. Неожиданная атака. Когда мало снарядов — это, пожалуй, единственный выход.
Кочубей не скрывал восхищения:
— Вот тебе и пехота! Як ужи!
Незаметно для противника, почти не отрываясь от земли, переползали открытые места пехотинцы. Пехота накапливалась к небольшому хутору Рождественскому. Бесшумно ползли разношерстные бойцы второй партизанской дивизии Кондрашева, Дербентского и Выселковского полков: ползли казаки, не сумевшие еще добыть себе коней, — завтрашние бесстрашные кавалеристы; ползли иногородние: бондари, плотники, сапожники, овчинники; ползли старые солдаты в обмотках и выцветших гимнастерках, с винтовками, пронесенными через фронты, и невинномысская мастеровщина из депо и железнодорожных мастерских; лезли шахтеры хумаринских копей и рядом с ними рудокопы серебро-свинцового рудника, вон из-под того Эльбруса, сейчас только чуть угадываемого за дымами пожарищ и пылью, поднятой ветром с широкого Недреманного плоскогорья.
Кочубей долго наблюдал за этим гибким человеческим потоком. Потом тихо распорядился:
— Иди, начальник штаба, да кликни ко мне Володьку. Он опустился на землю, а поодаль, не спуская с него глаз, на корточках сидели его верные телохранители — черкесы.
Впереди всех Ахмет Муртузуев. Косые лучи заходящего солнца играли его золотым оружием. Не уважают адыгейцы чеканной оправы. Белой слоновой костью испокон веков украшали мастера племени Адыге клинки, кинжалы и пояса своих джигитов. Но пришел отец Ахмета, потомок известных абреков, в Адыгею как переселенец отсюда, из предгорной Черкесии, где любят чеканку золотую и серебряную с чернью. Принес свои вкусы и обычаи в адыгейский аул. Поэтому веселится солнце, перебирая лучами своими золотую орнаментовку.
Тихо пели черкесы, в такт покачиваясь гибкими телами. Подпевал им и начальник их — знаменитый джигит Иван Кочубей.
Прибежал вызванный Кочубеем Володька — любимец Кочубея, воспитанный отрядом мальчишка, неизвестного роду и племени, партизанский сын, как звали его в отряде.
— Я тут, батько, — вытянулся Володька. Быстрые, угольные глаза его были лукавы.
— Гони в штаб к Кондрашеву и передай ему…
— Пакет? — быстро и обрадованно перебил Володька, большой любитель скакать сломя голову с важными донесениями.
— Во дурень! Шо я, чернильная душа, чи шо? — шутливо шлепнув его плетью, сказал Кочубей. — Надо передать ему три слова… — Кочубей подумал, выискивая наиболее веские и убедительные слова. Володька ожидал, наклонив корпус вперед. — Передай Кондрашеву: Невинна завтра будет наша!.. Во! — приказал Кочубей.
Володька рванулся вперед, но потом остановился, повернулся к Кочубею, сморщил лоб, развел руками.
— Чего ж ты, пень? — озлился Кочубей.
— Невинна завтра будет наша, — повторил вслух и будто недоумевая Володька. — Выходит, четыре слова, а сказали — три слова передать.
— Тю тебе, во грец! — воскликнул пораженный Кочубей. — Ишь, який грамотюка. Передай так: Невинка будет наша! Да останься у Кондраша для связи.
И когда в низкорослом дубняке исчез гонец, Кочубей, упершись в бока кулаками, покачал головой:
— Ученый шпингалет! Уже батьку учит. Давно в Батайске с буфера сняли?.. А верно!.. Не только завтра будет нашей Невинка… Завсегда, навек!..
V
Ночью бригада выступила к мельнице Баранова. Не звякнув ни стременем, ни котелком, кочубеевцы спустились по балке и сосредоточились на берегу Кубани. Кочубей, оставив заместителем Михайлова, выехал к Рождественскому хутору в рекогносцировку, прихватив с собой Роя, Левшакова и Ахмета. Они двигались в густой южной темноте, и кони, мягко ступая копытами, непривычно обвязанными тряпками, передвигались и похрапывали.
— Надо поглядеть, начальник штаба, шо и як… пехота же, — тихо делился своими сомнениями Кочубей, приникнув к уху Роя. — Митро думает, шо я всю бригаду пошлю вплавь… Может, нема расчета вьюки в речке полоскать, может, помогнем невзначай Митьке. Проскочим в Невинку по мостам?
Оставив Ахмета с лошадьми у околицы, они пошли в хутор. У хат, заборов, канав — повсюду лежали люди. Близко бежала Кубань, и с вражеского берега слышались голоса и тихое пение. Изредка оттуда постреливали по хутору, — очевидно, белые не догадывались об операции.
— Во це гарно, дуже гарно сгарбузовались, — шептал Кочубей, всегда умевший ценить подлинное военное искусство.
Поймав слухом приглушенный, тихий говор у реки, они крадучись подошли к группе лежащих людей. Поднялись штыки. Кочубей отпрянул:
— Тю, нечистая сила, своего чуть не запороли, як кабана.
— Пропуск? — спросил один.
— Да я — Ваня Кочубей!
— Пропуск? — раздельно повторил тот же голос.
— Начальник штаба, скажи им пропуск, я шось запамятовал, як там…
— Мундир.
Штыки опустились. Человек в мохнатой папахе, спросивший пароль, шепнул на ухо Рою отзыв:
— Москва, — и добавил, не оборачиваясь: — Ложитесь!
Невдалеке еле слышно стонал человек.
— Шо с им? — спросил Кочубей.
— Высунулся, ранило, — отвечал человек в папахе.
— Пулька дура: высунулся — и чик его, — скороговоркой произнес лежавший рядом; у него был тонкий, даже пискливый голос.
— В бедро ранило, — добавил третий, в черкеске.
— Перевязку-то сделали? — забеспокоился Кочубей.
— Да. Старцев перевязал, как умел, — ответил человек в папахе. — Ему больно оттого, что кричать нельзя. Будь ему свободней, он бы всю боль криком выгнал.
— Надо сестру с моего госпиталя. Добра есть у меня милосердная сестра.
— Как хвалиться, лучше позвал бы.
— Надо — позову.
— Ну как же не надо, — заметил тот, что был без шапки: до утра кой-кого еще подденет…
Кочубей приказал:
— Адъютант, за сестрой!
В темноте скрылся Левшаков, самый преданный и самый, по внешнему виду, невзрачный адъютант, которого знала история. Он с гордостью именовал себя адъютантом, но никогда не интересовался внешними отличиями этого чина. Однажды ему предложили аксельбанты, снятые с убитого офицера. Аксельбанты Левшакова обидели, и он приспособил их на репицу своего боевого коня.
Кочубей, отослав Левшакова, полюбопытствовал:
— А кто ж вы будете: рядовые брюхолазы або начальство?
— Можно и познакомиться, — просто сказал человек в папахе. — Кандыбин — помощник комиссара фронта.
— Старцев — военный руководитель, да и комиссар тоже, — представился человек в черкеске.
— А он тоже комиссар? — неприязненно, ткнув пальцем в третьего, с тонким голоском, спросил Кочубей.
— Нет, это Птаха — командир кавалерии у Кондрашева. Наездник, — ответил Кандыбин и передвинулся ближе к плетню , так как ему показалось, что с той стороны плеснули весла.
— Эге, — покрутил головой Кочубей, — этот для меня понятный, вот этот самый Птаха, а вот як комиссары в самый переплет влипли, га?
Кандыбин сдержанно засмеялся.
— Потому что комиссары, больше не почему.
Вскоре прибыла сестра. Вынырнув из темноты вслед за Левшаковым, она деловито спросила:
— Где раненый?
Раненый подполз. Наталья начала возиться около него, тихонечко покрикивая:
— Ну, ну, не скули. Переворачивайся же! Ну и колода! Пустяковая рана. Тише скули, а то кадет подслухает. Ну и мужики дохлые пошли.
Пехотинец был ранен в бедро, потерял много крови. Рана была серьезная. Боец поворачивался с трудом.
— Эй, вы, — позвала Наталья, — помогите! Замучилась.
Провожаемый шутками товарищей, на помощь подполз боец.
— Ничего не вижу. Куда тащить?
— Не знаешь куда? Первый раз? — прикрикнула на него сестра.
Раненый вскоре притих и лежал, будто перерезанный надвое белым бинтом перевязки. Наталья, развернув узел, принесенный с собой, наливала в кружку молока. Во фляге булькало, и помогавший Наталье боец, почуяв, что у нее имеется кое-что перекусить, потянулся к узлу. Наталья ударила его по спине.
— Прими руки. Это раненым.
— Да, может, я сейчас буду раненый, — отшучивался солдат.
— Таких пуля за три версты облетает.
Начальник штаба, оставив Кочубея разговаривать с новыми знакомыми, присел возле Натальи. Она была в кофте из легкого ситца.
— Легко одеты, ночь довольно холодная, — заметил Рой, притрагиваясь к ее полной руке.
— Ладно уже, заботливый, — отрезала Наталья.
Рой этого не ожидал. Он сам не заметил, как прикоснулся к ее руке. Ему было неприятно, что эта белокурая красивая девушка, которой он часто любовался издали, истолковала его жест ложно.
— Да нет же, вы меня не так поняли, — пробовал он оправдаться.
— Куда уж мне понять… Ладно, уходи. Пристала к вам, жалею… Липнете все, как мухи… Тошно!
— Вы останетесь здесь, в хуторе, — решив уйти, сказал Рой. — После взятия станицы — на прежнее место. Вероятно, на правый берег переведем санитарную часть не раньше завтрашнего вечера.
На обратном пути Кочубей нервничал:
— Надо поспешить. Проваландаешься тут, и, может, так дело повернется, шо комиссары Невинку заберут, а Кочубей будет у кобыл хвосты обкусывать.
И категорически распорядился:
— Оставь, начальник штаба, в леваде особую партизанскую сотню, а всех остальных — по Митькиному приказу. Надо, мабуть, на переправу послать с отрядом Михайлова и того белявого, шо Кондраш прислал вечером. Як его?..
— Батышев?
— Вот, во, Батыша. Он, кажись, добрый рубака, сердитый с виду и при всей форме…
В полночь Михайлов увел большую часть отряда.
VI
Кочубеевский гонец Володька, ласково принятый Кондрашевым, был накормлен и оставлен связным при штабе. Сюда являлось множество командиров. Одни из них были похожи на блестящий комсостав Кочубея и радовали сердце Володьки напускной грубостью и богатством оружия, другие же казались серыми и обыкновенными.
Володька сидел у ворот на дубовой корчаге. Ворота были сняты с петель и стояли поодаль, у забора. То и дело к штабу подлетали верховые, соскальзывали с седел и, торопливо привязав коней, бежали в дом. Во дворе дежурили ординарцы — черкесы. Они стояли у подседланных коней, красивые и затянутые в черкески; если и говорили, то все вместе, а если молчали, то тоже одновременно и долго.
— Связного Кочубея, — зычно крикнули из окна, — до комиссара Струмилина!
Володька, оправив парабеллум и отряхнув синие, касторового сукна, шаровары, медленно пошел к дому. Он здесь представлял отряд непревзойденного, по его мнению, командира Кочубея, и поэтому следовало держаться солидно.
— От Кочубея? — спросил вошедшего в комнату Володьку улыбающийся белокурый человек в солдатской гимнастерке.
— Да, — важно ответил Володька.
— Вот что, парень. В вашем отряде есть коммунисты?
Володька, прежде чем ответить, оглядел присутствующих: запыленные люди, по виду из железнодорожных рабочих, знакомых ему по прежней беспризорщине. Люди, очевидно, прибыли с фронта.
— Нет коммунистов в отряде, — гордо ответил Володька.
— Я ж говорил тебе, Саша, нет большевиков у Кочубея, — развел руками Павел Ковров, боевой друг комиссара, старый товарищ по рудничному забою.
Володька вспыхнул.
— Врешь ты! Коммунистов нет — это да, а большевики есть.
— Кто же? — насторожился обрадованный Струмилин.






