Безмятежные годы (сборник) Новицкая Вера
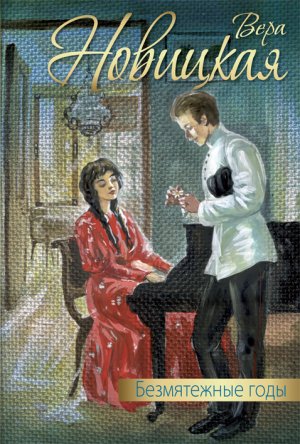
В.С. Новицкая
Безмятежные годы.
Глава I
Старые друзья. - Новые впечатления.
Наконец, наконец-то я снова увидела все эти веселые, дорогие мордашки, всякий милый памятный закоулочек! Шутка сказать: четыре года, целых четыре длинных-предлинных года прошло со дня моего отъезда отсюда, а, между тем, все время так и тянуло меня обратно, точно кусочек себя самой я здесь позабыла; едва дождалась. A папа еще: «Погодите, вместе поедем, квартиру сперва устроим». Как бы не так! Небось, когда из Петербурга надо было уезжать, в пять дней нас встряхнули, a как обратно - «Подождите!» Нет, папусенька, уж это «ах оставьте!»
Еще в Луге нарядилась я в шляпу и жакетку, как ни убеждала меня мамочка, что рано. Знаю, что рано, в том-то вся и беда, потому-то и хочется обмануть себя, сократить время: когда одет, кажется, что вот-вот и подъезжаешь. A как стали мы приближаться к платформе, как вкатил поезд, громыхая, под темные станционные своды, сердце мое шибко-шибко забилось, и внутри точно радостно что-то запрыгало.
Сели на извозчика. Хотя в той части города улицы и малознакомые, но, все равно, одно сознание, что это опять наше, петербургское, что каждая конка, карета, лавка будто немножко и мои: захочу, сяду и поеду, захочу зайду, куплю что-нибудь, - что сама я тоже здешняя, не чужая, не случайно пришлая, одно это приводит меня в восторг. Глупо может быть, но на душе светло так, радостно, весело!..
В восемь часов мы приехали, a в одиннадцать я уже умолила мамочку отвести меня в тот же день в гимназию. Ждать еще сутки, целых двадцать четыре часа! Нет, это никакого человеческого терпения не может хватить!.. И добрая мамуся, невзирая на страшную головную боль, повела-таки меня.
Не знаю, как не выскочило или не лопнуло y меня сердце, так громко тукало оно, когда мы слезали с дрожек y подъезда гимназии. Вдруг там внутри что-нибудь изменилось? Вдруг все перекрасили, переделали?.. И так страшно, так жалко и даже больно подумать об этом.
Беремся за ручку двери, и сразу мне делается бесконечно весело: их распахивает Андрей, тот самый толстый Андрей, которого когда-то призывала Евгения Васильевна на борьбу с черными тараканами-чудовищами (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора). Он, конечно, не узнает меня, но это все равно, я сама рада видеть снова его знакомую, круглую физиономию. Гляжу кругом. Все на старых местах: и стол, и ящик с уроками для отсутствующих, и вешалки.
Идем в канцелярию. Мамуся тщетно вопит: «Тише!» - я лечу стрелой. Почти y самой двери стоит начальница. Платье на ней такое же васильковое, лицо такое же восковое; впрочем, есть в ней и перемена: прежде она произносила только одну-единственную фразу: « Mesdames, не переплетайтесь». Но за это время она, очевидно, сделала громадные успехи: теперь, оказывается, она и другие слова говорит, очень живо и любезно протягивая мамочке руку.
Но приветливой, улыбающейся физиономии милого Сергея Владимировича не видать. (См. «Веселые будни. Из воспоминаний гимназистки» того же автора) Хоть и знаю я, что теперь другой инспектор, но без него кажется как-то неуютно и пусто. Теперь на его обычном месте стоит маленький, совсем круглый господин, в круглых же, толстых очках через которые смотрят круглые, выпуклые карие глаза пристально так смотрят; хорошие глаза, честные, перед которыми не солжешь. Голова y него точно арбузик посредине порядочная лысинка, a кругом густая бахромка из седоватых кудряшек. Лапки коротенькие, и держит он их, вывернув немного ладони назад - ни дать, ни взять, самоварчик с ручками. Разговаривает он с какой-то незнакомой мне классной дамой, скоро-скоро говорит, a сам так весь и двигается, - шустренький, видно.
Я и здесь живо оглядываюсь. Все, все на своём месте, даже малюсенькое, совсем гладенькое рыжее платьице болтается все на том же крючке: это модель того фасона, который полагается носить, но которого ни одна ученица не носит, потому уж больно оно облизанное и некрасивое.
Синяя девица собирается уходить, но еще роется в шкафу; начальница подзывает самоварчик, которого величает Андреем Карловичем, и объясняет ему, откуда я взялась.
- Отлично, очень «арашо», - говорит он. - Сейчас вас и в класс сведем… Будьте добры, попросите сюда классную даму второй Б, - говорит он «синявке», которая кончила шарить на полках. - Впрочем, я сам…
Едва успела я оглянуться, как он, кивнув мамочке, шариком покатился вверх по лестнице. Я за ним. A сверху навстречу грядет наш лилипутик - Шарлотта Карловна. (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора) Увидала я ее, и отчего-то мне опять так весело-весело сделалось.
- Здравствуйте, Шарлотта Карловна! - громко так, раскатисто, чуть не на всю гимназию, возгласила я.
Она сперва прищурилась, потом с удивлением заглянула мне близко-близко в лицо (еще бы не удивиться, ведь ее, бедную, не избаловали такими бурными приветствиями!), кивнула и пошла дальше, все по-прежнему размахивая своими бесконечными руками.
Входим в средний коридор. Дверь крайнего класса открывается, на её пороге я вижу высокую стройную фигуру.
- Юлия Григорьевна! - громко, радостно восклицаю я и, забыв про своего спутника, про то, что я, до некоторой степени, нарушаю общественную тишину, бросаюсь к своей любимице с протянутыми руками.
Она пристально смотрит на меня.
- Да ведь это же наш «тараканчик»! - узнает она наконец. - Какими судьбами? Ну, здравствуйте! - и сама протягивает мне руки. Я крепко, крепко обнимаю ее, a в горле y меня что-то сжимается.
- A Андрей-то Карлович ждет вас, - через минуту говорит она, - идите скорей, еще увидимся.
Правда… Вот скандал! Я про него и забыла. Он ничего, смотрит серьезно, не улыбается, но глаза добрые, умные, хорошие глаза.
- Что, рады старых знакомых видеть? - спрашивает,
- Уж так рада, так рада!
- Вижу, вижу! Ну, входите!
Сердце мое опять радостно стучит. Вот сейчас удастся тот сюрприз, который я готовила всем своим неожиданным появлением.
Мой путеводитель вкатывается в класс, я за ним.
Но что это? Вместо смеющихся вишневых глаз и коротенькой носюли милой «Женюрочки» (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора) навстречу нам поднимается плоская добродушная физиономия на довольно высоком, чуть-чуть кривобоком туловище. Сердце y меня так и упало, впрочем, на одну лишь минуту, потому что кругом со всех сторон зажужжали:
- Муся!
- Старобельская!
- Стригунчик! - вдруг раскатисто так, на весь класс пронеслось хорошо знакомое мне восклицание, которое, нет сомнения, по силе и мощи только от Шурки Тишаловой и могло исходить.
Я верчусь во все стороны, физиономия моя радостно расплывается, но я еще никого не различаю: кругом меня все какие-то длинные, большие девицы, с прическами, бантами, коками. За учительским столиком высокая фигура в вицмундире с немолодым плутовато-милым лицом, с целой шапкой коротеньких, войлочного цвета и сорта, вьющихся волос.
- Qui est donc cette petite demoiselle dont on manifeste si joyeusement l'arrivИe? (Кто же эта маленькая барышня, приход которой вызывает такие радостные манифестации?) - осведомляется он.
Какая-то пушистая каштановая головка, с закрученной на затылке толстой косой, приподнимается и что-то объясняет ему.
Да ведь это же Люба, моя милая «японочка»!
- C'est qu'on n'est pas fБchИ de la revoir, cette petite demoiselle! (Как будто не очень недовольны видеть ее, эту маленькую барышню!) - опять говорит француз.
Меня сажают на ближайшую пустую скамейку, a Андрей Карлович, пошептавшись с классной дамой, выкатывается из класса, быстро-быстро кивая всем своим арбузиком.
Француз вызывает учениц переводить новый урок, a я тем временем рассматриваю все улыбающиеся, повернувшиеся в мою сторону лица. Вот сверкают издали белые зубы Шурки, и мордашка её, все такая же татарская, все такая же веселая, улыбается мне. Вот золотисто-блондинистая головка с недлинными, до плеч, локонами и розовое, точно крымское яблочко, чуть-чуть блестящее личико моего милого «Полуштофика» (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора); и теперь, она еще, пожалуй, за целый не сойдет. Вот… Но француз прерывает мои дальнейшие открытия.
- Mais c'est une petite rИvolutionnaire que cette petite demoisellelЮ! VoilЮ qu'une anarchie complХte s'installe dans mon auditoire, onme veut plus ni me voir, ni m'Иntendre. Voyons, mademoiselle… mademoiselle… (Да ведь это настоящая революционерка, эта маленькая девица. Полная анархия воцаряется в моей аудитории, не хотят больше ни видеть, ни слышать меня. Пожалуйста, мадемуазель, мадемуазель…)
- Starobelsky - подсказывает кто-то.
- Eh bien, mademoiselle Starobelsky, voulez-vous bien avoir la bontИ de traduire ce petit morceau-lЮ, au moins on pourra lИgitimement vous regarder et vous Иcouter. (Так вот, мадемуазель Старобельская, не будете ли вы так добры перевести этот кусочек, по крайней мере, тогда можно будет на законном основании смотреть на вас и слушать вас) - и лицо его лукаво и добродушно улыбается.
Я перевожу ему про какую-то девицу, которая что-то вспоминала и разбирала сушеные цветы.
- TrХs bien, mademoiselle. VoilЮ encore un petit astre qui s'ИlХve Ю notre horizon. J'approuve parfaitement la joie de vos amies. (Прекрасно. Вот еще маленькая звездочка восходит на нашем горизонте. Вполне сочувствую радости ваших подруг). - Я немножко краснею; мне приятна его похвала, но еще приятнее услышать благодетельный звонок, благодаря которому я сейчас, сию минутку, смогу обнять и расцеловать все эти милые, приветливые, любимые мордашки.
На перемене мы только это и делали, впрочем, еще ахали, охали, удивлялись происшедшей перемене, особенно я, потому что все они до неприличия повырастали. Опять я оказалась в классе самой маленькой. Многих не досчитываюсь, но тех не жалко, a мои любимицы, вся наша милая, теплая компания, все налицо.
За следующим уроком состоялась моя встреча с нашим добрым батюшкой. Едва успел он войти, как взор его невольно упал на первую скамейку, куда уже гостеприимно приютили меня. Сел, повернулся в мою сторону и смотрит, пристально так глядит.
- Что-то девица эта мне больно знакомой кажется, - говорит он.
Я встаю.
- Да неужели же, батюшка, вы меня не узнаете? - спрашиваю.
Опять смотрит.
- Как не узнаю, то есть даже совсем узнал. Ведь это наша чернокудрая Мусенька. A выросла, много выросла, только все же еще «малым золотником» осталась. (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора.) Ну, какими же судьбами к нам вас обратно занесло?
Я объясняю.
- Это хорошо, хорошо. Ну, a что, батюшка-то того, совсем гриб старый сделался, а?
Все конечно хохочут, не отстаю и я.
- Нет, батюшка, какой вы гриб, вы совсем, совсем молодой и даже очень мало изменились, - протестую я, - только вот похудели и, точно… Вы тоже, как будто, немножко подросли..
- Старобельская! - вдруг раздается за моей спиной исполненный гнева и негодования голос : - Старобельская!
Я невольно оборачиваюсь. Вся добродушная физиономия пашей классной дамы обратилась в одно сплошное красное-прекрасное негодование. Ловко, нечего сказать, не пробыла и двух часов в гимназии, как уже удостоилась лестного замечания! Cela promet! (Это обещает!). Впрочем, ведь я за свои вольные речи не раз претерпевала.
Всю следующую перемену, вплоть до начала урока, девицы мои наперебой сыпали мне, как из мешка, новости; особенно старались Шура и Полуштофик, так рекой и разливаются; вдруг… - что за штука? - y обеих точно что поперек горла стало, запнулись и начинают взапуски краснеть. Ничего не понимаю. Оглядываюсь - вокруг меня тридцать мухоморов: щеки, уши, чуть не волосы, все краснеет в ту минуту, как в дверях появляется высокий, худощавый, стройный шатен - русская словесность. Он вежливо кланяется и садится. Мало-помалу все щеки и уши принимают почти нормальный цвет.
- Попрошу госпожу Сахарову быть любезной ответить новый урок.
Ланиты Сахаровой вторично вспыхивают. Она подходит к столу, бессвязно и захлебываясь лепечет что-то несуразное. Я смотрю на учителя и злюсь. Вот противная мумия. Лицо точно каменное; большие голубые, холодные глаза равнодушно, чуть-чуть презрительно смотрят перед собой, точно скользя над головами; кажется, что он глядит и никого не видит, не удостаивает замечать. Гадость! Ответ Сахаровой он лишь изредка перебивает словами: «Неужели? Вот как!» - Правда, плетет она вздор, но это не значит, что ему следует издеваться над ней: ставь шестерку и успокойся. Впрочем, он так и делает.
- Благодарю вас, - легким поклоном отпускает он ее. В журнале красуется изящное шесть.
Ах! противный! Еще смеет благодарить! Ну, уж с кем-кем, но с этим милейшим господином мы наверно будем врагами.
Но пусть, пусть будет, что будет, a пока я так рада, так бесконечно счастлива, что я опять здесь, в Петербурге, в нашей милой родной гимназии. Еще и суток нет, как мы приехали, a уже сколько радости, сколько чудных впечатлений, a впереди еще больше, еще так много-много хорошего, светлого.
Спать, скорее спать! Голова болит, глаза слипаются…
Глава II
«Клепка» - «Карточка» - «Желток без сердца и души» - «Евгений Барбаросса»
Вот мы, наконец, в полном составе, приехал последний транспорт: папа, кухарка и Ральф (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора). Теперь все «уместях», как говорит эта самая кухарка Аделя.
Мой ушастик, верный своей всегдашней любознательности, помчался осматривать и обчихивать всю квартиру и после самого тщательного исследования, видимо, помещением остался доволен. Не миновав ни одного окна, он перебывал на всех подоконниках, с необычайной серьезностью заглядывая вниз на улицу, будто желая отдать себе отчет о высоте нашего помещения. Пожалуй, это могло бы навести на мысль о его желании решиться на самоубийство через выбрасывание из третьего этажа, но все последующее его настроение доказало, что он далек от такого мрачного решения. Хотя он теперь уже не маленький, a особа средних лет, но нрава все такого же веселого, и живем мы с ним по-прежнему душа в душу.
На следующий же день после своего приезда начали мы с мамусей колесить по всем родным и знакомым. Всюду сюрпризы, всюду ахи, охи удивления.
Все Снежины (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора) (само собой, кроме monsieur и madame) возмутительно повырастали, a Саша имел нахальство перегнать меня чуть не на полголовы. Кроме того изменился и весь его внешний вид, благодаря кадетскому мундиру. Люба смотрит барышней, но все же японочкой; премиленькая, полная, стройная и грациозная. Все это я приблизительно могла бы еще представить себе, но y тети Лидуши…
Звоним. Входим. Крепко-крепко целуемся. Вдруг, что-то, незаметно вкатившееся, дергает меня за юбку. Смотрю, очаровательный пузырь, с гладкими, светло-каштановыми волосенками, с чудными серыми, серьезными глазищами, розовый, толстенький.
- Маму Мусю посмотреть хочу.
- Ах ты, мое золото! - Пока я его целую и обнимаю раз пятьсот, он пристально-пристально, не спуская глаз, смотрит на меня и вдруг довольно бесцеремонно тычет меня пальцем в лоб.
- У тебя черная заря, a y Тани белая, - глубокомысленно заявляет он.
- Какая такая заря?
- A вот как y Боженек на картинках…
Но в это время я вижу стоящую в дверях, держась за нянину руку, каплюшку Таню и сразу понимаю, о какой заре говорил Сережа. Её чудная ясная мордашка со всех сторон, как сиянием, окружена светлыми, почти льняными, пышными локончиками, ореолом стоящими кругом белого лобика; несколько непослушных кудряшек спустилось и на него, a из-под них смотрят такие святые, совсем ангельские глазки. Боже! Какие душки! Это просто куклы, a не дети!
Я ахала над ними, a тетя и Леонид Георгиевич ахали над тем, как выросла я, и уверяли, будто я ужасно стала похожа на мамочку. Дай-то Бог, да только где нам!.. Где мне с моей курносой носюлей равняться с точно выточенным профилем мамуси!
Прежде я удивлялась: какое удовольствие можно находить при раскопках всякого древнего мусора, но теперь, кажется, поняла. То есть относительно мусора остаюсь при прежнем мнении, a вот относительно раскопок и находок. Право, нечто подобное переживала я первое время по возвращении сюда: вдруг откуда-то из-под спуда вынырнет совсем забытое лицо, какое-нибудь веселое-превеселое воспоминание, и так станет приятно, точно и, правда, клад нашла. Но не одни раскопки, новое здесь все тоже очень интересно.
Со всем и со всеми-то я перезнакомилась, ну и меня теперь знают, только, добросовестность требует признаться, что - увы! - не все с хорошей стороны. Меня даже почти сразу успели причислить к разряду отпетых. Этот строгий, беспощадный приговор изрекла надо мной наша классная дама, преподобная Клеопатра Михайловна или просто «Клепка» - как все называют ее. Драгоценный экземпляр, если не по древности, то по редкости. Ходят упорные слухи, что она воспитывалась в Петербурге в институте, по-моему, - на луне, только там. Если еще с грехом пополам можно допустить первое, то второе!.. Скажите, найдется ли не только в столице, но в самом завалящем уголке земного шара институтка, которая приходила бы в благоговейный ужас от той или другой штучки, шутки, свободного словечка, вырвавшегося из уст ученицы? Ведь, - что греха таить? - сами-то обыкновенные, подлунные институтки по этой части о-ох, как не промах, и это еще под большим сомнением, гимназистка ли на состязании получила бы пальму первенства? Между тем, наша многострадальная Клеопатра приходит в священный трепет, если какая-нибудь нечестивая осмелится засмеяться во время урока. - Несчастная! Зачем смеяться в сорок минут одиннадцатого, - недоумевает она, - когда стоит подождать только четверть часа, ударит звонок на перемену, и смейся сколько душе угодно? - Положа руку на сердце: ну, похоже ли это на обыкновенную, одушевленную институтку? Тысячу раз нет!.. Таким образом, остается еще одно последнее и, думается мне самое правильное предположение: хоть и прозывается она «Клепка», но именно двух-трех клепочек-то и не хватает в её мыслительном аппарате. Вообще, я нахожу, что в этом отношении имя Клеопатра - porte malheur (приносит несчастье)! Например, царица того же наименования, проглотив одним взмахом растворенную в уксусе миллионную жемчужину, тоже того… Швах немножко была. Одно знаю, что, на основании как личного, так и исторического опыта, никогда дочь свою так не назову.
Мудрено ли при таких обстоятельствах, что я в «отпетые» почти сразу попала?
Если можно было еще третьего дня, прибегнув к красноречию какого-нибудь европейского светила, уверить Клеопатру Михайловну, что я из «приличной» семьи, то со вчерашнего дня это сделалось совершенно немыслимым.
A все виноват наш Михаил Васильевич, учитель географии. Человек он себе премилый и предобродушный, сердце y него мягкое-мягкое, и против молящих глаз ученицы он устоять не может, рука, точно сама, один, a то и два лишних балла ставит, причем счет он начинает не с единицы, как все обыкновенно, a с семи, редко, редко с шести.
Дружеского расположения к географии я никогда не испытывала, потому ее надо долбить, a уж это - покорно благодарю, решительно не умею и уметь не хочу. За последние годы враждебные отношения с ней y нас обострились; гнусный предмет, как ни соображай, какой гениальной находчивостью ни отличайся, по немой карте никак не додумаешься, какими притоками угодно было природе снабдить Дунай с правой стороны, a какими с левой, - словом, гадость и больше ничего. A тут еще, - извините пожалуйста! - новую моду выдумали: карты изволь чертить, это при моих-то художественных способностях! Прелесть хоть куда, соединяющая мои две излюбленные работы.
Как только подходит ученица отвечать, первый вопрос Михаила Васильевича:
- A ваша карточка?
«Ну, думаю, постой».
Вчера как раз урок географии. Сел наш «Мешочек» и с места:
- Прошу госпожу Старобельскую к доске.
Госпожа Старобельская мало тронута этим вниманием, но забирает свое художественное произведение в одну руку, вторую опускает в карман и подходит к столу.
- Попрошу вашу карточку.
Я делаю такие же, как когда-то «святые глаза» и вытаскиваю из кармана руку, в которой… моя фотографическая карточка.
Люба ахает и заливается смехом, так как способность эту она сохранила в полной силе; Шурка радостно, даже несколько благоговейно восклицает: «Молодчина!» - на что раздается грозный окрик «Клепочки»; остальные все, кто тихо, кто откровенно фыркает. У Михаила Васильевича усы двигаются, в глазах что-то точно прыгает, но он не улыбается, серьезно берет из моих рук фотографию и внимательно рассматривает.
- Хорошо, прекрасно; теперь попрошу ту, что y вас в другой ручке.
Я, едва сдерживая смех, подаю.
- И это недурно, но, к сожалению, слабее. Что же? За маленькую 12, за большую 8 - средний 10. Попрошу госпожу Грачеву.
Этакий душка! Так умно поступить. Ведь это прелесть! Но «Клепочка», не находя прелестью мой поступок, снова кипит благородным негодованием: репутация моя - увы! - навсегда погибла.
Тем временем Татьянушка, показав свое художественное произведение, водит палочкой по стенной карте, перечисляя всякие немецкие герцогства; порой уничтожающе презрительный взгляд летит в мою сторону.
Эта милая девица никого не обманула и сделалась именно тем, чем во всех отношениях и обещала стать. (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора)
Ростом Господь ее не обидел, a потому она совсем «барышня»: платье на ней чуть не до пят, крысий хвостик, жгутом скрученный на затылке, исполняет должность прически, более или менее пышной. Впрочем, не одна Таня, почти все наши девочки стали барышнями, главным же образом, хотят ими быть. Только не я. Покорно благодарю! Это всякие прически устраивать, да чтоб длинные юбки ноги спутывали. Нет! Платье мое до полу не дотянулось; прическа все та же: бант наверху, другой в висящей косе; теперь прежняя косюля приняла совершенно определенное направление, растет не «кверху» по возведенной на нее когда-то Володей клевете (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора), a переползла уже много ниже пояса.
Еще Полуштофик да Пыльнева поддерживают мне компанию, первая, поневоле, своими немного ниже плеча белокурыми локонами, a Пыльнева длинными светло-каштановыми волосами, разделенными тоненьким, как ниточка, пробором, спадающими по спине тяжелой косой. Вид y неё все такой же святой, но жулик она из жуликов.
Бедная наша «Сцелькина» успешно окончила курс двух классов гимназии, посвятив на прохождение каждого из них по два года. Второму, как наиболее трудному, она хотела уделить и третий год, но начальство не пожелало злоупотреблять её долготерпением, и стены гимназии навсегда потеряли ее. Утрата эта заменена достойной наместницей её - Михайловой, которую нынешний первый класс великодушно оставил нашему.
Если по всем предметам она так же преуспевает, как по математике!.. Можно деньги платить, чтобы посмотреть, как сие девица доказывает равенство треугольников. Для этого она начинает с того, что рисует две извилистых неопределенной формы фигуры, из коих одна чуть не вдвое больше другой, затем доказывает, что это треугольники и, наконец, что они равны. Пожалуй, такой хитрой штуки и сам наш Антон Павлович не докажет, a уж он ли не математик, даже при вычислении маленьких чисел ошибается. Право, я не острю: он же сам растолковал нам, что «истый» математик занят «высшими» соображениями, ходом, «разверсткой» задачи, a потому «мелочи» обязательно ускользают от его внимания. Чтобы убедить нас в этой теории, он при каком-нибудь примерном вычислении начинает:
- Два да шесть - девять да четыре… да четыре… тринадцать, кажется?..
Теперь при устных ответах и нашей Татьяне такие вещи «казаться» стали, чем она приводит в умиленье Антошу.
Вот уж два сапога, один другого стоит!..
Это тот самый учитель, которому Тишалова когда-то резинкой в лысину с верхнего этажа удружила (См. «Веселые будни. Из воспоминанйи гимназистки» того же автора). После этого ли, или по другой причине, но плешка заметно увеличилась, сохранив свой прежний ослепительный блеск; ободок кругом неё, щеки и борода украшены не то щетиной, не то чем-то в роде торчащих редких, черных перьев. Физиономия желтая и кислая-прекислая, к тому же он имеет еще похвальную привычку вечно морщиться от неудовольствия, что портит художественную форму его башмака-носа; благодаря этому изящному приему, можно было бы предположить, что y него вполне отсутствуют глаза, но на выручку является пара очков, наводящая на мысль, что все-таки что-нибудь да смотрит через стекла. Вот противный! Нукает, нервничает, насмехается, но объяснить толком, - это не его дело. Есть y него две, три, самые способные, которые пользуются его благосклонностью, их он вызывает к доске, объясняет новое; те, понятно, на лету хватают.
- Поняли? Ну, отлично! Весь класс понял? Чуть не три четверти учениц подымаются:
- Я не поняла.
- Я!
- И я!
- И я!
- Ну, mesdames, не могу же я вам в голову вложить!
Ведь, вот, ваши же подруги поняли. Попросите их еще раз объяснить вам или спросите дома.
И делу конец! Вот этот «желток без сердца и души», как величают его, единственное темное пятно на светлом фоне нашего педагогического горизонта. Звучно сказано! Хоть сейчас в сочинение, то есть, конечно, только не про желток.
Нет, правда, все остальные учителя очень хорошие. Физика - душка; совсем не красивый, но страшно симпатичный, добрый и чудно объясняет. Зовут его Николаем Константиновичем, и любят его все решительно.
Историк, - Евгений Федорович, с длинной чуть не до пояса рыжей бородой, очевидно, ближайший потомок Фридриха (по-нашему Федора) Барбароссы, - и отчество, и внешность все это доказывают. Не мудрено ему при таких условиях хорошо знать историю, a знает и рассказывает он великолепно. Но строгий, внушительный (ему «карточку» не подашь!). Как и полагается, именуют его «Евгением Барбароссой».
Да, вот вовремя про него вспомнила: ведь с Богданом-то Хмельницким как-никак, a познакомиться надо.
A он трудный, на перемене, пожалуй, не выучишь. A столько, столько еще надо бы записать, только во вкус вошла!
Глава III
«Тайна тети Алины». - Мрачное пророчество.
Час от часу не легче! Если еще неделю назад решено было, что я не могу принадлежать к «приличной семье», то теперь уже неоспоримо подтверждено и подписано, что я кончу свои дни в Сибири. Бедная, бедная я! Стоило так стремиться душой сюда, в милую, дорогую гимназию, чтобы подвергнуться такому тяжелому приговору. И ведь никто, как наша преподобная «Клепка», изрекла надо мной это мрачное пророчество.
Дело в том, что наш французик monsieur Danry прямо-таки душка. Положим, прямого отношения к моей ссылке в Сибирь это не имеет, но, во-первых, это сущая пресущая правда, a во-вторых, и связь между одним и другим, отдаленная, этакая троюродная, что ли, есть.
Так я опять свое: милый он страшно и умный!.. Вот бы «Клепочке» позаимствовать! Злиться - никогда не злится, ворчать - тоже моды нет, единицы - пока ни одной, a учатся у него решительно все и учатся на совесть, потому обмануть его - и думать нечего, это сама воплощенная хитрость в вицмундире с золотыми пуговицами. Я думаю, ему на пользу пошли те уроки, которые он дает в корпусе и военном училище; там, верно, его всем штучкам обучили, все жульничества перепробовали, - удачно или нет? - не знаю, но зато нам провести его и думать нельзя. Все-то y этого хитрюги предусмотрено. Я сама чуть-чуть не попалась.
Например, такая вещь. Задана статейка читать, переводить и рассказывать. Неужели же учить? Что я своими словами передать не сумею? Книги я не открывала. Перед уроком - Данришенька уже в классе - спрашиваю: какой рассказ задан? Говорят - «L'AcadИmie silencieuse» - «AcadИmie» так «acadИmie», не все ли мне равно? Вызовет, - прочту и расскажу. Но хорошо, что он не догадался этого сделать, a то «le petit soleil» (солнышко), как он называет меня, совсем бы померкло.
- Mademoiselle Ermolaeff, racontez s'il vous plaНt (Госпожа Ермолаева, не угодно ли рассказать).
Мне бы это вовсе не «plaНt» (не угодно), но благоразумная наша Лизавета добросовестно поддолбила дома и, если не особенно литературно, то все ж плетется как-нибудь. Кончила.
- A prИsent ayez la bontИ de lire et de traduire (теперь будьте добры прочитать и перевести).
A что? Не жулик? Попробуй-ка дома не выучить, так и сядешь в калошу.
A с переводами. Задано приготовить устно, потом пишут его в классе на листочках. Что, кажется, проще: напиши себе дома, в классе так что-нибудь царапай, a подай домашний листок. У нас в той гимназии некоторые художницы так зачастую практиковали. У него ни-ни, и не мечтай. Когда уже y каждой три-четыре строчки написаны, он, прогуливаясь между партами с карандашиком в руке, так это себе спокойненько, на каждом листике, по серединке, мимоходом нарисует свою монограмму: «А. Д.» и номер, 1 или 2, смотря по тому, которую половину перевода эта колонна делает, две же соседки y него никогда одного и того же не пишут. Кряхтят наши лентяечки, кряхтят, a все-таки учатся.
Как раз вчера мы один такой знаменитый перевод писали. Люба свой живо кончила, подала, вытащила книжку, которую принесла из дому - «Тайна тети Алины», - очень на вид аппетитная, да еще и с картинками. Сидит моя Люба нос уткнула, читает; далеко уже доехала, и конец близко. Danry гуляет между партами и так разок вкось на нее глянул. Я ей шепчу: «Danry смотрит» - куда там! Оглохла и ослепла, все мысли в книге. Перевернула страницу, a там стоит «он», и «она» ему уткнулась носом в сюртук, не то плачет, не то смеется. Люба все читает, a Danry остановился за её спиной и тоже в книгу смотрит.
- Люба!
- Снежина! - шепчут со всех сторон.
Любы точно никогда не бывало. Наконец, я прибегаю к крайней мере, даю ей хороший толчок в бок.
- А?.. Что?.. - как спросонья поднимает она голову; оглядывается направо, налево и вдруг замечает почти рядом с собой фигуру француза.
- N'est-ce pas que c'est touchant, mademoiselle? (Heправда ли, как это трогательно?) - говорит он, кивая подбородком по направлению книги.
Люба краснеет, как рак, и быстро захлопывает ее; Данри нагибается к ней:
- Mais une autre fois vous ne lirez pas Ю mes leГons, n'est-ce pas? (Ho другой раз вы не будете читать на моих уроках, не правда ли?)
- Oh, non, monsieur, jamais, jamais! (O, нет, никогда, никогда!)
- Bon. Un point, c'est tout. (Хорошо. Точка. Довольно об этом).
Все дело обошлось тихо, мирно, даже «Клепочка» не успела дослышать, что здесь происходит, нашикала только на нас за то, что мы фыркали.
Ну, разве ж он не душка?
Люба отделалась благополучно, но мне «тетя Алина» сыграла прескверную штуку.
Следующий урок Закон Божий. Люба свой роман уже на перемене прикончила, вот я попросила дать мне книжку картинки посмотреть. И под каждой-то из них подпись, занятно. Сижу, рассматриваю. Батюшка спрашивает кого-то что-то и на меня ноль внимания. Вдруг предо мной вырастает какая-то фигура. - «Клепка»! Встаю, книгу сую Любе, та через проход Шуре, меня в это время пытают:
- Вы читали?
- Нет! (Правда, ведь я только картинки смотрела).
- Нет, читали, дайте книгу.
- Нет y меня книги.
- Не лгите… - и пошла и пошла…
Тем временем «тетя Алина» переходит из рук Шуры к Юле Бек в тот момент, когда «Клепка» устремляет глаза в их сторону; вслед за глазами устремляются и руки её: «Клепка» направо, книга налево, «Клепка» налево, книга направо. Неизвестно, чем кончилась бы эта скачка, если бы вдруг пути сообщений не забастовали: книга попала к Грачевой и была ею предательски вручена «Клепке».
Ну, и влетело же мне! Подумайте только: читать «роман» да еще с «тайной», да еще на Законе Божьем!.. За это y них, y подобных «Клепок», на луне присуждают к каторжным работам. Вот и стала она меня отчитывать: и нечестно это, и ворую я время и доверие батюшки, и обманываю я своих родителей, a раз уже теперь я позволяю себе такие преступные поступки, то могу дойти до того, что стану по-настоящему воровать, обманывать общество, государство и так далее и тому подобное…
Хорошо, если только в Сибирь сошлют, a вдруг да повесят?.. Бедная я, бедная! Что-то со мной теперь будет? - Ну, как не вспомянуть нашу милую Женюрочку, которая всегда так хорошо все понимала! Так нате вам, замуж вышла! «Клепку», ту мы едва ли с рук сбудем, разве за любителя редкостей удастся пристроить.
Но пока, до Сибири, живется будущему арестантику вовсе недурно и он пользуется в классе всеобщей симпатией.
Глава IV
«Редька». - Директор. - Тема Пыльневой.
Наша ли это гимназия такая особенная, но, лишь только возьмешь перо в руки, всегда найдется что-нибудь интересное или уморительное записать. Впрочем, вернее, именно тогда-то и берусь я за тетрадку, потому так, зря, писать времени не хватило бы: все же приходится уделить частицу его всяким Карлам, Василиям, гидростатике, Морзе и тому подобному.
Кроме того за мной теперь маленький грешок завелся: удалось как-то раз стихотвореньице нацарапать, и так это мне понравилось, что я нет-нет, вытащу свою тетрадочку да что-нибудь и пристрочу. Не показываю никому, потому засмеют, но самой мне это доставляет такое громадное удовольствие.
Почитать - тоже не повредит, потому что стоять пнем перед нашим милейшим Дмитрием Николаевичем, хлопать глазами, не дочитав того или другого по литературе, да выслушивать его холодные замечания - покорно благодарю.
Противная ледяная сосулька! Мне кажется, y него все внутри заморожено, такой он безучастный, равнодушный. Страшно хотелось бы разозлить его когда-нибудь, вывести из равновесия; я уже пробовала, но до сих пор результата никакого. A нашито почти все без исключения мрут от любви к нему. Юля Бек, Штоф, Ермолаева и младшая Лахтина, - те себя не помнят при виде его: по-прежнему, чуть он на порог - пожар, в красном зареве тридцать лиц, a он даже взглянуть-то на них не удостаивает.
Сегодня перед уроком русской литературы вдруг замедление; наш Дмитрий Николаевич, обыкновенно, сию же минуту после звонка являет свои ясные очи, a тут - пауза. В чем дело? «Неужели не пришел?» - радостно мечтаю я.
- Неужели не пришел? - несется со всех углов класса встревоженный, огорченный возглас.
В это время, сквозь верхнюю стеклянную половину двери вырисовывается круглый арбузик Андрея Карловича, красное, взволнованное лицо «Клепки», сдержанная, вечно возмутительно корректная фигура словесника и нечто старое, седое, высокое и незнакомое.
- Директор! - несется по партам. - Только бы не в наш класс!
- Краешком, краешком! Мимо, голубчики, мимо! - напутствует их соответственными жестами Шурка Тишалова, скрытая от начальствующих глаз на своей четвертой скамейке. Группа еще минуту продолжает стоять на том же месте, затем, коротенький карасик - рука Андрея Карловича - указывает на нашу дверь, и все четверо делают шаг по направлению к ней. Общие ахи, охи взвинчивают и меня.
- Редьку, редьку держи! - торопливо шепчу я Любе, указывая на природное черное пятнышко в дереве парты.
Она с удивлением смотрит на меня.
- Вот так: большой палец на пятно, указательный под парту и говори скорей: «Федька, держи редьку, чтоб директор не вошел. Федька, держи редьку, чтоб директор не вошел». Еще, еще… Живей!.. - мгновенно вспоминаю я верный, не подводящий способ всегда успешно применявшийся в нашей той гимназии.
Люба, перепуганная, старается добросовестно выполнить заклинание; но пятно настолько удалено от края, что, закрыв его большим пальцем, она не может дотянуть указательный под доску.
Вместе, - шепчу я и подсовываю свой правый указательный под её парту в то время, как левой рукой «держу редьку» на своем столике.
- Федька, держи редьку, чтоб директор не вошел! Федька, держи редьку, чтоб директор не вошел!.. - поспешно твердим мы несчетное число раз, но… директор со всей свитой уже в классе.
В увлечении мы, крепко вцепившись в «редьку», продолжаем держать ее и, понизив шепот на два тона, повторяем спасительное заклинание. Вдруг что-то заставляет меня поднять глаза: удивленно и добродушно улыбаясь, на меня смотрит милый Андрей Карлович (он ведь всегда все видит!), на мне же остановился холодный, пристальный взгляд Дмитрия Николаевича. Я сразу становлюсь, по нашему с Любой выражению, «варенее красного рака»; она тоже. Смущенные, мы обе замолкаем. Еще не хватало, чтобы эта противная сосулька издеваться при всем классе стала! Понял, конечно, что это примета, теперь пойдет прохаживаться относительно «темноты», «предрассудков», «некультурности». - Вот и повезло!..
Публика уселась. Вызывают Зернову. Уф! Гора с плеч! Пока она выкладывает все, что может выложить относительно «Слова о полку Игореве», я опять незаметно хватаюсь левой рукой за «редьку», благоразумно прикрыв ее ладонью правой, и уже безмолвно, не губами, a лишь мысленно, повторяю: «Федька, держи редьку, чтоб директор не спросил»…
- Госпожа Старобельская! Попрошу вас прочитать нам «Плач Ярославны», - раздается приглашение словесника.
Увы! Федька-предатель безбожно подвел!
Я, конечно, краснею, но, странно, страха моего как не бывало. Да и чего, в сущности, я трусила? Стихотворение это мне чрезвычайно нравится, знаю я его назубок, декламирую прилично, чего же? Вот просто заразили: дрожат все, ну и меня забирать начало. Глупо, в сущности.
Отвечаю хорошо. Директор слушает благосклонно,
Андрей Карлович быстро и одобрительно кивает своим арбузиком: - Хорошо, хорошо, очень хорошо!
Дмитрий Николаевич, по обыкновению, застыл в своем олимпийском величии, но мне чудится насмешка на его тонких губах. Два-три вопроса еще.
- Прекрасно, благодарю вас. Прошу сесть. - Тонкая, длинная рука выводит равнодушно 12 в моей графе.
После этого директор подымается, раскланивается, говорит несколько приятных слов Дмитрию Николаевичу и выплывает в сопровождении Андрея Карловича терзать другие младенческие души.
- На следующий раз попрошу по учебнику закончить все, что было мной рассказано на предыдущем уроке, a на восемнадцатое число вы будете добры написать сочинение. Темой не стесняю, каждая может выбрать по своему усмотрению; по курсу еще слишком мало пройдено, отвлеченной же темы мне своей давать не хотелось бы: для меня несравненно больший интерес представит прочитать, что напишет каждая из области, наиболее ее интересующей; это, до некоторой степени, послужит характеристикой вкусов, симпатий, взглядов и общего развития каждой из вас.
А, вот это хорошо-о! Может быть, здесь мне удастся как-нибудь поддеть и разгневать вас, глубокоуважаемый Дмитрий Николаевич. Будьте уверены, что над темой я подумаю и основательно.
Танька Грачева чрезвычайно возбуждена и вся поглощена выбором темы. Надо ж показать свое «умственное развитие»! Она ищет сочувствия и одобрения y «Клепки». Что и говорить, источник надежный!
- Клеопатра Михайловна, как вы думаете, хорошая тема: «О влиянии среды на душу ребенка»? - торжественно выпаливает она, очевидно, целиком где-нибудь вычитанное заглавие, так как своим умом она ни-ни, ни в жисть бы до того не додумалась.
«Клепка» умилена.
- Какая чудная, глубокая идея! Сколько можно написать! - закатывает она от восторга глаза под потолок. - Вот это значит серьезная девушка, мыслящая, - летит в наш огород камешек. - Напишите, непременно напишите, прекрасная тема!
- Клеопатра Михайловна, я тоже хотела с вами посоветоваться, - скромно, подозрительно скромно, подходит Пыльнева: вид y неё положительно святой - ждать беды! - Как вы думаете, ведь хорошо будет, если написать о влиянии гипнотизма на произрастание лесов в центральной Африке? - не сморгнув, вкрадчивым голосом спрашивает она. - Эта тема не затрепанная, a как много можно сказать! - воодушевляется Пыльнева. - Правда? Вам нравится? Мне бы так хотелось, чтобы вам непременно понравилось: вы знаете, как я дорожу вашим мнением.
«Клепка» растерянно и недоумевающе смотрит. Тон так искренен, голосок так кроток, большие глаза ясно и спокойно устремлены прямо на нее. Сочетание слов темы слишком смелое и неожиданное, ей ли, бедной «Клепке», сразу расчухать?
- Гипнотизм?.. Бог с вами, что это за тема: заниматься им грешно, это противно христианскому учению. И потом что за выражение: «затрепанная» тема! - Фи, такие слова в устах молодой девушки! - уселась она на своего любимого конька, истощив весь антигипнотический запас.
- Так вам не нравится? Как жаль! - убитым голосом говорит Пыльнева. - Слово «затрепанная» я больше никогда не произнесу, извините пожалуйста, я просто не нашла подходящего слова, чтобы выразить, что тема эта не тошнючая, не намозолившая глаза и вот…
- Пыльнева, что за выражения!..
Дальнейший разговор становится невозможным; ученицы давно уже хохочут, покатываются. Клеопатра прекрасная смутно чувствует подвох. Она до сих пор еще не раскусила Пыльневой и склонна считать ее «примерной», a потому такие выходки Иры совершенно сбивают ее с толку.
- A вы, Старобельская, уже тему выбрали? - обращается она ко мне.
- Нет, Клеопатра Михайловна, еще думаю, - отвечаю я. «Имею, матушка, имею, да какую чудную! И тебе, и милейшему Дмитрию Николаевичу нервы немножко подергаю», - мысленно договариваю я.
Посмотрим, какова будет оценка моей «характеристики», моих «вкусов» и умственного развития? Как же, так я вам и выложу всю свою душу на блюдечко, a вы потом с усмешкой «снисходить» будете! Нет, ни-ни, этого не будет!
Глава V
«Умственные, нравственные, физические преимущества лентяя».
Вот и восемнадцатое - день подачи сочинений. В четверть девятого я уже в гимназии и - о, чудо! - самые неисправные, вечные опаздывальщицы, все налицо. Всюду посбивались кучками, советуются, обмениваются мыслями. Давыдова, находящаяся в вечных непримиримых контрах с синтаксисом Смирновского и знаками препинания, пытает всех по очереди спрашивая, достаточно ли запятой или необходима точка.
- Охота тебе мозги напрягать над такой ерундой! - пожимая плечами, возглашает Тишалова. - И кто их только выдумал эти знаки? Мне самой они во где сидят, - проводит она рукой по горлу. - Я теперь твердо решила, со следующего раза буду поступать, как одна многоумная девица сделала: напишу работу, знака ни единого, a в конце все их в одну строчку повыстраиваю и подпишу: «Марш по местам!» - и скоро и хорошо.






