Дело, которому ты служишь Герман Юрий
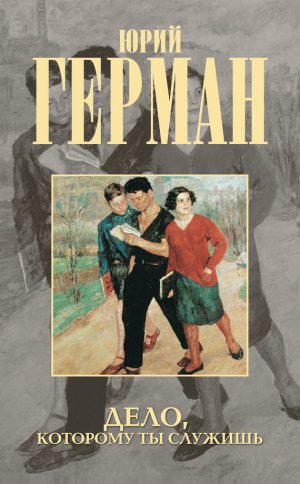
— Благодать-то какая, а, Володя?
— Спасибо вам, Антон Романович, — буркнул Устименко.
— За что?
— За то, что вы… учите меня, что ли.
— Я? Учу? — искренне удивился Микешин.
— Не в том смысле. А вот, например, сегодня… — совсем смешался Володя.
— Ах, сегодня! — грустно произнес Микешин. — Беляков этот, да? Так ведь это фокус-покус, случай элементарнейший.
И в голосе Антона Романовича послышалась Володе знакомая, полунинская нотка — чуть насмешливая, ироническая, немножко усталая.
Перед самым началом занятий в Заречье загорелись лесные склады. Пожар начался под утро, мгновенно, в бараке, в котором спали грузчики, никто вовремя не проснулся. Дул сильный, порывами ветер, нес раскаленные угли, обжигающий пепел; вороные кони Снимщикова храпели, пятились, воротили с дороги в канаву. Пожарные части одна за другой неслись, гремя колоколами, по мосту через Унчу; пожарники в дымящихся брезентовых робах таскали из огня обожженных людей, санитары беглым шагом несли пострадавших дальше, к своим каретам и автомобилям. Когда кончился этот ужасный день, Микешин сказал:
— А ожоги мы и вовсе лечить не умеем.
Глаза у него были воспаленные, белую шапочку он потерял, волосы торчали, словно перья, губы пересохли.
В этот трудный день Володя видел Варвару: она шла по улице Ленина и узнала его — на козлах, чуть подняла даже руку, но помахать не решилась. Слишком уж измученное и строгое было у него лицо.
К началу первого семестра нынешнего года для Володи уже многое осталось позади: и признаки воспаления, которые когда-то заучивались наизусть, как стихи: калор, долор, тумор, рубор эт функциолеза, что означало — жар, боль, припухлость, покраснение, нарушение функций. Позади осталась и уверенность, что понимать сущность предмета не так уж трудно. Позади остались и споры о загадках средневековой медицины и о докторе Парацельсе, который лечил больное сердце человека листьями в форме сердца, а болезни почек — листьями в форме почек. Позади, далеко позади осталась робость перед тяжелой дверью прозекторской, над которой были выбиты слова: «Здесь смерть помогает жизни». Тут Володя чувствовал себя теперь уверенно, почти спокойно, смерть была теперь не таинством, а «курносой гадиной», с которой предстояли тяжкие и повседневные сражения. Но как вести эти бои?
Труп не страшил более Володю. Но ему было не по себе, когда на секционном столе он увидел тело девятнадцатилетнего спортсмена — загорелое, великолепное, тренированное для долгой и здоровой жизни. Как могли не спасти этого человека? Почему тут победила проклятая «курносая гадина»? И сколько еще времени врачи будут вздыхать, разводить руками, болтать о том, что наука таит в себе много не проявленной и ею же самой не познанной силы?
Очень многое осталось позади, но сколько дверей ему еще предстояло открыть и что ожидало его за этими дверями?
Внезапно с юношеской непримиримостью и категоричностью он стал делить профессоров и преподавателей на талантливых и бездарных. Но Пыч довольно резонно ему ответил, что Лев Толстой, Чайковский, Менделеев, Ломоносов, Маяковский, Шолохов нужны человечеству именно потому, что они есть единственные гении, в то время как врачи не могут быть только гениями. «Гениев не хватит, — сказал Старик, — от Черного до Баренцева. Ясно тебе, завиральный Владимир?»
Год начался трудно.
Светя другим, сгорать самому — оказалось не такой простой штукой. Прежде всего нужно было научиться «светить» с толком. А как, если опытный Микешин — хороший и добросовестный доктор — не один раз за лето говорил Володе:
— Этого, коллега, мы еще не умеем.
Или:
— Процесс необратим.
Или еще:
— Послушайте, Володя, что вы себя мучаете, мы же насморк толком не научились лечить!
Умница Полунин иногда отвечал на вопрос о назначении:
— Ничего не надо. Пройдет!
Больную, голубоглазую, белокожую польку Дашевскую в полунинской клинике курировал Устименко.
— Пройдет! — сказал Полунин.
— Как пройдет? — удивился Володя.
— А так! Возьмет и пройдет!
— Само?
— Ну, покой, рациональное питание, сон, беседы с вами — вы же неглупый юноша, хоть и чрезмерно сурьезный (Полунин всегда говорил вместо серьезный — сурьезный). И со временем все пройдет. Хотите возразить?
Возражать было нечего.
САМ ПРОФЕССОР ЖОВТЯК
Странные наблюдения тревожили Устименко: чем деятельнее и хлопотливее лечили больного, чем больше учиняли над ним всяких процедур, чем чаще давали лекарства, тем благодарнее делался он. А если лекарств давали мало, если не заставляли глотать зонд и не интересовались особо анализами, больные, случалось, даже жаловались, что их мало лечат. «Мало, плохо и совсем не обращают внимания». Замечал также Володя, что наибольшей популярностью у больных пользовались «добрые» доктора, совершенно притом вне всякой зависимости от глубины знаний, серьезности, одаренности того или иного врача. Любили больные также профессорскую внешность врача — бороду, перстни на руках, с почтительностью и уважением взирали на «архиерейские» выходы некоторых медицинских деятелей, знавших цену помпезности в своем ремесле.
— Какой солидный! — услышал однажды Володя восторженное замечание больной старушки Евсеевой, относящееся до самоуверенного и глупого, но притом доктора и профессора Жовтяка. — Сразу видно, что не нынешним чета — действительно профессор!
Благостная улыбка, «коза», сделанная ребенку, анекдотец — все входило в арсенал Жовтяка, ничем он не брезговал ради своей популярности, и больные словно расцветали ему навстречу, в то время как суровый, молчаливый и угрюмый хирург Постников, не имевший, кстати сказать, никакого ученого звания, нередко вызывал нарекания тех самых людей, которые им были вытащены оттуда, куда профессор Жовтяк никогда даже не пытался заглядывать, предпочитая в этих рискованных случаях действовать руками Постникова, В тех же редчайших и совершенно непреодолимых казусах, когда Иван Дмитриевич «срывался», профессор Жовтяк долго и укоризненно покачивал своей благообразной, с надушенной плешью головой и говорил бархатным голосом:
— Эк вас, коллега, занесло! Для чего понадобилось оперировать неоперабельного? Зачем статистикой рисковать? Он бы и дома, среди близких и дорогих его сердцу, благополучно опочил, а вы мне плюсовые итоги на минусовые пересобачиваете. И какая вам-то от этого прибыль? Нет, уж вы это оставьте, мой почерк не рушьте. У нас имеется авторитет, а еще парочка ваших рисков — и станут про меня лично болтать языками, что-де профессор Жовтяк не уследил. А я не последний человек в городе и в области, мне не из чего по вашей милости себе шею ломать.
Представлялся Геннадий Тарасович, в отличие от Ганичева и Полунина, исключительно так:
— Профессор Жовтяк!
Оперировал он редко, некрасиво, но очень кокетничал и при этом любил произносить всем известные истины, «цитировал цитаты», как выразился про него однажды в сердцах Полунин. Без Постникова шеф не рисковал делать решительно ничего, и Иван Дмитриевич всегда стоял рядом с Жовтяком, словно со студентом, держа корнцанг в руке. И все видели, что Постников нервничает, и всем было стыдно, чуть-чуть стыдился и сам Жовтяк; во всяком случае, Володя своим ушами слышал, как, размываясь после особенно неловкой операции, шеф сказал довольно-таки жалким голосом:
— Эхма, старость не радость! Бывало…
— Что бывало? — жестко осведомился Постников.
Иногда он вдруг подолгу, словно задумавшись, смотрел своими молочно-льдистыми, непроницаемыми глазами в холеное, с ассирийской бородкой лицо шефа, и никто не понимал, о чем он при этом думает. А Жовтяк, только что разливавшийся соловьем, внезапно путался, краснел, обрывал на полуслове свою лекцию-речь и, заторопившись, исчезал.
Ненавидя Ивана Дмитриевича, он, однако же, решительно не мог без него обходиться. Клиника целиком лежала на плечах Постникова, практически студентов учил Постников, сложнейшие операции производил Постников; ходили слухи, что некоторые статьи за шефа пишет Постников. Жовтяк был занят по горло, всюду консультировал (разумеется, в трудных случаях прихватывая с собой молчаливого Постникова), ездил с начальством на охоту, заседал деловито и строго, был не прочь, когда, разумеется, можно, подать ядовитую реплику, открывал областные и городские конференции врачей, знал, сколько времени нужно аплодировать, стоя в президиуме, и все свои речи начинал так:
— Дорогие товарищи! Позвольте прежде всего по поручению коллектива ученых Института имени Сеченова приветствовать вас! (Здесь он сам, Геннадий Тарасович, аплодировал и раскрывал длинненький блокнот.) Начну с цифр. В 1911 году мы имели по области койко-мест всего лишь сто двадцать два…
— Слушайте, слушайте! — говорил при этом Полунин. — Сейчас вы узнаете сногсшибательную новость — оказывается, что при Николашке со здравоохранением дело обстояло хуже, чем при Советской власти.
И никогда не ошибался. Жовтяк пережевывал всем известные истины, критиковал начальство не выше завоблфинотделом, в президиуме перешептывались, писали друг другу записки, в зале стоял ровный, неумолкающий шум голосов. А Жовтяк, ни на что не обращая внимания, говорил и говорил о своих койко-днях, множил средне-годовые койки на количество дней в году, производил анализ коечного фонда, называл среднюю величину второго элемента фунции койки, производил анализ коечной номенклатуры и наконец после третьего продления регламента, с высоко поднятой головой покидал трибуну.
— Зачем это он? — спросил как-то Володя Полунина.
— И терпентин на что-нибудь полезен! — загадочно ответил Пров Яковлевич.
— Какой терпентин? — не понял Володя.
— Почитайте «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова, У него же сказано: «Усердие все превозмогает». И еще есть один краткий афоризм: «Козыряй!»
С грустной усмешкой Полунин отвернулся от Володи.
Студентов, особенно тех, про которых говорили, что они способные, Жовтяк ласкал. Ласкал и Женьку Степанова — редактора институтской газеты. Ласкал и сурового Пыча-Старика — на всякий случай: его тревожило, когда он чувствовал неодобрение, пусть даже молчаливое. Но больше всех ласкал он Володю, и потому, что о Володе говорили как об очень способном студенте, и еще потому, что Володя на него смотрел невыносимо неприязненно. Но как ни ласкал Геннадий Тарасович хмурого Устименку, тот быстро раскусил велеречивого профессора и невзлюбил его так же бурно и пылко, как полюбил строгого и невеселого Постникова. А может быть, и не раскусил Володя Жовтяка, а просто со свойственной ему наблюдательностью заметил особую, подчеркнутую вежливость, даже насмешливую галантность Полунина по отношению к шефу хирургической клиники.
Глупый Жовтяк не понимал, что Полунин бывает так вежлив только к людям, им глубоко презираемым, а Володя знал и Полунина, и Ганичева, замечал, как они переглядываются, слушая «беллетристику» Геннадия Тарасовича, и однажды еще отметил про себя короткий разговор обоих профессоров, происходивший на любимой их скамеечке в парке.
— И правильно, что презираем, — скучным голосом произнес Ганичев. — Презрение, Пров Яковлевич, есть ненависть в состоянии покоя.
— Не рано ли нам переходить в состояние покоя? — желчно осведомился Полунин. — И не слишком ли мы занимаем постороннюю позицию по отношению к этому паркетному шаркуну и нечистоплотному шалуну?
Ганичев ответил вяло:
— Ах, оставьте! Мы свое дело делаем честно, чего же вам еще? Ведь если с ним завестись, на это сколько времени уйдет?
Володя, сидя на соседней скамье, покашлял, чтобы не вышло, будто подслушивает. Полунин лениво на него взглянул, потянулся и сказал фразу, надолго запомнившуюся Устименке:
— Беда наша, Федор Владимирович, — вялость. Моя в меньшей степени, ваша в большей. Видим сукиного сына, надо его беспощадно бить, а мы? Посмеиваемся…
Володя мотал на ус. «Вялость, — думал он, — вялость! Прав Полунин. Возраст утомляет людей, что ли? Но ведь Жовтяк — бодрячок. Он и кусаться, наверное, умеет!»
С этого дня начала для Володи меркнуть звезда Ганичева и разгораться новая — Постникова. Аккуратный, педантичный, строгий, с торчащими пиками седых усов, Иван Дмитриевич тоже заметил Володю и позволил ему не только присутствовать, но и помогать, постоянно уча делу, которое сам выполнял с таким блеском, что у Володи даже дух захватывало от зависти.
На восторженные Володины рассказы о Постникове курс реагировал по-разному. «Настоящий, несомненно, мужик!» — согласился Пыч. «Но почему же все-таки даже не кандидат?» — усомнилась Нюся Елкина. А Женя Степанов промямлил: «У тебя вечно телячьи восторги, Владимир! Ничего, разумеется, особенного, толковый практический врач, никто не отрицает. Но Нюся права. В нашей стране не иметь даже кандидатского звания? Может быть, биография с «белыми пятнами»?» Светлана заявила, что Геннадий Тарасович ей импонирует — добродушный, простой, вежливый. Огурцов кинулся защищать Постникова, Сашка Полещук назвал Светлану почему-то киселем овсяным, а Миша Шервуд на всякий случай промолчал. Он теперь не позволял себе болтать лишнее, да и экзамены принимал все-таки не Постников, а Жовтяк.
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Все началось с того, что Володя увидел, как Постников пришел к Прову Яковлевичу в терапию на консультацию, как сел на крашеную белой эмалью табуретку, наклонился к больному землемеру Добродомову и занялся перкуссией. В палате, где лежали пять человек, было совершенно тихо. Полунин предупредил о том, чтобы не шумели. Иван Дмитриевич делал перкуссию пальцами, он не признавал ни плессиметров, ни молоточков. Щуря холодные глаза, Постников выстукивал то сильно и часто, то еле уловимыми движениями пальцев. Прошло не менее тридцати минут. Равномерный тупой звук навевал дремоту, Володя не без раздражения думал: «Кокетничает товарищ хирург, спектакль устраивает!»
Внезапно Постников разогнулся, взял из рук сестры банку с йодной настойкой и помазком нанес на синюшной коже Добродомова квадрат:
— Вот здесь абсцесс. Переводите ко мне в хирургию.
Встал с табуретки, не забыл прикрыть землемера одеялом и, высоко неся голову, ушел из палаты.
— Видали? — восхищенно спросил Пров Яковлевич Володю.
— Видали! — машинально повторил Володя.
— И что увидели?
— Здорово!
Во вторник Добродомова оперировали, и диагноз Постникова был подтвержден полностью. Полунин посоветовал Володе:
— Теперь учитесь у Ивана Дмитриевича, как выхаживать больного после такой операции. Амбруаз Паре в шестнадцатом веке говаривал: «Я их оперировал, пусть бог их излечит». Поучитесь у бога. Постников — врач-стратег, не эмпирик, очень даже размышляющий врач. Учась у него, что тоже небесполезно, подготовите себя к работе в любых условиях, мало ли, знаете, вдруг война. Рентгеновский аппарат не везде отыщется. Предупредить должен: если сгрубит Постников, не обижайтесь, он человек дела и не выносит, когда мешают делу. И праздно любопытных он терпеть не может. Но вообще берите от него как можно больше, черпайте, изящно выражаясь, из этого источника полными пригоршнями, добром помянете…
Устименко передал слова Полунина своим на курсе. Евгений возмутился:
— Ну, знаешь, прелесть моя, я не желаю готовить себя к условиям, в которых и рентгена не окажется. Да и плохо я себе представляю такие условия. А вообще душок какой-то исходит от рассуждений вашего Полунина, эдакое что-то…
— Опять? — угрожающе спросил Пыч.
— Да, опять! — воинственно сказал Степанов. — Опять! Ганичев, Полунин, теперь Постников — не наши то люди, вот что! Не наши! Такова моя точка зрения.
Недели через две Полунин осведомился:
— Черпаете?
— Черпаю.
— И как?
— Достается.
— То-то похудели.
— Знаю я еще очень мало! — пожаловался Устименко. — Это ужас до чего мало.
Пров Яковлевич застегнул плащ на все пуговицы, протянул Володе большую теплую руку:
— До свидания. А что знаете мало — это ничего. За вас ваш Степанов знает много, и все притом на «посредственно».
Володя вздохнул и, шаркая от усталости ногами, вернулся по кленовой аллее клинического парка к приземистому зданию оперативной хирургии. Здесь, в лаборатории, томился трехцветный, измученный Устименкой дворняга Шарик.
Хлопнув дверью на блоке, Володя повернул выключатель и позвал собаку. Шарик слабо вякнул в своей низкой клетке и едва-едва вильнул хвостом. «Я его мучаю, а он мне хвостом еще машет!» — сердито подумал Володя. Когда ему было кого-нибудь жалко, он непременно сердился.
В тишине лаборатории деловито хрупали свои кочерыжки кролики, возились в стеклянных банках белые мыши, воздохнула в станке подопытная собака Миши Шервуда. Рядом, за дверью, работал Постников — Володя услышал его характерное «ну-ну». Тут Иван Дмитриевич проводил не меньше двух часов в день, экспериментировал, размышлял, опять экспериментировал. «В руководимой мною клинике», — вспомнил Володя профессора Жовтяка.
К дверце Шарик едва подполз. Он все время зализывал швы и крупно, мучительно дрожал.
— Вылезай, дурак! — шепотом сказал Володя. — Я тебе котлету принес и сахару. На, Шарик…
Ему самому очень хотелось есть, котлету он принес себе, собственно не котлету, а бутерброд с котлетой. Но так как Шарик булку не желал есть, то по праву слабейшего получил котлету, Устименко же съел булку.
— Ах, не нравится? — спросил Володя. — Вам уже и котлета не подходит?
Шарик вяло понюхал котлету, потом отвернулся, положил голову на передние лапы и закрыл влажные, страдающие глаза. Тогда Володя отломил кусок котлеты, размял пальцами и пихнул собаке под губу. В это время, стаскивая с рук резиновые перчатки, вошел Постников.
— Манькин заболел, ангина у него, — заговорил Постников, — животные не кормлены (Манькин, старичок, санитар, ведал кормлением подопытных зверей). Нынче мы с Аллочкой накормили Ноев ковчег с грехом пополам…
Хорошенькая Аллочка подмигнула Володе из-за плеча Постникова. Иван Дмитриевич наконец сорвал с левой руки щелкнувшую перчатку, швырнул на стол, постучал ногтем по банке с мышами.
— Советую вам, Устименко, взять вашего Шарика домой, — продолжал Постников. — После резекции, учиненной вами, вы здесь собаку на ноги не поставите. А в домашних условиях, может быть, вам и удастся восстановить силы животного. Впрочем, это ваше дело. Шервуд, например, мне заявил, что его родители не любят собак.
Вечером Володя привез Шарика домой и позвонил Варваре.
— Вот что, Степанова, — сказал он сухо, голосом, похожим на постниковский. — Приедешь ко мне сейчас, срочно…
— А у меня… — начала было Варвара, но Устименко перебил:
— Что у вас — это ваше дело, но приехать вы должны, и именно сейчас!
Тетки Аглаи дома не было. Шарику он постелил старое ватное одеяло в своем закуте. Пес все дрожал, лизался, даже кряхтел человеческим голосом. Володя согрел ему молока, чтобы было чуть теплое, подсластил его, вбил туда яйцо. Шарик понюхал и отвернулся.
«Здесь медик, кажется, должен передоверить свои функции гробовщику», — подумал Володя старой фразой из какой-то книги. И с ненавистью покосился на репродукцию «Урока анатомии». Попробуй светить другим, если даже собаку не можешь вылечить, хоть и знаешь точно, что с ней происходит.
Когда пришла Варя, он по-прежнему сидел над Шариком и ел холодную вареную картошку.
— Собачка! — закричала Варвара. — Это ты мне собачку купил?
— Ох, да не вопи! — попросил Устименко.
— Она больная? Ты ее лечишь? Володька, вылечи мне собачку! — опять затарахтела Варя. — Она породистая, да?
И села рядом с Володей на корточки.
— Не укусит?
— Я удалил у нее порядочный кусок кишечника, — угрюмо произнес Володя. — И еще кое-что мне пришлось с ней сделать. А она лижет мне руки и относится ко мне по-товарищески. По всей вероятности, это единственное живое существо, которое принимает меня за врача.
— А я? Разве я не принимаю тебя за врача?
— Короче, Шарика я должен вылечить. И ты мне поможешь. Ясно?
— Ясно.
— Вот занимайся с ним, а я еду на всю ночь в клинику. Если что, позвони по телефону в хирургию, запиши…
Варя покорно записала. Он вымылся в ванне, побрился, съел что-то очень странное, сжаренное Варей на сковородке, «фантазия» — сказала про это кушанье Варя, — и уехал, забыв даже попрощаться с ней. Впрочем, он постоянно забывал здороваться, прощаться, спрашивать, какие новости, бриться, стричься, забывал делать то, что Варя называла «вести себя по-человечески», а Евгений — «соблюдать общественную гигиену».
Дверь захлопнулась, Варя нашла у себя в кармане залежавшуюся конфетку, сполоснула ее под краном и сунула зазевавшемуся Шарику в рот. Тот похрустел и вильнул хвостом. Тогда Варвара высыпала под усатую и бородатую собачью морду всю сахарницу. Шарик лизнул сахар, и через минуту на полу не осталось ни крупинки.
— Умница, собачка, какая собака, собачевская, собачея, — говорила Варвара тем голосом, которым разговаривают люди наедине с животными — особым, дурацким голосом, — собачевская собача, кушай молоко, Шарик Шариковский, ты кушать будешь, и кишки у тебя новые вырастут, ты моя собака великолепная, только ты будешь не Шарик, а Эрнс! Да! Умный, грозный, великолепный Эрнс!
Володя вез из перевязочной каталку, когда дежурная сестра Аллочка позвала его к телефону. Шел одиннадцатый час, больные в клинике профессора Жовтяка уже засыпали, разговаривать надо было почти шепотом.
— Она ест! — закричала Варя в ухо Володе. — Ест! И молоко хлебала.
— Благодарю! — сказал Володя.
— И название у нее теперь не Шарик, а Эрнс! По буквам: Элеонора, ры, ну какое имя на ры — Рюрик, Николай, Сережа. Выводить ее надо? Или, знаешь, я нашла тут такую прохудившуюся кастрюлю…
— Очень благодарен! — сказал Володя и повесил трубку.
— Устименко, вы каталку так тут и оставите? — спросила Аллочка, сверкнув на Володю великолепными зрачками; ей он очень нравился, этот неистовый студент с мохнатыми ресницами и еще припухлыми губами. — Может быть, вам показать, где полагается быть каталкам?
Впрочем, хоть в Володю она была почти влюблена, Аллочка попросила его посидеть за ее столиком часок-другой, а сама завалилась спать. Она была из тех людей, которые считают, что, как ни старайся, всех дел на земле не переделаешь, и даже не стеснялась говорить, что свое здоровье «ближе к телу». Про таких Володя думал, что они все из «армады» Нюси Елкиной. И только удивлялся, что Постников не понимает, какая она, Аллочка, и хоть строго, но хвалит ее, а она ведь сама ложь.
И два часа прошло, и три, и четыре, Аллочка все спала. Володя ходил на звонки в палаты, ввел одному больному морфий, другому помог удобнее уложить оперированную ногу, с третьим посидел, потому что ему было страшно. А в четыре часа утра дежурный врач-хирург, очень высокая, с острым носом — Лушникова, — позвонила домой Постникову насчет срочной операции. И именно Постникову, а не Жовтяку.
Володя стоял так близко от телефона, что услышал обычный ответ Ивана Дмитриевича:
— В добрый час!
Аллочка, свежая, отоспавшаяся, еще раз сверкнула на Володю глазами и шепнула:
— Люблю бабайки!
Володя отвернулся.
Во время операции вошел Постников, колючие его усы торчали пиками в стороны, молочно-голубые глаза смотрели спокойно, холодно, словно две маленькие льдинки. Он всегда приходил так — не вмешиваясь до того мгновения, когда его совет, или указание, или помощь становились необходимыми. И если все шло благополучно, он уходил молча, твердым, упругим, еще молодым шагом, высоко неся голову.
Уходя нынче, он сказал Володе:
— Завтра воскресенье, если не имеете ничего лучшего в перспективе, приходите ко мне после восьми вечера. Но не позже девяти.
— Спасибо! — обалделым голосом произнес Володя.
— Пожалуйста! — кивнул Постников.
— Что, он вас к себе пригласил, да? — заспрашивалала Аллочка, как только Постников исчез за поворотом коридора. — К себе на квартиру, да?
— Да.
— Черт, везучий вы какой!
У НАС РАЗНЫЕ ДОРОГИ
В шесть утра он открыл своим ключом дверь. Трехцветный Шарик, слабо ступая, закидывая зад, пошел к Володе навстречу. Варя, одетая, подложив ладошку под щеку, спала на его кровати. Настольная лампа была затенена так, чтобы свет не падал на то место, где положено было лежать Шарику. И прохудившаяся кастрюля, изящно прикрытая розовой крышкой из картона, стояла рядом с постелью выздоравливающего будущего Эрнса.
— Володя, — тихонько окликнула тетка Аглая.
В носках, стараясь не скрипеть половицами, он вошел к ней. Укрытая до плеч, она ласково смотрела на него своими чуть раскосыми глазами.
— Намучился?
— Есть маленько!
И шепотом он стал ей рассказывать, как его нынче пригласил Постников. На мгновение Володе показалось, что тетка тоже что-то хочет ему рассказать, но он забыл об этом, потому что захотелось еще поделиться разными институтскими новостями, а потом сразу же надо было спать. Сон всегда скручивал его мгновенно, одним ударом сбивал с ног. Засыпая, проваливаясь вместе с раскладушкой во что-то мягкое и уютное, он услышал еще теткин голос про какие-то ее новости, но выслушать не мог — спал.
— Вот так-то, Шарик, — вздохнула Аглая и погладила будущего Эрнса по жесткой шерсти возле уха. — Никому до меня нету дела.
Шарик посопел носом и осторожно почесался — он очень себя берег и всячески соблюдал свое здоровье.
— А мне все про него интересно! — поглаживая пса за ухом, тихонько говорила Аглая. — Почему так? Да не скули, не больно тебе, мнительная какая собака!
Завтракали втроем, несмотря на сердитые телефонные звонки деда Мефодия, который кричал в трубку, что «девке не из чего по людям ночевать и людей объедать — чай, не нищие побирушки, изба есть и завтраком, слава богу, не обижены». Аглая настороженно поглядывала на Володю — спросит ли про вчерашние ее новости, но он не спросил. Варвара учила повеселевшего бывшего Шарика давать лапку, он рассеянно позевывал, отворачивался.
— Как ты думаешь, Эрнс поправится? — спросила Варя Володю.
— Угу! — ответил он.
— А почему он все зевает? Это не кислородное голодание?
Устименко промолчал.
— Не снисходит до нашей милости! — сказала Варя Аглае Петровне. — Великий человек, будущее светило.
— И рассеянный, как все великие! — подтвердила Аглая.
— Но великие люди не гнушаются обычными гражданами, ведь так? — осведомилась Варвара. — А ваш племянник гнушается.
Вдвоем — Аглая и Варя — сели на один стул и, обнявшись, принялись говорить про Володю так, будто его вовсе здесь не было.
— Он из тех, кто интересуется только собой.
— Дутая величина. Воображения больше, чем соображения.
Володя отсутствующим взглядом посмотрел на тетку и на Варю, спросил, который час, и вновь принялся рыться в своих конспектах.
— Еще из него, может, ничего и не выйдет! — предположила Аглая. — Внешне сама наука, а внутри пустота.
Варвара печально согласилась:
— Смотреть противно.
— Конечно, противно! — подтвердила Аглая. — Ведь фундаментальных знаний ни на грош, один только фасон. У нас на рабфаке таких называли «барон фон Мыльников».
— А может быть, он просто, Аглая Петровна, тупица и зубрила?
— Даже наверное. С ограниченным кругозором.
— Послушайте! — жалким голосом произнес Володя. — За что вы так на меня?
И вдруг Аглая заплакала. Но не так, как плачут обычно женщины, а по-особому, по-своему. Она даже смеялась, а слезы между тем, словно брызги, летели из ее глаз.
— Что ты, о чем? — совсем растерявшись, спросил Володя.
Только теперь ее бесполезно было спрашивать. Она не отвечала, подбирая пальцами крупные, словно горошины, слезинки. Варвара налила воды, Аглая подошла к окну, распахнула, высунулась наружу. Было видно, как вздрагивают ее плечи. Потом, внезапно успокоившись, сказала:
— Не обращайте, дети, внимания. Я что-то устала за это время, знаете, так бывает. Живешь-живешь — и устанешь. Ну, а теперь совсем трудно мне. Справлюсь ли?
— С чем? — тихонько спросила Варя.
— Со всем, — задумчиво ответила Аглая.
Накинула плащ и ушла.
Потом Варя, притворяясь хорошей девочкой, мыла посуду, а Володя читал газету и внезапно понял, о какой своей новости хотела давеча рассказать тетка. В «Унчанском рабочем» была напечатана заметка о конференции педагогов Каменского района и о том, что там выступила завоблнаробразом т. Устименко А. П.
— Ты понимаешь, Варя? — спросил Володя. — Ох, я свинья! Конечно, ей очень трудно, первые дни такой работы, и вчера, когда я вернулся… Ох, как паршиво!
Варя села, развязала тесемки фартука, кинула полотенце на стол.
— Ну скажи же что-нибудь! — велел Володя.
— Что?
— Ведь не так уж я виноват.
— Тут ничего не поделаешь, — вздохнул Варвара. — Ты такой! Самое главное твое не здесь, а там.
— Где там? И какое главное?
— Не сердись! — попросила Варя грустно. — Может быть, это и хорошо, но это трудно, Володя. Там, в институте, ты, наверное, вовсе не эгоист, но тут это даже страшно.
Удивительно, как умна бывала эта девочка. И как умела угадать самое существенное. Но тут же она сморозила дичайшую глупость.
— Мне цыганка нагадала, — сказала Варя, — знаешь, в прошлое воскресенье. Честное слово… не веришь — честное пионерское! Такая страшная цыганка, старая, носатая, глазища — во! Нагадала, что… в общем, про нас с тобой. Будто я тебе не нужна. Будто у нас с тобой разные дороги…
Володя молчал, отвернувшись, глядел на красные гроздья рябины под открытым окном, ежился от холодного осеннего ветра.
— Ну ладно, Варюха, я, конечно, скотина, — подавленно согласился он, — но не такая уж. Вот увидишь, переменюсь в корне. Буду чутким и, как его… есть еще всякие сахаринные слова…
— Ты не сможешь.
— А вдруг?
— Не сможешь! — повторила Варвара, глядя прямо в глаза Володе. — Тогда это будешь не ты. Это будет другой человек. А мне нужно, чтобы именно ты не ушел разной дорогой. Ты!
— А ты? — спросил он.
— Что я?
— Ведь и ты можешь уйти разной дорогой. Твоя дурацкая цыганка сказала, что у нас разные дороги, а не у меня.
Он подошел к Варваре и взял ее за руки повыше кистей. Любя ее, никак он не мог решиться сказать это словами. И не то чтобы не мог решиться, а просто стыдился. Скажешь: я тебя люблю, а она ответит: ну и что же? С Варьки все могло статься. Да и так она сама все понимает.
— Ты понимаешь, рыжая? — спросил он.
— Что? — простодушно ответила она.
Тогда он сжал ее запястья. Никак Володя не мог отвыкнуть от этих школьных мальчишеских штук — дергать ее за косы, крутить руки. Но сейчас ничего не получилось — маленьким дракам наступил конец. Чувство жалости и нежности было куда сильнее мальчишества, которое еще осталось в нем.
— Так-таки ничего не понимаешь?
— Ничего! — пряча лицо, ответила Варвара.






