Оренбургский платок Санжаровский Анатолий
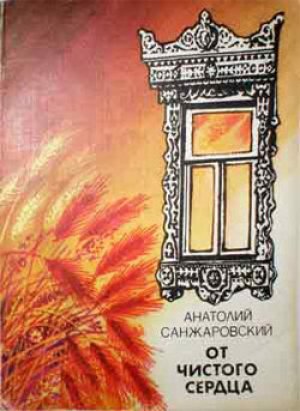
А при встречах попич отдувался и не забывал всё петь мне про свои симпатии.
– Знаешь, хорошуля, когда ты проходишь мимо окна, всё во мне холонет. Я дажь ложку роняю за обедом. Так вот... тому давно... как люблю тебя...
– Крепше держи, – шуткой отбивалась я.
А намедни какую отвагу себе дал! Эвона куда жиганул! Возьми храбродушный да и брякни:
– Айдаюшки, хорошава, убежим куда-нибудь!? А?..
Меня так и охлестнуло жаром.
– Это зачем же куда-нибудь, неразборчивый? Ты твёрдый маршрут выбрал?
– Выбрал! Выбрал! Не долбень какой... Парнишок я донный. Всё прошёл. На дорожку на мою не зобидишься... Потайной ходец знаю.
– К Боженьке на небко?
– Ну-у... Чего хмылиться? Нам туда рановатушко. Да и пока не званы-с. Нам, дорогомилая, абы ото всяческих глаз поодаль...
– Цо-опкий шуруповёрт! Бежал бы, дрыхоня, лучше спатушки. Не то ссохнешься, боров толстомясый!
– Ну-у, топотунчик, серчать не надо. Действует на красоту... Да, за щёку я помногу кладу. Так оттого цвету! Разь худо, когда мужик справный? Со мноюшкой ты б каталась, как на блюде. Хо-ольно б жила-была, как у Христа за пазушкой...
– Или ты перехлебнул? Ну с больша это ума, болток, подсаживаешь меня в чужу пазуху? Христа-то с пазушкой не путляй сюда. Может, ты библией тюкнутый иль праздничным транспарантом?
– Ну, на кой ты всхомутала на меня эту небыль? Библия меня не вманила и не вманит, как мой отче ни старайся. С библией мы в полном разводе. Так что ей бить не меня. И транспарантам не ломаться об мой хипок. По праздникам я на гуляшках не прохлаждаюсь.
– Какие мы святые...
Я отступно помолчала.
Поменяла песню да снова полезла в раздоры.
– Ты к Боженьке на ступеньку ближе. Должен знать... Скажи, вот в молитвах просят: «Хлеб наш насущный дай нам днесь». А почему просят-то каждый-всякий раз лише на один день? Боже наш, хлебодавец, весь в бесконечных потных трудах! А чего не напросить хлеба сразу на всю жизню?
– А зачерствеет! – и бесстыже, котовато так щурится.
Пыхнула я:
– Меньше, попёнок, жмурься! Больше увидишь!
– А всё надобное я так лучша вижу.
– Ой, балабой! Ой, и балабо-ой! Воистину, поповские детки, что голубые кони: редко удаются.
Плюнула в зле ему под ноги да и насторонь. К дому.
Он следом пришлёпывает. Дробит:
– Другонька... Ну чего в руганку кидаться? Чего кураж возводить? Чего капризы закатывать? Хорошество не вечно. Смотри, ломака, года тебе выйдут красные, докапризничаешься до лишней[3] !
– Те-то что за заботушка? Гли-ка, нелишний, прям на– расхап! Глянь спервачка на себя!
– А что?
– А то! Гляжу я тебе в лицо, а наскрозь вижу затылок. Эвона до чего ты, шныря, пустой! И все гайки у тебя в голове хлябают!
Глухой осенью наявляется Михаил.
Знает, где меня искать. Сразу на посиделки.
Только он через порог – мы все так и расстегнули рты настежь.
Вот тебе на-а!..
Разоделся в струночку! В лаковых сапожках... В троечке... Ха! Припавлинился!
Так у нас в Жёлтом не ходят.
Подружка моя Лушенька Радушина, – а была Лушенька ртуть-человек, девчоночка хорошенькая, как хрусталик, – прыг только на скамью, приветно затрещала:
– Песня тогда красивит, когда её поют!
И повела:
- – Много певчих пташечек в наших лесах,
- Много красных девушек в сёлах-городах,
- Загоняй соловушку в клеточку свою,
- Выбирай из девушек пташечку-жену.
Все наставили глаза на меня. Ждут не дождутся, что же я.
А я во весь упор вежливо смотрю на невозможного раскрасавца своего и – ах-ах-ах! – представляю, как бы должна сильно ресничками хлопать, раз сердечко при последних ударах.
Только чувствую, не трепещет моё сердечко.
Тут Лушенька толк, толк меня в плечо. То ли красику[4] кажет, кто его невеста, – а ну ошибётся в выборе? – то ли мне велит спохватиться.
Растерялась я. Первый раз в жизни растерялась девка-ураган.
Это им так на первые глаза казалось, как потом говорили мне. На самом же деле, ещё с секунду, я б упала на пол со смеху. До смерти распотешил меня весь этот концертишка с важнющим женихом.
Вижу, зовёт несмелой рукой на двор.
Я и выйди эдак небрежно с единственным желанием отбить непутёвому гулебщику охоту бегать за мной. Пора закрывать эту кислую комедию!
– Ну что, Ннюра, ты... сссогласишься?..
– Сбегать за тебя? – полосонула под занозу, с язвой.
– На коюшки торопиться?.. Чего бегать?.. Слышу, в голосе обида плотнеет. – Впросте выйти... Не на день... Да... Я хочу на те жениться...
– Всего-то и кренделей?
– Да-а... Вон все наши... тятяка, дядья там... уже покатили назад в Крюковку. А я за тобой и заверни...
«Ну тишкину мать! Вот Господь слепца навязал!» – про себя взлютовала я. А ему сказала, как отрезала:
– И не думай, и в уме не держи! За тридцать девять земель в тридесятое царствие я дажно и не собираюсь ехать.
– Ннну, что ж... Ззнать, не подберу я с тобой оообщий язык... Ввволя твоя... Ссилой в милые нне вввъедешь...
7
Глубину воды познаешь,
а душу женщины нет.
Побыл Михаил до конца посиделок, идём к нам. Какой гостильщик ни пустой, в ночь в дорогу не погонишь.
Идём, а моя Лушенька и кольни:
– Жених, а жених! Жениться приехал, а денег много? Вечёрку ладить будешь?
– Хватит и на вечёрку. Хватит и на свадьбу. Пятьдесят два рубляша! Золотой сезон!
Деньги эти и в сам деле большие. Две самолучшие купишь коровы и на магарыч с лихвой останется.
Вот и наш курень.
Открыла дверь мама.
Завидела незнакомца, с испугу вальнулась к стенке.
– Кто это? – шепнула.
Я пожала плечами. Прыснула в кулак Луша.
– Ма, – говорю я, – да не пугайтесь вы так гостя! Не довеку... Пускай до утреннего побудет поезда... А я пойду к Лушке.
– Об чём речи...
Мама накинула свету лампе, что мерцала у неё в руке, до крайности размахнула дверь в боковушку. Подняла на Михаила приветливые глаза.
– Проходьте, проходьте, гостюшка...
Поставила на стол лампу рядом с будильником, лежал вниз лицом.
– Оно, конешно... – мама взяла весело цокавший будильник, близоруко глянула на стрелки. – В три ночи горячими пельменями не попотчую гостюшку. Но кружка молока сыщется.
Михаил конфузливо попросил:
– Не надо... Я даве ел...
В ласке возразила мама:
– Я не видала, гостюшка, как вы ели... Покажете...
Опустила будильник на ножки. Вышла.
Пала тишина.
Слышно было, как удары будильника с каждым разом всё слабели. Будто удалялись.
– Сейчас станет, – в удивленье обронил Михаил.
– Всебеспременно! Далёкого дорогого гостеньку, – сыплю с холостой подколкой, без яда, – застеснялся. Гмм... Навовсе, блажной, заснул. Только что не храпит. Разбужу...
Я пошлёпала будильник по толстым щекам.
Молчит.
Не всегда просыпается от шлепков. Одно наверно даёт ему помощь – положить вниз лицом. Будилка у нас с припёком. Настукивает только лёжа. Вот взял моду. Всех побудит, а сам всё лежит лежнем!
Перекувыркнула – зацокал!
Вошла мама с полной крынкой вечорошнего молока. Налила доверху в кружку. Потом внесла на рушнике кокурку.[5]
– Прошу, гостюшка, к нашему к хлебу. – Высокую уёмистую кружку с молоком мама прикрыла хорошей краюхой кокурки. – Присаживайтеся к столу... Стесняться будете опосля.
Михаил вроде как против хотения – в гостях, что в неволе, – подсел к еде.
Мама заходилась стелить ему на сундуке.
– Покойной ночи, Михал Ваныч! – рдея, пропела Луша.
– Заименно, девушки, – на вздохе откликнулся Михаил и заботливо засобирал мякушкой со стола крошки – напа?дали, когда мама резала кокурку.
Мы с Лушей выходим.
На улице пусто, тихо, темно. Нигде ни огонёшка. Только у нас смутно желтело одно окно.
Луша посмотрела на то чахоточное окошко долгим печальным взглядом. Усмехнулась.
– Луш, ты чего?
– Чудно?... Жениху стелют дома у невесты. А невеста в глухую ночь – из дому!
– Не вяжи что попало. Какая я невеста?
– Нюр! А не от судьбы ль от своей отступаешься? Парняга-то какой!
– Ну, какой?
– Скажешь, тупицею вытесан?
– Вот ещё...
– То-то! С лица красовитый? Красовитый. Есть на что глянуть. Умный? Умный. Не подергу’листой[6] какой... Работящой? Работящой. Рукомесло при нём в наличности. Не отымешь. Штукатур! Сюда ж клади... Весёлый. Гармонист. Танцор. Обхождением ласковый... Обаюн[7] ...
– Стоп, стоп, стоп! Когда ж ты всё это разглядела?
– А вот разглядела... Подумай, ну чем Блинов не взял?
– Я давно-о, Луша, подумала. Есть Лёня. Больше мне никого не надо.
– Лёня да Лёня! Что в Лёне-то?
– А то, что в третьем ещё классе сидела с Лёнюшкой за одной партой!
– Хо! Стаж терять жалко!
– Жалко.
– А ты не жалей. В пенсионный срок могут и не зачесть! А выбирай вот я... Чёрные глаза моя беда. Я б потянула руку за Михал Ваныча. У Михал у Ваныча глазочек – цветик чернобровенький...
– Э-э, мурочка любезная, суду кое-что ясно... Похоже, скоропалительно врезалась? Во-он чего ты светишься вся, как завидишь его! Во-он чего дерёшь на него гляделки! Стал быть, иль нравится?
– Наравится не наравится... Тут, Нюр, ни с какого боку паровой невесте[8] не пришпилиться. За тобой, за горой, никого не видит... Красёнушка писаная совсем омутила печалика...
Где-то на дальнем порядке несмело ударила гармошка, и парень запел вполсилы. Трудно, будто на вожжах, удерживал свой счастливый бас:
- – На паркетном на полу
- Мухи танцевали.
- Увидали паука
- В обморок упали.
Луша было снова поставила пластинку про Михаила.
Я оборвала её. Да послушай, что поют!
Подгорюнисто жаловалась девушка:
- – Тятька с мамкой больно ловки,
- Меня держат на верёвке,
- На веревке, на гужу,
- Перекушу и убежу.
– Счастливица... Есть к кому бежать, – вздохнула Луша.
Парень вольней пустил гармошку. Взял и сам громче, хвастливей:
- – Запрягу я кошку в дрожку,
- А котёнка в тарантас.
- Повезу свою Акульку
- Всем ребятам напоказ.
Девушка запечалилась:
- – Меня маменька ругает,
- Тятька больше бережёт.
- Постоянно у калиточки
- С поленом стережёт.
И тут же ласково, требовательно:
- – Барбарисова конфетка,
- Что ты ходишь ко мне редко?
- Приходи ко мне почаще,
- Приноси чего послаще.
С весёлым укором отвечал парень:
- – Ах, девочки, что за нация:
- Десять тысяч поцалуев – спекуляция!
– Кому десять тысяч, а кому ни одного... – противно нудила Лушка. – Где справедливость?
И расстроенно, в печали проговорила:
- – На узенькой на лавочке
- Сидят все по парочке.
- А я, горька сирота,
- На широкой, да одна...
– Это дело исправимо. Так, значит, не видит тебя? – подворачиваю к нашему давешнему разговору. – Выше, подруженция, нос! Теперь завидит! Объяснились мы с ним нынче. По-олный дала я ему отвал.
– Не каяться б...
– Ни в жизнь!
Мы вошли в радушинскую калитку.
Из будки выскочил пёс с телка. Потянулся, лизнул мне руку... Поздоровался. Знает своих.
Уже на порожках остановила я Лушу.
– А что... Раз по сердцу, чего теряться? Не выпуска-аай, Жёлтое, такого раздушатушку!
– Ну-у... Ты всё с хохотошками. Всё б тебе подфигуривать[9] . А я, не пришей рукав, что, сама навяливайся? И как?.. «Здрасте, Михал Ваныч! Знаете ли вы, что я выхожу за вас замуж?»
– Не модничай!
– Всё одно поздно уже. Впозаранок встанет, поспасибничает да и кугу-у-ук!..
– Не спорю. Встать-то он встанет, никуда не денется. Выгостит до утра. А вот по части поезда... Это ещё как мы, подружушка, порешим.
– Нет уж, Нюр. Ничего не надо решать.
– Понимаю. Не рука тебе с ним первой заговаривать. Так на что ж тогда я? Кто я тебе? Названая сестра иль пустое место? Шуткой, пробауткой – это уж моя печаль как! – закину про тебя словко. А там как знает...
– Не надо, Нюра. Направде. Навовсе ничего не надо.
– Я ж слышу, не от своего сердца говоришь. Тихо. Котёл свой раньше не вари. Не лезь поперёд. Я старшей тебя?
– Ну?
– Не нукай. Отвечай.
– Ну... На месяц.
– Вот именно! Подчиняйся-ка, голуба, старшинству. Айда спатеньки. Утро вечера умнее.
Утром чем свет иду я назад, сочиняю развесёлые планы, как это свергнутому я раздушатушке своему стану экивоками подпихивать Лушку, ан вижу: мама и Михаил рыщут по двору с лампой.
В серёдке у меня всё так и захолонуло.
– Чего, – спрашиваю, – днём с огнём?
– У мме-ня, НнНюра... кко-шель... с день... га... ми... ппппро... пал... Вввот...
Михаил сильно заикался.
Только тут стала я помалу понимать, что произошло что-то ужасное.
На нём не было лица... Убитый, оторопелый, белее полотна, стоял он на свежем, – ночью, только вот выпал, – первом молодом снегу и совсем не чувствовал холода, совсем не видал себя, совсем не видал того, что одна нога была в лаковом сапоге, другая лишь в бумажном носке.
Где-то далече, за горой, глухо, будто со дна земли, заслышался паровозный гудок. (Мы жили тогда от путей метрах так в полусотне. Никак не больше.)
На ту минуту вернулась наша хозяйка.
По нашей по нужде квартирничали мы у одних молодых. Никогда молодайка – за кроткий нрав и смазливую внешность её звали куклёнком – никуда не носила своего мальчика (детей у них больше не было), а тут притемно ушла с ним вроде как к своей к свекрухе и вот вернулась.
Гадать нечего. Подозрение легло на молодуху.
– Пеняй на свою на доблестну невестоньку! – окусилась смиренная кукла. А самой злой румянец в лицо плесканул. – Эт она, твоя сродная любимушка, твой жа капиталец породственному подгу?ндорила[10] .Тепере и не жалае за тебя. Приспосоообчивая курёнка!
– Не верю твоим клеветным словам, дрянца ты с пыльцой! – открикнул Михаил. – Бреховня! Я пойду в сельсовет! Заявлю! На тебя заявлю, вяжихвостка!
– Оя! Выпужал до смерточки, молневержец... Да заявляй хоша в пять сельсоветов, укоротчик! Не держим. Только мы упрёмся – она спёрла! – И лошадино выкорячила зад. – Она! Она-с!
Михаил поднял усталые, шальные глаза.
– Раз ты, Ннюра, нне идёшь... раз ддденьги пппропали... Что ж мне?.. Ззагнать с себя всё до ниточки и вертаться бббобылём?.. За такое тятяка по головке не погладит... Сезон же весь в поту пахал!.. Как проклятый... И в одну ночь опал достатком! Нет, нет, нет уж!.. Нет уж!! Пускай лучше мои костыньки в Крюковку свезут, чем так!.. дурным голосом вскричал Михаил. – Ко всем лешим заявления!.. Ко всем лешим деньги!.. Он нас рассудит! – ткнул в огне рукой в сторону поезда.
А поезд уже грохотал навблизях. В упор так летел, будто сам сатана выпустил его стрелой из лука-поворота.
И наперехватки вихрем пожёг Михаил к рельсам.
Что было во мне мочушки кинулась я следом.
Кричу в слезах:
– Не смей!.. Не сссмей!..
Машинист подал сигнал. Зычный, тягучий.
Не знаю, что подхватило меня, не знаю, какая сила подтолкнула меня, только в единый миг оказалась я на вытянутую руку от Михаиловой спины, и хотя, падая на него, не словчила схватить за расстёгнутый ворот, за плечи, всё ж таки поймала за ногу. Хрястнулся он наземь, когда мы сравнялись с головой поезда. Я наползла на парня в момент, вцепилась в волосы и прижала лицом к крутой насыпи.
– Что ж ты, паразит!?.. Не смей!.. Я и без всяких денег пойду!.. Матерью клянусь! Только не смей!..
Я не знаю, слышал ли он мою клятву в белом грохоте колёс, что лились над нами в каком метре, только подмирился он с тем, что дальше нету ему ходу, и долго ещё белее снега неподвижно лежал после того, как поезд прошёл уже.
8
И крута гора, да миновать нельзя.
Себе в приданое выработала я и берегла большую хорошую паутиночку.
Думала ли я когда, гадала ли, что мне, самопервой на селе рукодельнице, первой девушке, придётся продавать тот платок, чтоб сыграть вечёрку не вечёрку, свадьбу не свадьбу, а так – собирались все наши сродники; думала ли, что придётся на те деньги за свой платок-приданок брать билет себе и наречённому до какой-то там его Крюковки...
А вот пришлось...
Собрались все наши за столом.
Как ни худо было, не поломала мама жёлтинский обычай преподносить невесте платок. Подарила.
Тут тебе на порог Лёня с товарищем.
Лёня и говорит Михаилу:
– Не ты жених, а я жених. Она должна быть не твоей, а моей. Тот пускай и будет жених, кто живой останется. Давай на таковских выйдем правилах!
– Давай.
Михаил сжал кулаки, встал из-за стола.
А был Михаил пониже Лёни, но шутоломно силён. Бога-тырей валил снопами! Куда с ним Лёне...
Мама вроде того и прикрикни на Лёню:
– Иля ты умом повредился?
– Да нет, Евдокея Ильвовна, покудова я от своего от ума говорю.
– Не затевай, Лёнюшка, чего не след. Даль всё сам узнаешь... И не вини никого... Не от своего сердца Нюра поворотила всё так...
Заскрипел Лёня зубами, заплакал, будто ребятёнок. Изорвал на себе белую рубашку в ленточки. Кепка его осталась посередь двора...
Михаил потом накинул её на колышек в плетне. Думали, придёт возьмет... Не пришёл...
(Стороной прослышала я после, уехал Лёня куда-то, долго не женился. Под самую вот под войну мальчика ему жена уродила. Только остался сынишка сироткой. Сгибнул мой Лёля на фронте.)
9
Своя воля страшней неволи.
Ну а мы, молодые, что?
Села я в слезах на поезд да и покатили.
Едем день. Едем два.
Едем голодные. Он меня не смеет, я его не смею. Во рту ни маковой росинки. А харчей – полнёхонька сумка!
А больше того не до еды мне совсем. Всё кумекаю, куда ж это тебя, девка, черти прут?
Дотянулись до ихней станции. На последние наняли на мои подводу до Крюковки.
Чуть свет – а холод, зуб с зубом разминается, – стучит Михаил в низ окна.
Сбежалась к одному боку занавеска гармошкой. В окне скользнуло женское лицо, и через мгновение какое растутнарастают в сенцах звуки тяжёлых, державных шагов.
– Маманя... Узнаю? по маршальской походочке...
Михаил не выпускает мою руку, боится, вовсе зазябну я. Становится попереди меня.






