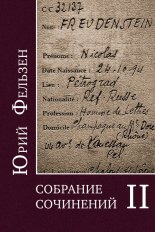Жили-были (воспоминания) Шкловский Виктор

Поэт в увлечении работой, в увлечении высказывания рад, когда говорит о горе. А горе остается горем, только приподнятым. Он приручает горе, оно приходит по свисту и уходит, как будто, когда надо. Его можно не привязывать.
Итак, Маяковский стал поэтом.
Давид Бурлюк давал ему в день пятьдесят копеек. Это большие деньги. У Достоевского Раскольников, доказывая, что он не с голоду убил, говорит, что ему давали за уроки и по полтиннику. Об этом полтиннике потом писал Писарев.
Итак, голода не было, почти что не было. Были выступления. Он читал доклады, разговаривал о черных кошках. Это черные кошки, сухие, которых можно гладить, они выделяют электричество.
Об этих кошках читали в докладах, и об этих кошках написано в трагедии «Владимир Маяковский». Смысл кошки такой: электричество можно добыть и из кошки. Так делали египтяне. Но удобнее добывать электричество фабричным путем, чтобы не возиться с кошками. Старое искусство, думали мы тогда, добывало художественный эффект так, как египтяне добывали электричество, а мы хотели получить чистое электричество, чистое искусство.
Доклады делались из таких тезисов. О том, чтобы печататься, не было и разговора, но можно было и выступать. А для выступления нужна была вывеска. Тезисы научил делать Николай Кульбин, такие тезисы, как будто турки заняли город и оповещают об этом под барабан. Тут Маяковский и надел свою желтую кофту. Кофт было две; первая — желтая. Желтый цвет считался цветом футуризма. Кофта была внизу широкая, с отложным воротником, материал не густой, так что сквозь желтую кофту — а она была довольно длинная — видны были черные брюки…
Вторая кофта была полосатая — желтая с черным.
Кофта понравилась больше, чем кошки. Это то, о чем легко написать. Газетчику тогда надо было давать простые двери для входа. Он дальше дверей и не шел.
О женщинах
Шекспир про одного человека сказал, что купидон его уже хлопал по плечу и не трогал его сердца.
В таком положении был Владимир Маяковский. Трагедия еще не была написана.
Были женщины, и были стихи про женщин. Дело давнее, разрешите мне вызвать несколько свидетелей для того, чтобы объяснить, что происходило.
Первый говорит Маяковский. Стихи называются «За женщиной».
- В расплаве меди домов полуда,
- дрожанья улиц едва хранимы,
- дразнимы красным покровом блуда,
- рогами в небо вонзались дымы.
- Вулканы бедра за льдами платий,
- колосья грудей для жатвы спелы,
- От тротуаров с ужимкой татьей
- ревниво взвились тупые стрелы.
Вторым говорит Глеб Успенский.
Это отрывок из вещи, называемой «Новые времена, новые заботы», из главы «На старом пепелище». Человек попал в такое положение, что к нему не приходят письма: перепутали фамилию. Он сидит и читает Рокамболя. Рокамболь ему нравится.
«Пожалуйста, господа романисты, берите краски для романов, которые пишете вы рабочему одинокому человеку, еще гуще, еще грубее тех, какие вы до сих пор брали… Бейте же в барабаны, колотите что есть мочи в медные тарелки, старайтесь представить любовь необычайно жгучей, чтобы она в самом деле прожгла нервы, так же в самом деле сожженные настоящим, заправским огнем… Так же невероятно и невозможно представляйте вы, господа романисты, и все другие человеческие отношения… Красота женщин должна изображаться особенно нелепо: грудь непременно должна быть роскошна до неприличия; сравнивайте ее с двумя огнедышащими горами, с геркулесовыми столпами, с египетскими пирамидами… Только с такими невероятными преувеличениями вы можете заброшенному в безысходную тьму одиночества человеку дать приблизительное понятие о том, что другим доступно в настоящем безыскусственном виде действительной красоты».
У Маяковского отношение к женщинам такое, как описал Глеб Успенский, с таким же преувеличением самой элементарной женственности. Это еще молодость.
Пушкин мальчиком рисовал юбку. Ноги, юбка — женщина не видна.
У Маяковского была жадность к жизни. А женщины были разные. Про женщин писали итальянские футуристы. Кое-что они в этом понимали. Маринетти писал так:
«Обесценение любви (как чувства или похоти) под влиянием все возрастающей свободы женщин и возникающей отсюда доступности ее. Обесценение любви вызывается также повсеместным преувеличением женской роскоши. Поясню это яснее: теперь женщина предпочитает любви — роскошь. Мужчина почти не любит женщины, лишенной роскоши. Любовник потерял всякий престиж. Любовь потеряла свою абсолютную ценность» (Генрих Тастевен, «Футуризм», Москва, 1914. Приложение — «Манифест о футуризме», стр. 14).
С достаточной ясностью видим, что у Маяковского отношение к женщине было не такое, как у Маринетти.
Женщина Маринетти — очень реальная женщина, буржуазная женщина, по-своему передовая женщина, женщина не любящая. У нее любовь заслонена всем тем, что когда-то дополняло любовь, вызывалось любовью. А теперь эти третичные свойства любви любовь заслонили.
Женщина Маяковского так, как он ее описывает, — не реальна. Это женщина первых желаний.
Она рассказана наивно, упрощенно, и это в то же время женщина.
Был такой кружок, сейчас в его помещении Прокуратура, но помещения не узнаете: дом надстроен. Когда-то там было Общество свободной эстетики. Там читали Андрей Белый, Бальмонт, там были фраки, платья, — все это описано у Андрея Белого. Сам я никогда там не был. Там был Бунин, молодой Алексей Толстой, длиннолицый, в кудрях, в шарфе вместо галстука. Когда-то здесь собирались делать восстание в искусстве, говорили о безднах, ссорились из-за характера этой бездны и из-за того, чья квартира, собственно говоря, эта бездна.
Ссорились, шумно выгоняя из нее Чулкова. Потом бездна была обжита, в ней висели, вероятно, синяво-серявые портьеры, скандалы были редки. Белый уехал, ходило много присяжных поверенных.
Здесь был центр Москвы, здесь было новое Благородное собрание.
Внизу был бильярд, туда ходил Маяковский.
Пускали — событие все же, московская достопримечательность. А бильярд был хороший.
Он играл на бильярде с полным самозабвением и искренностью, проигрывался, создавал свои правила, — например, что за последнюю партию не платит, и с других не спрашивал, и очень дорожил этим правилом.
Уже о Бриках, еще о кружке
Символизм в 1910 году уже растекся по журналам, обжился, расквартировался.
Думал он завоевать страну, а вот, оказывается, стал наемным войском, как были наемные варвары у римлян. Брюсов в «Русской мысли». Даже в журнале для семейного чтения «Нива» — и там символисты. Только Блок пишет мало.
Настоящий поэт Бальмонт потерял упор, потерял сопротивление.
Переводил со всех языков, читал бесконечно много, пил вино, писал стихи.
Он настоящий поэт, воин даже, только обезоруженный, расквартированный, ходит в тулупе или в каких-нибудь римских сандалиях, снятых с хозяина, и жена хозяина живет с ним, как с достопримечательностью, а он ставит самовары, рассказывает за чаем о походах, о Дании или о Дакии.
Шло чествование старого Бальмонта. Все было как у людей. Говорили речи академические, читали стихи, приветствовали, и Бальмонт, картавя, читал стихи. И тут выступил Маяковский. Он был отдельный, измученный, трагический, веселый, громкий.
Он говорил о Бальмонте и превосходно читал его стихи, гораздо лучше самого Бальмонта.
Он читал, как будто плавал широко по большому, много раз пересеченному морю. Он говорил про стихи Бальмонта с повторяющейся строкой; там повторялась строка:
- Я мечтою ловил уходящие тени,
- Уходящие тени погасавшего дня… —
а потом:
- Я на башню всходил, и дрожали ступени,
- И дрожали ступени под ногой у меня.
Маяковский говорил, что это прошло, и ступени прошли, повторение прошло, и прошли аллитерации.
В сущности, это было все очень пристойно. Но голос, величина выступления и то, что он так хорошо знал Бальмонта, вытеснило юбилей, как будто собирались выкупать юбиляра в теплой ванне, а пришел слон, и поставил в ванну ногу, и вынул потом ее оттуда — и нет воды, ванна сухая.
Заседание докончили с трудом.
Бальмонт талантливый человек. Позднее он приехал в Петербург. Он уже был признан седобородым Семеном Афанасьевичем Венгеровым и вообще университетом. Ему простили все за то, что он переводил с испанского.
Кроме того, в университете понимали, что литература должна продолжаться.
Есть в университете длинный коридор. К сожалению, сейчас коридор укоротили.
Университет стоит боком к Неве. У него двенадцать крыш, под ними когда-то находились двенадцать петровских коллегий. Университетский коридор соединял все двенадцать учреждений. Идешь и в самом конце видишь студента, и он совсем маленький.
По этому коридору провели в аудиторию Бальмонта. Перед аудиторией темная комната, потом большая аудитория, студенты в плотных сюртуках читали Бальмонту свои стихи.
Был доклад, где Бальмонта называли дедом русской поэзии.
Когда кончилось чтение стихов, встал Бальмонт и бросил отравленное «р»:
— Я неблагодарный дед. Я не признаю своих внуков. Это книги, эрудиция, а поэзия там, на улице, — и он указал на окно.
За окном был снег. Пусто, фонарей мало, напротив клиника Отто, а наискосок большая, голубая, в снегу, пустынная Нева.
Маяковского Бальмонт, конечно, понимал.
Осип Брик кончил юридический факультет и был женат на молодой женщине с большими карими глазами, очень красивой.
Брик много читал. Символистов, как мне казалось тогда, не любил.
Он был в Средней Азии, видел пустыню. Он с собой возил даже поэта, денежно ему помогал, и тот написал какую-то книгу под названием, кажется, «Пустыня и лепестки».
Дурного тона, благодаря воздержанности, у самого Брика не было. Сейчас он посмотрел на Маяковского и не подошел к нему.
Издали книгу в грубом полотняном переплете. Она называлась «Пощечина общественному вкусу». В ней был Давид Бурлюк и другой Бурлюк — Николай, Крученых, Кандинский, Маяковский, Хлебников.
Кончалась книга снова предостережением. Хлебников писал: «Взор на тысяча девятьсот семнадцатый год» — и дальше шли цифры падения великих держав, всего двадцать две даты, без всяких комментариев. Кончалась словами: «Некто 1917».
Раздел II
В нем шесть глав. В этих главах автор книги знакомится с Маяковским. Здесь же рассказывается о тогдашних критиках, о теоретиках искусства, о «Бродячей собаке», о том, как встречало наше поколение войну, и о том, что говорил о войне поэт Василий Каменский, о том, как мы любили и как мы ошибались. Здесь же рассказывается о революции и о том, как поэт стал весел и как он полюбил мир.
Петербург
Это был 1912 год.
В Петербурге я встретил Хлебникова. Только что прошел диспут, люди ушли, темно, уже сдвигают стулья. Белокурый Хлебников, как всегда несколько сгорбленный, стоял. На нем был черный сюртук, длинный, застегнутый на все пуговицы. Руку он держал около губ.
Шли диспуты, о них рассказывали много и неточно. Не всегда диспуты бывали шумные. Раз в Троицком театре читал Малевич Казимир.
Плотный, не очень большого роста, он читал спокойным голосом, говоря невероятные для публики вещи. Перед этим Малевич выставил картину: на красном фоне бело-черные бабы в форме усеченных конусов. Это была сильная, не случайно найденная вещь. Малевич никого не эпатировал, он просто хотел рассказать, в чем дело. Публика хотела смеяться.
Малевич спокойным голосом читал:
— Бездарный пачкун Серов…
Публика зашумела радостно. Малевич поднял глаза и посмотрел спокойно.
— Я никого не дразнил, я так думаю.
И продолжал читать.
Обычно же в первый ряд приходили офицеры, нарядно одетые, в мундирах, таких пестрых, что они отличались от дамских платьев главным образом отсутствием декольте и толщиной материи.
А сзади — студенты, курсистки.
Читал Бурлюк.
Публика первого ряда с недоброжелательным состраданием смотрела на его внизу обтрепанные брюки.
Выходил Николай Кульбин и все рассказывал спокойно, деловито. Давид Бурлюк показывал с волшебным фонарем новые картины, публика шумела.
На выставках молодежи было пустовато, непроданные картины висели в неоплаченном помещении.
А в двухкопеечных газетах шумели.
Это были опытные газеты с осторожной порнографией.
«Речь», в которой нагорные проповеди об искусстве читал Александр Бенуа, старалась не писать о Маяковском.
В «Аполлоне», журнале почти квадратном, на хорошей бумаге, футуристов старались не замечать. В «Русском богатстве» о них позднее писал Редько. В «Русской мысли» — Брюсов, совсем коротенько.
Но книги выходили. Правда, Бурлюк и Крученых выпускали их нервно, повторяя одни и те же вещи.
Крученых ходил в чиновничьей фуражке, книжки его были картинами. Их делала Ольга Розанова, раскрашивала, расфактуривала. Слово было орнаментом в картине. Живопись и литература еще не разделялись тогдашним искусством.
Маяковский стремился к театру.
В трагедии «Владимир Маяковский» — поэт один.
Вокруг него ходят люди, но они не круглые. Они — загородки, раскрашенные щиты, из-за которых раздаются слова.
Вот они.
Его знакомая (он — Владимир Маяковский). Ее характеристика: сажени две-три. Не разговаривает.
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет). Дальше идут Маяковские.
Человек без глаза и ноги, человек без уха, человек без головы, человек с растянутым лицом, человек с двумя поцелуями и обыкновенный молодой человек, который любит свою семью. А дальше женщины, все — со слезами. Слезы они приносят поэту.
Поэт сам — тема своей поэзии.
Поэт разложил себя на сцене, держит себя в руке, как игрок держит карты. Это Маяковский — двойка, тройка, валет, король. Игра идет на любовь. Игра проиграна.
Человек с растянутым лицом говорит:
- А из моей души
- тоже можно сшить
- такие нарядные юбки!
Это — тема Маяковского.
Маяковскому уйти некуда. Кругом свои, несчастливые Маяковские и поцелуи.
Неизвестно, что делать с поцелуями. Поэт даже искал рамку для них.
А с главной женщиной было так:
Маяковский сорвал покрывало, под покрывалом была кукла, огромная женщина, потом ее унесли на плечах.
Этот случай нам знаком.
Была вещь Блока — «Балаганчик».
Был роман, в котором соперник Блока называл себя «красным домино» и танцевал, вероятно, Арлекином.
В «Огненном ангеле» спор шел между Брюсовым, наемным воином и поддельным колдуном, женщиной Ренатой и Белым.
Пьеро и Арлекин влюблены в одну женщину.
Кругом куклы этнографического музея. Коломбина картонная. Пьеро поет:
- Он ее ничем не обидел,
- Но подруга упала в снег!
- Не могла удержаться, сидя!..
- Я не мог сдержать свой смех!..
- И под пляску морозных игол,
- Вкруг подруги картонной моей —
- Он звенел и высоко прыгал,
- Я за ним плясал вкруг саней!
- И мы пели на улице сонной:
- «Ах, какая стряслась беда!»
- А вверху — над подругой картонной —
- Высоко зеленела звезда.
То, что подруга картонная, указано во всех ремарках, и даль оказывается нарисованной. Люди — сам Пьеро — истекают клюквенным соком.
Мир поэмы «Владимир Маяковский», несмотря на сходство с миром «Балаганчика», совсем другой.
У Блока, который тогда все еще был символистом, люди, то есть герои вещи, — шахматные фигуры, условные контуры ролей, мерцающие подобно живым.
Они то становятся реальными, то перестают быть реальными. Содержание вещи в том, что мир сквозит, что он дематериализован, что все повторяется: девушка становится смертью, коса смерти становится косой девушки; а у Маяковского в его драме он сам, Маяковский, чрезвычайно реален. У него сапоги с дырками, и дырки очень реальные, овальцы дырок.
Владимир Владимирович очень хорошо знал, как снашиваются сапоги. И даже лавровый венок поэта реален. Маяковский хотел иметь настоящий лавровый венок на голове.
Еще стоит реальная женщина. Он только не прорвался к ней. Поэт пробует мир, и опрокидывает его, и уходит на улицу, на площадь, которую он так настойчиво называет «бубном».
Мир сам годен стать инструментом для издавания басистых звуков.
Даже слава реальна, и ее надо добиться.
Эту поэму или драму играли в Петербурге, на Офицерской улице. Блок жил недалеко, он пришел на представление, смотрел очень серьезно.
На дверях театральный механик написал: «Футуристы». Маяковский не стер надписи. Дело было не в этом, — во всяком случае, и это втягивалось в трагедию.
Декорации писал Филонов. Филонов — художник, пошедший от отреченной русской иконописи, от тех же росписей Ферапонтова монастыря. На декорациях были плотно изображены изогнутые люди, сделанные из превосходной краски, и большой, очень красивый петух, которого несколько раз перерисовывал Филонов. Маяковский радовался спектаклю.
Тысячелетний старик был нарисован и обклеен пухом. Женщина была на самом деле двух саженей.
А поэт тешился тем, что эти вещи и люди существуют вне его, что на них можно смотреть.
Другие Маяковские, скромные ученики-актеры, говорили робкими голосами.
Публика то веселилась, то подчинялась поэту.
Публика думала, что она играет поэтом, что вообще дело идет в шутку, а потом она пойдет домой и все будет по-старому.
В этом же году Маяковского издали литографским способом в Москве, книжка называлась «Я», она полурисуночная. Рисунки Чекрыгина и Льва Шехтеля. Рисунки сами по себе, на них даже собственные подписи, зеркально написанные.
О критике
Александр Бенуа был очень культурным человеком, умело пишущим статьи. Рисунки его связанны, неточны, картины лучше. Он умел срисовывать и комбинировать уже созданные другими красивые вещи. В «Речи» этот человек вел систематические проповеди об искусстве. В таких проповедях как будто ничего не доказывалось, даже необходимость введения в России ответственного министерства при сохранении имущественного ценза, ничего в них не говорилось о проливах, только были статьи об искусстве. Энциклопедические словари перечисляли тогда все вопросы и заваливали читателя необыкновенным количеством имен. Биографические словари перечисляли биографии так подробно, что обычно они обрывались на букве «В». Про великих людей писали с полным беспристрастием и даже с сострадательным неуважением.
Доказывалось, что эти люди в общем такие же, как и мы.
«Речь» считала себя хранительницей русской культуры, определяла добро и зло, красоту и звучность стиха. О выставках Александр Бенуа писал широко и сдержанно. Репин для него — это уже отстало; Ларионов и Гончарова — это дикари. Истина в «Мире искусства». Он признавал Петрова-Водкина, чтобы им пугать Репина.
Про кубизм Александр Бенуа писал, несколько теряя равновесие, и назвал свою статью «Кубизм или кукишизм».
Когда Ларионов давал свои картины в «Мир искусства», то о нем писали сдержанно и, пожалуй, даже с уважением.
Спор шел о гегемонии в искусстве. Самому Бенуа нравились темно-коричневые, умело нарисованные картины академических эпигонов с античными сюжетами. Бенуа был меньше Дягилева, он не добился для своего товара мирового рынка.
Но своего газетного места он был достоин. Это был высокий лицемер. Самая его одаренность, неполная, делала его особенно пригодным для пастырства.
Бенуа писал и о русском искусстве. Иконописи он не понимал, но сочувствовал. Хвалил русскую архитектуру, прославлял русских живописцев XVIII века, хотя ни Боровиковский, ни Левицкий с «Миром искусства» не имели ничего общего.
Бенуа либерально рассказывал все мировое искусство, как оно медленно развивалось к «Миру искусства».
Считалось, что времени не будет. Будет блок благонамеренно думающих людей, и человечество, правильно развиваясь в общем и целом, достигнет наконец умения носить воротнички, читать утреннюю газету, думать об ответственном министерстве.
Предполагалось, что все развивается правильно, нормально, хотя несколько замедленно. Достиг же моллюск чести сделаться прародителем Александра Бенуа, который, может быть, напишет историю живописи. Несколько портил картину Лев Толстой: его нельзя было объявить ни некультурным, ни бездарным, ни даже отсталым.
«Речь» очень хотела использовать Льва Толстого для того, чтобы придать себе вид общенациональной оппозиции.
Конечно, никакого дела ни до толстовского бога, ни до толстовской критики существующего строя «Речи» не было.
Не было ей дела и до литературы. И поэтому она мешала многим литературу понять.
Куоккала была расположена в двух километрах от границы. Дача Корнея Ивановича Чуковского с краю Куоккалы.
Рядом с ним — большой каменный забор. У него последняя дача, перед которой есть пляж.
Пляж каменистый, песчаный. Дача выходит на море нешироким и неокрашенным забором. Дальше от моря участок расширяется. Дача стоит на берегу маленькой речки.
Она двухэтажная, с некоторыми отзвуками английского коттеджа. Корней Иванович много работал в газете, он тогда не писал еще детских вещей. Но работать ему приходилось часто. Нервы его были утомлены, и он, как и Леонид Андреев, зимой жил на даче. Недалеко дачный театр, куплен Репиным, называется «Прометей». Это огромный сарай, бревна, поддерживающие крышу, раскрашены под мрамор. Здесь играют любители, бывают балы.
Духовой оркестр, военный или местный, финский, любительский. Военный приходит из Белоострова, у них желтые трубы. У финнов трубы никелированные.
Вечером оркестр.
Большое, хотя оно и залив, море волнами ложится на песок, песок пористый, как сукно, и волны шумят глухо.
В небе и днем и ночью обычно идут тучи, как будто переливают простоквашу.
Тут дачники. Николай Иванович Кульбин дачу снял, Евреинов Николай тоже. Волосы зачесаны назад, подстриженный, очень красивый, официальный садист, выпустил книгу «История телесных наказаний в России».
К нему придешь — он похлопает в ладоши, придет горничная, молодая и толстая. Евреинов скажет:
— Подайте фазанов.
Горничная отвечает:
— Фазаны все съедены.
— Тогда дайте чай.
Это называется театр для себя. Об этом есть в книжке. И тут же ходит влюбленный в Сашу Черного молодой Лев Никулин.
У Корнея Ивановича кабинет в верхнем этаже дачи. К нему даже зимой приезжают писатели. Он пишет в «Речи». Но в «Речи» его не любят, больше терпят за талантливость.
Я был молод, ходил в дешевых коротких штанах, носил матроску. Плавал в лодке от края дачной местности, которую называли Олилло, к Корнею Ивановичу.
Весной над Куоккалой летят птицы. Там проходит большая птичья дорога. Весной там белые ночи. И птичье движение не прекращается. Сосны, песок, болота между песками, вокруг горизонта розово, над головой синева. Солнце проходит по краю земли, чуть-чуть пригнувши голову. А птицы летят к себе на родину, далеко.
У них родина есть.
Бунтарские стихи молодого Маяковского отметил Чуковский в альманахе «Шиповник» в 1914 году.
С Маяковским он познакомился раньше, в той же Куоккале, рассказывал о нем, сделал лекцию, проехал с лекцией по всем провинциальным городам, стараясь объяснить футуризм. Корней Иванович был человек универсальный, он все старался понять.
«Критик так и должен поступать, иначе к чему же и критика! — и если он сам, например, хоть на час не становился Толстым или Чеховым, что же он знает о них! Клянусь, я уже был в свое время и Сологубом, и Блоком, и даже Семеном Юшкевичем. Нужно претвориться в того, о ком пишешь, нужно заразиться его лирикой, его душой, итак, с настоящей минуты я — уже не я, а Бурлюк. Или нет, — Алексей Крученых!
- Сорча, кроча, буга на вихроль!
(«Альманах издательства «Шиповник», 1914, кн. 22-я, стр. 107.)
К Маяковскому Чуковский снисходителен.
«И, конечно, я люблю Маяковского, эти его конвульсии, судороги, сумасшедше-пьяные всхлипы о лысых куполах, о злобных крышах, о букете из бульварных проституток, о городских миражах и бредах, но ведь, шепну по секрету, Маяковский иллюзионист, визионер, Маяковский импрессионист, он им чужой совершенно, он среди них случайно, и сам же Крученых не прочь порою похихикать над ним. К тому же город для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие, Голгофа, терновый венец, и каждое городское видение для него — словно гвоздь, забиваемый в самое сердце. Он плачет, он бьется в истерике:
- Кричу кирпичу,
- слов исступленных вонзаю кинжал
- в неба распухшего мякоть! —
и хочется взять его за руку и, как ребенка, увести отсюда, из этого кирпичного плена, куда-нибудь к василькам и ромашкам. Хорош урбанист, певец города, если город для него застенок, палачество! Он даже с толпами города не умеет, бедняга, слиться и от этого еще горше рыдает». («Альманах издательства «Шиповник», 1914, кн. 22-я, стр. 124.)
Но это только начало. Критик ведет снижение дальше.
«Вот Николай Бурлюк, анемичный, застенчивый, кроткий, вот Маяковский, симулянт сумасшествия, огненности, а на деле (открыть секрет?) кропотливый, тщательный шлифовщик мозаически склеенных образов, такой же эпигон модернизма; вот Хлебников, до дна себя исчерпавший в первом же своем стихотворении и живущий одними процентами с этого большого капитала…» («Альманах издательства «Шиповник», 1914, кн. 22-я, стр. 150.)
Хлебников в то время, когда писал Чуковский, уже обнародовал свои поэмы, уже давно был известен «Зверинец», но так смешнее, так удобнее для читателя, чтобы все были маленькие.
Лекцию Чуковский читал повсюду. Выступали футуристы. Доклад в Тенишевском училище прошел хорошо.
Спокойно занял эстраду Маяковский.
С отчаянием читал Крученых — и поколебал зал.
Мурлыкал, закинув голову, Игорь Северянин. Хлебников не выступил.
На доклад пришли Ле Дантю и Илья Зданевич.
У обоих лица разрисованы не без кокетливости.
Пристав очень вежливо, наслаждаясь сочувствием аудитории, выводил их из зала.
Кульбин. «Бродячая собака». Диспуты
Я был в то время футуристом.
Учился в университете, еще в гимназии начал лепить. Скульптором не сделался. Через скульптуру понял живопись, был связан с Союзом молодежи.
С футуристами московскими я не был связан. Знаком был с доктором Николаем Ивановичем Кульбиным.
Это был одаренный человек, хорошо мыслящий, в живописи дилетант. Он рисовал картины под сильным влиянием импрессионистов, любил Блока, Судейкина. Он верил во влияние солнечных пятен на революцию, верил в то, что камень падает на землю потому, что ее любит.
Он рисовал женщин с многими ногами, чтобы изобразить их танец, и был умен.
Я пришел к нему. Он мне обещал гениальность, дал денег и давал их каждый месяц. Велел спать не менее десяти часов в сутки, есть сыр с маслом без хлеба.
Кульбин был из многих людей, которые хотели мира в искусстве. Мир он затеял устраивать как раз перед самой войной. Кульбин говорил, что появилась новая муза — Технэ.
Это — муза мастерства, ремесла, поднятого до искусства.
Это было противопоставлено символистам.
Это было серьезно.
Блок приходил к Кульбину разговаривать.
Технэ развивалась, у ней было предчувствие борьбы за новое мастерство. А кончилось все это преступлениями эпигонов. Появился Шенгели лет через десять и начал писать книжки — «Как писать статьи, стихи и рассказы».
Книги эти объявлялись вместе с учебниками «Как заливать галоши», но были дешевле их — девяносто копеек.
Еще дешевле было «Как кормить канареек» — пятьдесят копеек.
Вот до чего дошла Технэ.
Но эта техника — не техника Технэ. Это самодовольство людей, не понимающих изменений в искусстве.
Для них Кульбин, например, был дилетант.
А он и был дилетант, но дилетантом себя называл также Герцен.
Слово это разнозначащее.
Кульбин хотел издавать журнал, в котором вместе были бы Блок, Евреинов и футуристы.
У него были ученики, он был учитель жизни. В иудах, по его словам, при нем состоял Б.
Что было тогда продано Б. и кому — не помню. Этот человек был поэт-издатель. Были такие слабые поэты, которые подбирали людей, чтобы с ними издаться. Так евреи в Одессе платили за десять русских, для того чтобы сына приняли в коммерческое училище.
Нет, Б. не был иудой. Он просто был пятое, запасное колесо на автомобиле, но колесо без шины.
«Бродячая собака» помещалась на Михайловской площади, во втором дворе. Пройти можно бы и с улицы, но надо было собираться в подвале и надо, чтобы подвал был на втором дворе. Это был центр города. Спуск, своды. Своды расписаны Судейкиным. Камин, окна заставлены. Здесь собирались люди. Это была организация театральная. Начали с того, что хотели, вероятно, пересоздать театр, а вышло, что пьют вино.
Во главе был Пронин Борис, человек, который, вероятно, никогда не спал ночью.
Он режиссировал «Бродячую собаку» много лет: вечер и ночь писателей и художников.
Здесь ходил Кузмин с зачесанными на голый череп волосами, с прямо обрезанными щеками. Он был похож на только что постаревшую старуху. Здесь был Георгий Иванов, вероятно красивый, гладкий, как будто майоликовый, и старый Цибульский, и Пяст, и Радаков из «Сатирикона», и раз даже зашла Нагродская.