Судьба и другие аттракционы (сборник) Раскин Дмитрий
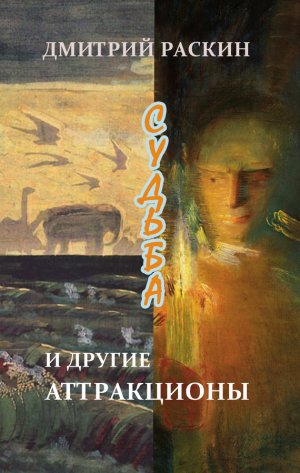
Земля второй попытки
1. Альфа и Омега
Кели первым, как и положено вожаку, подошел к добыче. Ударом заостренного камня, в один удар, как умеет только он, пробил вздувшееся брюхо гигантского быка, сунул руку, рывком вытащил кишку, откусил от нее, откусил еще раз к восторгу всего племени предвкушающего трапезу, пиршество, неделю абсолютной сытости. Потрепал волосы счастливого, распираемого мальчишеской гордостью Тови, ведь это он нашел падаль. Указал на Драя – вот, кто подойдет к туше вторым. Все поняли, что это значит. И Драй понял. Вожак признал его силу, его право. Стоящие за спиной Драя Рет, Крер и Оу устыдились своей вчерашней робости, своего минутного страха перед тем как шагнуть вслед за ним, когда он встал на пути вожака. И вот теперь они сами сильны, как Драй. А Кели отступил и это только первый шаг назад, сделанный им перед лицом их силы. Скоро он сделает второй, третий, а потом…
Драй вышел из толпы. Медленно, очень медленно направился к туше, под восхищенными взглядами одних, под недоверчивыми других, под враждебными, угрюмыми взглядами приспешников Кели… Таги, младшая жена Драя, от волнения и гордости за своего мужчину потекла.
Драй подошел к туше, он благодарил Кели. Эта благодарность сильного за то, что его избавили от необходимости доказывать свою силу, драться за признание очевидного факта своей силы.
Кели обнял его. «Да. Ты второй, Драй. Это так». Драй ответил объятием, склонил голову перед Кели, подставил свой затылок под поглаживание вожака. «Да. Я второй. Это так». Но голова его склонена в неглубоком, чисто символическом поклоне. «Я второй сегодня. А завтра, как знать, уже я поглажу твой мощный загривок своей снисходительной, примиряющей тебя с твоей новой судьбой ладонью». Лицо Драя выражало счастье.
Кели ударил камнем в то самое место, на котором только что держал свою благостную длань мудрого и несколько уже уставшего от собственной власти вожака. Ударил тем своим камнем, которым пробил брюхо гигантского быка. Голова Драя оказалась куда податливей.
Ужас племени, переходящий в восторг. Под этот «переход» Кели помочился на труп своего врага, на кровавое месиво затылка того, кто только что был «вторым».
По кивку Кели несколько его присных бросились к женам Драя, вырвали у них детей. Одного, грудного, просто сломали об колено. Трех других, что постарше, убили дубиной, вышибли им мозги. Две жены Драя с криками катались по земле, раздирая себе лица в кровь, младшая жена Таги мертвой хваткой вцепилась в ногу того, кто тащил тельце её ребенка к обрыву.
Племя по знаку Кели набросилось на бычью тушу. Они съели примерно треть. Остальное было завалено камнями и кусками льда.
К концу трапезы жены Драя присоединились ко всем, успели взять, соскрести с костей сколько-то мяса. Потом, когда наевшееся до отвала племя улеглось, стервятники наконец-то сумели заняться костями.
Глеба снова рвало, выворачивало наизнанку, пусть давно уже было нечем, тем мучительнее были спазмы.
– Ничего, ничего, – не отрываясь от иллюминатора, говорит ему профессор Снайпс. – Вы не должны стыдиться, молодой человек. Мы все с этого начинали.
– А теперь у нас у всех то, что обычно называют профессиональными деформациями, – добавил Энди перед тем как надкусить свой бутерброд.
– Вам надо было это увидеть, господин проверяющий, инспектор или кто вы там? – бросила Глебу Ульрика. – До того как вы приметесь поучать нас, объяснять, что мы делаем не так.
– Вы, Глеб, – Энди сделал глоток кофе из своей чашечки, – очевидно, сейчас в затруднении: пространство вы пересекли или же время? То есть вы на планете номер сто двадцать пять три нуля шестьдесят восемь или на нашей исконной Земле этак сто или двести тысяч лет назад? Так я вам скажу: на Земле и похуже было.
– Тебе ли, Энди, не знать, – мрачно съязвила Ульрика.
– Во всяком случае, мы здесь не видели прелестей антропофагии, – парировал Энди. – А человечество тем не менее прошло-таки путь, – Энди глянул в иллюминатор, – от Кели до профессора Снайпса и инфженера-генетика Ульрики Дальман – бескорыстных рыцарей Добра.
В иллюминаторе было видно, как Кели взгромоздился на Таги, младшую жену Драя. Та закрыла глаза от отвращения, но после нескольких его быстрых мощных движений начала получать удовольствие от процесса. И вот уже ритм у них становился общим.
Глеб согнулся пополам от нового рвотного спазма.
– Энди, почему ты так упорно, догматично отрицаешь качественную разницу между всем вот этим, – Ульрика кивнула на картинку в иллюминаторе (они смотрели с расстояния метров пятнадцать-двадцать), – и земным палеолитом?
– С удовольствием, с превеликой радостью перестану отрицать, как только ее обнаружу. – Энди допил свой кофе. – А пока что я и количественной не выявил. Всё остальное, милая Ульрика, это уже нервы, воспитание, культура. Не более. Но «качественная разница» неплохо успокаивает твою совесть, не правда ли?
– Заткнись, – огрызнулась Ульрика.
– А наш герой тем временем, – Энди наблюдал в иллюминатор за финальными содроганиями Кели, – в очередной раз воспроизвел свои доминантные гены.
– Знаешь, Ульрика, – сказал профессор Снайпс, – я, как и Энди, не вижу «качественной разницы» и это ничуть не мешает мне делать свое дело, реализовывать свой план, в полном сознании собственной правоты.
– Это отсутствие разницы, в котором вы, профессор, убедили себя, мне кажется, вас и вдохновляет. Скажете, не так? – Ульрика говорила спокойно и зло.
– А ведь ты права, – кивнул Снайпс после некоторой паузы. И тут же Глебу:
– Но вы, молодой человек, не обращайте внимания. Это наши старые дрязги.
Глеб наконец сумел распрямиться, вытер салфеткой лицо. Механический уборщик тут же вытер за ним на полу и забрал салфетку.
– Я всё понимаю, профессор Снайпс, – начал Глеб, – и ваш пафос, что сквозил во всех ваших донесениях на Землю…
– Слишком книжно, мой мальчик. – В этой рисовке профессора Снайпса была и самоирония, во всяком случае, так показалось Глебу. – Скажи проще: созерцание подобных картинок, – профессор кивнул на иллюминатор, – вызывает вполне определенное нравственное чувство. И чувство это требует отбросить всю эту нашу терапию, дабы перейти к вполне хирургическим методам. При этом разум осуждает сам наш эксперимент как безответственный, непредсказуемый по последствиям и терапию нашу считает аморальной. Ты, сынок, сдается мне, человек разума, так?
– Я не знаю, профессор. Оказалось, не знаю.
Энди подал Глебу стакан воды. Тот машинально взял, сделал большой глоток, закашлялся.
– Думаю, отведенного мне времени хватит, чтоб разобраться, – сказал Глеб.
– В самом деле? – усмехнулась Ульрика.
– Ладно, Ульри, – остановил ее Энди, – не дергай его. Ему и так сегодня досталось.
– Кстати, профессор, – Ульрика переключилась на своего босса. – Вы хорошо всё сказали, как всегда, впрочем.
– Из такого вступления следует, – пояснял Глебу профессор, – что юная леди сейчас нанесет беспощадный удар.
– Но, – продолжала Ульрика, – есть одно «но», сэр. То, чем вы занимаетесь, и есть хирургия.
– Я же говорил! – обрадовался Снайпс.
– При всем моем, деликатно говоря, несочувствии ее теориям, она права, профессор, – сказал Энди.
– Я попробую… я должен понять здесь. – Глеб допил воду и смотрел, куда можно поставить стакан.
Механический уборщик забрал у него стакан и смахнул несколько капель воды с его одежды.
– Похвально, Глеб. – Ульрика подошла к нему вплотную. – Понять, разобраться, это хорошо. Так вот для полноты понимания: Драй родной брат Кели.
– Что вы хотите этим сказать? – насторожился Глеб.
– Но здесь некому спросить: «Кели, Кели, где брат твой, Драй? Во всяком случае, пока, – ввернул Энди.
– Заткнулся бы ты лучше, а?! – эта почти до слез злость Ульрики.
– Всё, пора, – скомандовал Снайпс. – Энди, приступай.
– Есть, сэр. – Энди встал за пульт управления. – Но я остаюсь при своем мнении.
Невидимый и неслышный для племени аппарат землян оторвался от грунта и завис над стоянкой. (Старт аппарата для племени был внезапной волной мощного, но тут же затихшего ветра.)
– Может быть, вы все-таки скажете мне, что собственно… – попытался Глеб.
– После, мистер Терлов, после. На сегодня ваше дело только смотреть, – оборвал его профессор. Добавил примиряющее:
– Завтра, на станции я отвечу на все ваши вопросы. – Повернувшись к Ульрике:
– Прошу вас, мисс.
Ульрика разблокировала излучатель и нажала пусковую кнопку.
На поляне племя собирало ягоды. Что-то на первый взгляд похожее на дикую клубнику, но куда крупнее и с большой коричневой косточкой внутри. Если ягода съедалась, косточка не выбрасывалась. Они складывали косточки в выдолбленный из куска дерева чан. Интересно, что они приготовят из косточек после? В такой же чан, стоящий рядом складывались целые ягоды. Впрочем, они не только делали запасы, но и угощали друг друга. Поначалу это показалось Глебу какой-то любовной игрой. Но оказалось, угощали не только юноши девушек, девушки юношей – все угощали всех. Кажется, все здесь были сколько-то влюблены во всех.
Со стволов деревьев они снимали то, что Глеб принял за грибы, но это оказалось чуть ли не устрицами какими-то.
– Да-да, мы так и назвали их сухопутными устрицами, – усмехнулся Энди.
Устрицы давались нелегко. Они снимали их специальными палками. Малейшая неточность и устрица длиной сантиметров тридцать-сорок вместо того, чтобы быть насаженной на острие падала вниз и разбивалась вдребезги. То, что было снято с дерева невредимым, опять-таки складывалось в специальный чан.
– Кажется, здесь торжествует трудовая теория происхождения человека, – сказал Энди.
Глебу показалось, что он издевался не столько над трудовой теорией, сколько над Ульрикой.
– Интересно, – продолжил Энди, – сколько тысячелетий уйдет у них на то, чтобы они догадались выращивать устрицы возле своих жилищ на маленьких столбиках?
– Спроси у нашего шефа, – фыркнула Ульрика.
– Я подумаю, – кивнул профессор Снайпс.
– Уж сделайте милость, – состроил гримасу Энди, – очень хочется дожить до результата.
Ну да, конечно, думал Глеб, они ускоряют чужой прогресс. Зло это или же благо, веками этот спор был умозрительным для человечества, и вот теперь ему – Глебу придется быть в нем чем-то вроде арбитра, оценивать первые результаты.
Они угощали друг друга сочным мясом устриц… Ни сколько-то значимой иерархии и уж точно никакой борьбы за иерархию, никаких группировок и прочего. Все радовались всем. Радовались теплому светлому дню, солнышку, небу, самому ходу жизни. Вот юноша замер, пораженный красотой пейзажа. Вот девушка зачарована игрой светотени в листве.
– Такие картинки, я полагаю, вам несколько больше по вкусу, мистер Терлов? – усмехнулся профессор Снайпс.
– У меня они вызывают примерно тот же рефлекс, что был у нашего гостя при знакомстве с племенем Кели. – Тут же встрял Энди.
– То племя мы называем племенем альфа, – пояснила Ульрика Глебу. – А это племя омега, – сказала Ульрика с придыханием.
Энди хихикнул.
Двое мужчин вынесли на поляну старуху с парализованными ногами, усадили ее на траву, вручили огромную устрицу, положили перед ней пригоршню ягод на большом листе.
– Племя альфа, если отвлечься от наших эмоций, не показало ничего такого, чего не могли бы сделать наши предки на Земле. Эти же, ой, извините, племя омега пока что не потрясло каким-то немыслимым для Земли добром или же недоступной земному человеку гармонией, – комментировал Энди.
Ульрика возмущенно отвернулась.
– Да-да, он прав, – профессор говорит Ульрике, не отрываясь от иллюминатора, – всё меркнет по сравнению с моей добротой и снисходительностью как руководителя проекта.
На поляне возник спор. Двое мужчин собирались выяснить отношения. Ну, точно, из-за женщины.
– Кажется, сейчас сцепятся, – говорит Энди. – Никакого уважения к многолетним усилиям профессора Снайпса. Полнейшее презрение не только к Ульрике Дальман, но и к генной инженерии в целом.
Женщина, которая была предметом раздора, подошла к конфликтующим, обняла сначала одного, потом другого, что-то такое шептала каждому, успокаивала и успокоила, примирила их друг с другом и с ситуацией. Потом отдалась сначала одному, потом другому. И всё так по доброму, искренне, человечно. И в мужчинах не было (теперь не было?) того, что писатель когда-то назвал «жестоким сладострастием».
– А ведь что-то в этом есть, – кивал каким-то своим мыслям Энди. – Но, обратите внимание, сейчас победила природа, социальная природа этих людей, а не вся эта генетическая модуляция по методике нашей Ульрики.
– Вот и хорошо, что природа, – ответила Ульрика. – Слава богу, что природа. Значит, мы помогаем природе, а не насилуем ее.
– Блажен, кто верует, – усмехнулся Энди.
– Я понимаю, конечно, – Ульрика обращалась к профессору Снайпсу, – помогать природе не столь престижно, конечно, нежели создавать ее вновь, не так захватывает дух…
– Вам не надоело еще, мисс? – профессор морщился как от зубной, пусть и не острой, но всё-таки боли. – Сколько можно?
– А сколько можно вам? – не унималась Ульрика.
– Ничего, я уже близок к тому, чтобы найти ген занудства, – профессор попытался разрядить обстановку, – и вот тогда мы решим проблему Ульрики раз и навсегда.
– А вот это уже грань, профессор, – подхватил Энди. – Та самая, за которой генная инженерия посягает на саму суть человека.
Но даже благодаря его усилиям обстановка не разрядилась. Чувствовалась, что и профессор и Энди подхлестывают самих себя, принуждают самих себя к остроумию и жизнерадостности.
– Мы давно уже стали заложниками собственного эксперимента, – поясняла Ульрика Глебу, – но остановиться будет большим преступлением, нежели довести до конца.
Глеб вздрогнул от этого слова, профессор и Энди и ухом не повели. Видимо, «преступление» здесь давно уже стало затертым штампом, Глебу сделалось нехорошо.
Все участники любовного треугольника приступили к сбору ягод на поляне.
– Послушай, Ульрика, – повернулся к ней Энди, – неужели твое христианское чувство не восстает? – он указал на «треугольник», – неужели твое прошлое христианской миссионерки не требует…
– Если нет насилия, – не дала ему договорить Ульрика, – если любовь, – то это и есть христианство… То есть оно будет, когда придет время.
Троица на поляне, кажется, решила повторить.
– Э-э, ты куда, деточка, – скептическая гримаса профессора, – а ведь ты принуждаешь себя сейчас, пусть и со всей искренностью… Душа-то, хе-хе, требует иного. И ручки-то тянутся к генномодифицирующему скальпелю?
– Душа перебьется! – резко сказала Ульрика. – И по куда как более важным поводам. А уж из-за таких пустяков. Есть и другие, отличные от наших, формы доброты и человечности. Понимаю, что это легче провозглашать, чем…
– Пора, – перебил ее профессор.
– Да, сэр. – Энди встал к пульту.
Невидимый для людей на поляне аппарат поднялся и завис над ними, только внезапный, но тут же улегшийся ветер сдул ягоды с листа, лежащего перед женщиной с парализованными ногами.
Ульрика разблокировала распылитель и нажала пусковую кнопку.
2. Станция
Расположенная на горном плато с высоты она была похожа на жилище каких-то богов, но не олимпийских, а, наоборот, хтонических. И все эти модули, кубы лабораторий, вся эта техника – всё должно было находиться под землей и лишь по чьей-то нелепой прихоти оказалось в верхней точке, над ландшафтом. Но когда они приземлились, вышли из кабины аппарата, это чувство исчезло. Космодром как космодром, лаборатории, все эти ползающие, шагающие, летающие механизмы были вполне обычными, только несколько устаревшими, что придавало им даже некую трогательность, как всегда выглядит трогательным, уютным и едва ли не одушевленным то, что в стиле ретро.
– Да-да, – угадал ход мыслей Глеба профессор Снайпс, – нашей станции без малого два столетия.
– Два земных столетия, – кивнул Глеб.
– За это время на Земле столько уже было техногенных революций, а нас здесь, молодой человек, все еще двадцать третий век. Есть, конечно, и новинки, – профессор указал на транспространственный гравитолет, – но сами понимаете, транспортный корабль в нашу глухомань слишком большая роскошь для НАСА. Да и с учетом времени полета… Все техногенные новшества устаревают морально по пути. Так что мы здесь, – профессор состроил гримасу, сказал, очевидно, пародируя какой-то публицистический штамп: – «на переднем крае Контакта», но с весьма архаичным оборудованием. А клише, которое я сейчас передразнивал, вы вряд ли помните, оно из моей юности. А я здесь, – профессор потянулся, разминая затекшие за время полета ноги, – без малого двадцать лет.
– Каких лет? – Глебу сделалось стыдно за этот вопрос.
– Моих, молодой человек, моих собственных, что составили как раз два земных века. Мои коллеги, – профессор показал на Энди и Ульрику, – здесь уже пять лет без одного месяца, Ты, – он опять говорит Глебу «ты», – вот сейчас пытаешься представить Ульрику топлес, а останься она на Земле, ты бы, встретив ее где-нибудь у супермаркета, спросил: «Мэм, не помочь ли вам перейти улицу?! Или: «разрешите, я довезу вашу тележку до машины».
– Всё! – Ульрика улыбнулась Глебу. – Теперь, разговаривая со мной, ты будешь представлять меня в моем земном возрасте. Надеюсь только, всё то, что будет раздражать тебя в моих словах и взглядах, ты не спишешь на мой старческий маразм.
– Ульрика, ты, как всегда, слишком многого требуешь, – сказал Энди.
Им навстречу шла высокая чернокожая девушка в летной форме. Этот костюм астронавта Глеб видел в музее под стеклом, на манекене, рядом с куклой в костюме гренадера XVIII столетия и женским манекеном в кринолине.
– Добрый вечер, – улыбнулась девушка.
– Познакомьтесь, – сказал профессор, – это наша Мэгги.
– Мэгги, – девушка подала руку Глебу.
– Глеб Терлов. – Энди представил Глеба, не дав раскрыть ему рта, – наш инспектор.
– Ну, инспектор, это громко сказано, – попытался Глеб светским тоном. – Просто нам нужно будет уточнить кое-какие позиции, не более.
– Мэгги проводит тебя в гостевой коттедж, – сказал профессор Глебу, – отдыхай, расслабляйся, мы тебя сегодня измучили, уж извини, но ты должен был увидеть всё это вживую, так сказать, пощупать руками.
Глеб поморщился от этого, «пощупать руками», но профессор Снайпс сделал вид, что не заметил.
– Мы же все трое пойдем в лабораторию, поколдуем кое над чем. – Профессор подал руку Глебу, прощаясь.
– Не волнуйся. – Вслед за профессором пожал ему руку Энди. – Это не для того, чтобы замести следы перед завтрашней твоей проверкой. Всё давно уже заметено, пока ты летел в своем звездолете. Как понимаешь, у нас времени для этого было предостаточно, и земного и местного.
– Не обижайтесь на них, Глеб, – подала руку Ульрика, – Никто не любит, когда их поверяют. Пока.
Станция. Не поселок. И уж тем более не городок. А станция именно. Несмотря на двадцать лет жизни профессора Снайпса здесь. Несмотря на четыре смены – вахты астронавтов по пять лет каждая. Несмотря на двести лет там, на Земле, в конце концов. Почему станция? Потому что не собираемся обживаться, обживать планету, пускать корни, колонизировать, становиться филиалом Земли, окраиной человеческой ойкумены в Космосе. Сделаем свое дело, доведем до конца эксперимент и уйдем. Независимо от удачи своей, неудачи, триумфа ли, катастрофы уйдем навсегда. Мы не собираемся стать народом этой планеты (не случайно ей так и не утвердили имени, оставили под номером из каталога), не намерены быть богами для ее обитателей (а изначально планировалось так!), сотрем за собой все следы пребывания нашего здесь. Ни одного целлофанового пакетика, ни фантика (если уж фигурально) не останется после нас.
Станция – она вне. Чужеродна этому миру и должна таковой оставаться. Она могла быть на планетарной орбите, но нам удобнее здесь, на плато, удобней и только. Наш дом – Земля. Мы работаем для Земли, за ради земной науки. Где бы ни жили люди сейчас, какие бы миры не осваивали, какие пространства не преодолевали – они земные, несут с собой свою Землю, во всяком случае, пока. И пусть это самое «пока» длится как можно дольше. Вот поэтому именно станция.
3. Мэгги
– А вот это уже жилая зона, – пояснила Мэгги.
Глеб ахнул. Домики под черепичной крышей, цветы на окнах, крошечные палисадники. Точная копия голландской деревушки.
– Мой дизайн, – сказала Мэгги со сдержанной гордостью. – Надо же что-то противопоставить этому миру. – Добавила: – Этому миру вообще и племени альфа, в частности.
– А что? – начал было Глеб.
– Да-да, – поняла его Мэгги. – Это племя давит на нас. Мы при всем нашем могуществе и сверхмогуществе, при всех наших звездолетах, киборгах, лабораториях, при всех наших возможностях испепелить эту планету в одно мгновение вдруг наткнулись на какую-то свою зависимость от них.
– Что, так и тянет раскроить череп профессору Снайпсу? – Глеб вообще-то хотел спросить в шутку.
– Не только в этом дело, – серьезно ответила Мэгги. – Они подкупают своей свободой и обаянием мощи.
– Вот насчет обаяния не надо. Я сегодня всю кабину заблевал под впечатлением их обаяния.
– Это нормально. У некоторых поначалу были куда как более бурные физиологические реакции. Так что вы, будем считать, испытание выдержали, – она улыбнулась, – прошли инициацию.
– Спасибо, Мэгги.
– Их обаяние начинаешь чувствовать не сразу. Сначала как будто и не всерьез, но с какого-то момента вдруг…
– Вы говорите таким тоном, – перебил ее Глеб, – как будто это какая-то реальная угроза для нас. Но вот возьмем ученых, посвятивших жизнь изучению львов: они влюблены в них, увлечены своим делом, восхищаются красотой и силой этих животных, но они знают о львах всё, не идеализируют их и уж тем более не собираются им подражать.
– Вы не понимаете. – Протестующий жест Мэгги. – Это другое. Совсем другое. Вдруг с ужасом сознаешь, что тебе не хватает их свободы и мощи.
– Что?!
– Странно, казалось бы, да? – продолжала Мэгги. – Отнять кусок у соседа, у ребенка, если бы на станции были дети. Быть изнасилованной своими, попавшими под обаяние племени альфа, коллегами в грязной луже, на глазах у всех. Разве кто-нибудь из нас хотел бы чего-нибудь такого?.. Кстати, вполне вероятно, что и хотел бы. И чего-нибудь такого, и чего-нибудь похлеще. Но это всё от фантазии, это нравственная похоть, причуды души и духа. А свобода и мощь людей племени альфа – до духа, души, нравственности, до всех этих наших извивов нравственности, до игр духа с самим собой. Вот где соблазн!
– Но это же свобода от сложности! – поразился Глеб. – От того, что и делает нас людьми.
– Мы все поначалу именно так и отвечали самим себе, – кивнула Мэгги. – Я на эту тему лекции читаю нашим. Да, человек многократно пытался избавиться от собственной сложности, но это опять же было от фантазии, ума, извращенной духовности, притупленной или же наоборот, обостренной нравственности, что порождали идео– и мифологемы, так? Мы знаем цену всяческим измам, да? Человечество выстрадало это знание. А тут свобода от сложности вне измов. Опять-таки до фантазии. Свобода и иллюзия невинности. А мы не готовы сопротивляться. Но есть и другая грань такой свободы. Мы не просто, как Энди сказал однажды, «наелись собственной сложности», это было бы полбеды… То, что наше и в нас от сложности, из неё, благодаря ей и только, – оно не нравится нам. Мы поняли вдруг. Мы не хотим. Но знаем, что мы – только это. И это лучшее в нас.
– И потому назад, да? В джунгли, в пещеры? – не дал ей закончить Глеб.
– Вперед, – ответила Мэгги.
– Но к чему? – недоумевает Глеб.
– Я пока что не знаю.
– Но всё это не так уж сложно отрефлексировать в себе, – сказал Глеб. – А отрефлексировав, ну, если не победить, не выкорчевать, то хотя бы держать в рамках.
– Вот именно этим мы и занимаемся, – усмехнулась Мэгги. – И вроде бы как успешно. На четвереньки у нас никто не встал, во всяком случае, пока. Но скажи-ка, Глеб, ты что, никогда не уставал от сложности? От своей собственной или же от сложности, так сказать, бытия? Чтобы так, до тоски, до воя, до какого-то, пусть не всерьез, конечно (а здесь оттенок особый – мельче и гаже когда не всерьез), желания руки наложить на себя?
– Да, наверное… – задумался Глеб.
– А почему вся эта хваленая сложность достигает самой себя, раскрывает самоё себя, главным образом в собственных неудачах, провалах и тупиках? И вот здесь опять возникает соблазн свободы и мощи племени альфа, понимаешь?! То, что это свобода до всего – это еще можно выдержать, обернуть против неё самой. Но само это до вдруг совершает метаморфозу в твоем сознании – оно не хуже, не проще, а глубже. А «всё» – это самое «всё», включая душу, дух, фантазию, нравственность с их нечистотой, ошибками, преступлениями, самообманом – это лишь так, поверхность, внешний слой, может быть, камуфляж. И с этим открытием надо как-то жить, даже если ты подавил это в себе, разоблачил, убедил себя в обратном. В этом во всем тебе случайно не поручили разобраться в НАСА?
– Сложность не дает счастья, полноты и целостности бытия. Ты же пытаешься сейчас об этом? Но других путей ко всему этому просто нет! Даже если сложность и не дает, только она может дать.
– На том вот и стоим, – улыбнулась Мэгги. – Во всяком случае, пытаемся. Но скажу честно, это твое «может дать» слишком хлипкая опора.
– Но мне кажется, она единственная, – сказал, почти прошептал Глеб. – Всё, что надежней, прочнее, имеет изъяны…
– Да хоть бы и так, – перебила Мэгги. – Не надо анатомировать сложность. Надо более-менее поверхностно принять её. Что и происходит, по факту.
– Ты в этом видишь противоядие против соблазна племени альфа?!
– Я пытаюсь реально смотреть на вещи. – Она пожала плечами.
– Человек научился жить в ситуации непредсказуемости, – жестикулировал Глеб. – Непредсказуемости бытия, себя самого, наконец. Научился быть несводимым к истинам, смыслам, целям – черпать себя из несводимости. Научился быть не-победителем, не-достигающим, непознавшим. Это не гарантирует ничего, да?! но во всем из всего этого возникает свет.
– Это не для всех, – улыбнулась, развела руками Мэгги. – Слишком не для всех. Ты и сам понимаешь. Кстати, это и не для тебя. Пусть ты и не видишь этого, может.
– Пускай, – говорит, горячится Глеб. – Главное, что это есть.
– А ведь три столетия освоения человеком дальнего космоса, пожалуй, что разочаровали, – сказала Мэгги. – Сама идея вынести неснимаемые наши противоречия, тупики и безысходность нашего бытия в иное пространство, в иные плоскости пространства – времени… Громадность Цели должна была заслонить от нас зыбкость, условность Смысла, невозможность Истины. Это не проговаривалось вслух, не формулировалось в разного рода философских манифестах, но по умолчанию это было так.
И на какое-то время нам удалось. Но вот, похоже, наступает пора, когда нам придется за всё это платить.
– То есть ты от всего этого убежала сюда, на станцию?
– А знаешь, почему всё это вряд ли закончится катастрофой? Потому что Истина, Смысл, Цель на самом-то деле оказались не столь уж значимыми для нас. Вот такая вот правда о нас – не слишком-то возвышающая, но кажется, спасительная.
– Ты считаешь, что наша поверхностность нас спасет?! – поразился Глеб.
– Поверхностность – это такая форма столь вожделенной для тебя несводимости нашей к… Кстати, скорее всего, что единственная.
– Санкция на непросветленность бытия, вот что это такое! – возмутился Глеб.
– Непросветленное всё-таки лучше, чем никакого, согласись.
– Время от времени человек восстает на непросветленность.
– За-ради ложного света?
– Но почему?!
– Потому что восстает по законам самой отрицаемой им реальности.
– Человек не равен самому себе! – говорит, кричит Глеб. – Не равен из несводимости к своей сущности-сути, к своему предельному, последнему, недостижимому. И причем здесь тогда поверхностность? Что она вообще может?
– Гарантировать устойчивость человеческой цивилизации, – ответила Мэгги. – А то, о чем ты сейчас, это всего лишь победа, – прекрасная человеческая минутная победа.
– Да ради бога.
– Да, Глеб, ты насколько останешься у нас?
– По обстоятельствам.
– Ах, вот оно как. Ну, тогда всё становится несколько интересней. А мы вот – она снова указала на домики в голландском стиле, к которым они уже подошли, – боремся с племенем альфа в себе черепичными крышами, цветниками, ирландским пабом в голландской деревне, празднованием Рождества и Хэллоуина. – Она замолчала, думала сказать или нет. – А у нас есть и те, кто предлагает другой рецепт: поиграть в племя альфа, прикинуться ими и тем самым преодолеть.
– Мэгги, можно спросить?
– Разумеется.
– Вот ты всё говоришь: альфа, альфа и ни разу не сказала: омега. Что, там вообще никаких соблазнов?
– Только для их создателя.
– Я так и думал! – воскликнул Глеб. – Кем же себя возомнил профессор Снайпс?
– Дело в том, что он убедил себя, что как раз и не возомнил, избежал соблазна. В этом главная опасность, исходящая от него.
– Ну а вы все?
– Ты же знаешь расстановку здешних сил. Профессор, Энди и Ульрика отвечают за концепцию, а мы, остальные – узкие специалисты с правом совещательного голоса, если спросят, и выступаем, в случае необходимости, экспертами по техническим вопросам. Ты же, перед тем как прилететь сюда, изучил все бумаги по нашей экспедиции, чего же спрашиваешь? А-а, понимаю-понимаю, расследование уже началось.
– Это не расследование, Мэгги. Да и что здесь расследовать – никто никого не убил и не вымер полным составом станции.
– Ну, а отклоненные от цели предприятия? – Мэгги заговорщически подмигнула. (Точнее, утрированно заговорщически.)
– Так всё-таки, что омега?
– Ну, какой тут соблазн. Глеб, подумай сам. Кто кроме бедной Ульрики купится на идею «золотого века». Профессор жизнь потратил на всё это, а в итоге получится некий аттракцион, в лучшем случае, забавный, занятный для космических туристов. Представляешь, Снайпс создавал человечество новое, указывал путь человечеству прежнему, а в результате полторы строчки в каталоге космического сервиса: «посетите, получите незабываемые впечатления…» Хорошо, что мы не доживем.
– Получается, вы все отдали пять лет своей жизни ради дела, которое…
– Вовсе нет, – остановила его Мэгги. – Каждый из нас провел здесь ряд уникальных исследований в своей области и уже ради этого…
– Ты хочешь сказать, здесь только один неудачник – профессор Снайпс? – Глеб хотел развить свою мысль, но вдруг увидел, как из-за угла голландского домика на них вышел громадный зверь с пятью рогами.
– А! – Глеб хлопал себя по бедру, там где должна быть кобура бластера, но ее сейчас не было, ввиду мирного характера его миссии.
– Что ты, что ты! – Мэгги схватила его за руку так, будто бластер у него был. – Это же наша коза.
Коза была намного больше земной коровы, два огромных винтообразных рога и два небольших прямых, растущих из середины лба. Пятый, широкий, тупой рог располагался на носу.
– Козочка моя, – засюсюкала Мэгги, – иди ко мне, я тебе витаминчиков дам.
В самом деле стала кормить ее с руки какими-то таблетками. К Мэгги подошел козленок размером с теленка, те же пять рогов, только маленькие, ткнулся в бедро Мэгги.
– Сейчас, сейчас, – умилилась Мэгги, стала кормить его витаминами с другой ладони.
Этот контраст: не просто зверская – мифологическая внешность громадной козы и совершенно добрые, доверчивые глаза.
– Это всё Ульрика наша удружила, – поясняла Мэгги.
– В смысле облучения, генетических экспериментов?
– В смысле милосердия. Не могла смотреть, как тиранокошка сожрет козленочка, и нажала на курок фотонного ружья. И вот козочка выросла, – Мэгги гладила белую полоску на морде животного от рогов на лбу до носового рога, чем доставляла козе неимоверное удовольствие. – Мы и в лес ее выгоняли, но врнулась обратно, с приплодом, как видишь.
– Это же непрофессионально, – пожал плечами Глеб. – Мы не должны вмешиваться в естественный ход вещей.






