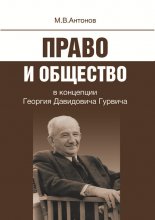Дорогой мой человек Герман Юрий
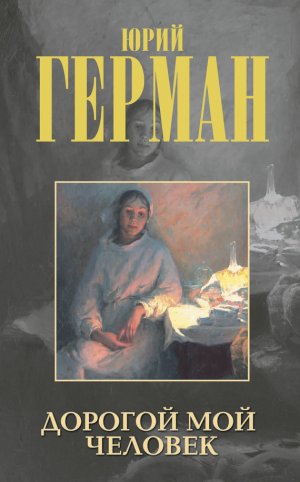
— Давай, Ярцева, стих!
— Не робей, Оленка!
Все так же, держась за изножье кровати, Лена принялась рассказывать про старушку:
- Старушка несла продавать молоко…
В стихотворении было много смешного про старушку, а так как Елена не читала стихотворение, как читают стихи обычно, а рассказывала его якобы от себя самой и притом с самым серьезным видом, то это было еще смешнее, и раненые моряки громко хохотали, а у Павлика даже слезы выступили на глазах. Он утирал слезы ладонью и охал:
— Это да, старушка! Надо же…
— А теперь я вам станцую! — объявила Елена, покончив со стихами.
— Сейчас Елена Ярцева выступит с танцами, — ловко прыгая, опираясь на костыль, как бы перевел Робинзон Крузо, который теперь стал непременным участником концерта и даже его руководителем. — Внимание, товарищи, танцы!
Третье отделение программы — танцы — прошло значительно хуже, чем предыдущие два. Оказалось, что доски пола в палате ссохлись, и, когда Лена начала прыгать, осуществляя разные сложные повороты с притопываниями, пол затрясся, запрыгали койки, и один наиболее нетерпеливый раненый даже застонал, за что ему впоследствии, правда, попало от товарищей. Тем не менее танец «Кабардиночку» Елена прервала на половине и очень сконфузилась, но ее тотчас же стали хвалить, попутно объяснив, что танцы лучше проводить в коридоре, что танцы, разумеется, замечательная вещь, но поскольку тут такая специфика, может быть, Елена еще споет, а танец покажет в недалеком будущем, когда Робинзон Крузо, плотник по профессии, сплотит полы, чтобы они не дрожали, как собачий хвост.
И Елена запела.
Репертуар у нее оказался большой: и «Катюша», которая, как известно, выходила вечером, и веселая песенка «Ни туда и ни сюда», в которой Елена продергивала бесноватого фюрера, и даже «Я на подвиг тебя провожала…»
Во время исполнения Леной этого последнего номера и вошел в палату, вернее, вклинился в толпу у двери Владимир Афанасьевич Устименко. Раненые чуть раздались, чтобы пропустить его вперед, и он увидел Елену, которая, порозовев от выпавшего на ее долю успеха, допевала песенку. В спину Володе жарко дышал военфельдшер Митяшин. Похлопав вместе со всеми Елене, Устименко велел с завтрашнего дня зачислить Ярцеву на довольствие, и так как Митяшин вздохнул и почесался, то Устименко заключил свой приказ так:
— Об мою голову. Впоследствии разберемся.
— Основание бы мне какое-либо, — еще вздохнул Митяшин. — Для бюрократизма.
— Основание — санитарка, — брякнул Володя.
— Да какая же она санитарка, товарищ майор?
Вдвоем, изобретая основание для зачисления на довольствие, они вышли из подземной хирургии на чистый морозный воздух. В Горбатой губе гукнул уходящий буксир, в сторону фиорда Кювенапа высоко в небе прошли бомбардировщики. Устименко сказал, подбирая слова:
— Нельзя, товарищ Митяшин, толковать о человечестве, упуская человека. Человечество состоит из человеков. Елена — человек.
— Оно так! — согласился Митяшин. — Боюсь, разговоров бы не было.
— Это каких же разговоров?
В темноте голос Устименки прозвучал недовольно, почти зло.
— А таких! Нора — женщина интересная, представительная. Обратно же, вдова. Вы — мужчина представительный, наши все на вас заглядываются, ну и неженатый…
— Я об этом слушать не желаю! — сказал Устименко.
Умывшись и выпив чаю, он зашел к Ашхен. Бабе-Яге было совсем плохо, Зинаида Михайловна, тихонько всхлипывая, кипятила шприц. Володя посмотрел температурный лист, посчитал пульс.
— Что там у нас? — спросила Бакунина.
— Все хорошо.
— Хорошо ли? — не открывая глаз, усомнилась Ашхен. — Встану на ноги все узнаю.
Потом она заговорила по-армянски.
— Ругается, — улыбнувшись сквозь слезы, пояснила Зинаида Михайловна. — Вы, наверное, замечали, она никогда не жалуется. В тех случаях, когда другие жалуются, Ашхен ругается. Такой уж характер удивительный.
Во втором часу ночи в землянку к Володе постучали.
— К нам прибыли два капитана, — сказала сестра Кондошина. — Вновь назначенные…
— Ну и пусть Каролина их устраивает, — ответил Устименко. — Я устал.
— Они непременно желают вас видеть, — вздрагивая на морозе, пояснила Кондошина. — Одна, не помните, красивая такая, Вересова Вера Николаевна, была у нас как-то…
— Завтра! — сказал Устименко. — Завтра с утра. Ясно?
Кондошина вздохнула:
— Ясно!
А ЕСЛИ ВАША ТЕТУШКА СДАЛАСЬ В ПЛЕН?
— И все-таки без ваших многоуважаемых старух лучше! — сказала Вера Николаевна. — Извините, воздух чище.
Устименко молча закурил. Он понимал, что Вересова его нарочно поддразнивает, и старался не раздражаться.
— Ваша Ашхен — тиран, диктатор, деспот и Салтычиха, — произнесла она давно приготовленную фразу. — Впрочем, вы ее достойный ученик. Даже Палкин и тот жалуется, что при вас стало еще «безжалостнее».
Сбоку, лукаво она взглянула на него. Он шел не торопясь, щурился на светло-голубое весеннее небо, на белые барашки, бегущие по всегда холодным, водам этого неприветливого моря. Сколько времени прошло, как он тут? Сколько длинных, утомительных дней, недель, месяцев, лет, операций, перевязок, пятиминуток, катастроф, побед, завоеваний, потерь? Сколько раз он уезжал отсюда и возвращался в свои «каменные палаты», как пошучивала Ашхен Ованесовна, сколько раз ему попадало от нее, сколько раз они ссорились и целыми днями разговаривали только на официальном языке? А разве теперь, когда старухи уехали, он не ловил себя внезапно на интонациях Ашхен Ованесовны в перевязочной, даже в операционной? Разве не замечал он в самом себе результаты ее трудной школы? И, если стал он не таким уж плохим терапевтом, — разве это не заслуга тишайшей и кротчайшей Зинаиды Михайловны с ее вдовьим, промытым тоненьким обручальным кольцом на белой руке?
— Устали в походе? — спросила Вересова.
— Нет.
— Зато загорели здорово. Сейчас у вас вид старого морского волка. Вроде Миши и Гриши, они такие же загорелые от своих норд-вестов и штормов. И похорошели вы очень, Владимир Афанасьевич. Сейчас все наши девушки совсем с ума сойдут. Особенно ваша любимая Ярцева.
— Как Елена?
— Кое-кто, между прочим, считает, что она ваша дочка, — с ленивой усмешкой ответила Вересова. — Даже находят некоторое сходство, например ресницы. Это не так?
— Не говорите пошлостей! — попросил он.
Они свернули к скалам. Здесь начинался подъем. И березки тут росли маленькие и несчастненькие березки Заполярья.
— Вы не удивились, что я вас встретила? — спросила Вересова.
— Удивился. Зачем, действительно, вы меня встречали?
— А я вовсе не вас встречала, — ответила она. — Я всегда к рейсовому катеру хожу. Здесь действительно удавиться можно с тоски, в вашем богоспасаемом заведении.
— Вы бы работали побольше, не валили бы все на бедного Шапиро, глядишь — и повеселее стало бы.
— Узнаю интонации Оганян…
— Очень рад, что я похож на нее.
Вера вдруг крепко взяла его под руку.
— Перестаньте, — горячо и быстро сказала она. — Я не могу с вами ссориться. Это мучительно. Понимаете? Вы словно дразните меня, не говорите со мной серьезно, какой-то дурацкий, иронический стиль, пикировки, насмешки. Это невозможно! Я же человек, женщина, а не камень…
— Собственно, о чем вы? — холодно осведомился он. — В чем я повинен?
Она отпустила его локоть, он сбросил плащ, перекинул его через плечо, переложил в левую руку, чтобы Вересова больше не трогала его, и молча пошел дальше. Самым неприятным было, пожалуй, то, что он отлично понимал и чувствовал в ней именно женщину. И она это знала. Так же как, впрочем, знала и то, что он почему-то всеми силами противится неотвратимому, с ее точки зрения, ходу событий.
«Еще немного, и я просто сойду с ума, — вдруг с отчаянием подумала она. — Уехать отсюда, что ли? В конце концов, это становится глупым, дурацким фарсом! Я же в смешном положении».
И тотчас же она ответила самой себе: «Почему это смешное положение? Ну, люблю человека, который меня не любит, ну, другие видят это. Что же тут смешного? Это даже трогательно. Добро бы я была дурнушкой, кособокой или конопатой, но я ведь хороша собой, не хуже, если не лучше его. Это он смешон, вот что — недотрога, Иосиф Прекрасный».
Почти со злобой она взглянула на него. Он шел не торопясь, пожевывая мундштук давно докуренной папиросы, о чем-то задумавшись. А навстречу ему уже бежал распаренный, как после бани, толстенький Митяшин: докладывать, пожимать руку, радоваться…
— Ну, до вечера, — сказала она печально. — Мы еще сегодня увидимся…
— Надо думать! — ответил он рассеянно и уже улыбаясь бегущему со всех ног Митяшину. — Разумеется…
Она обогнала его и пошла легким шагом вперед и, оглянувшись издалека, увидела, как Митяшин что-то оживленно рассказывал Устименке, а тот кивал головой и широко улыбался.
В той землянке, где когда-то жили старухи и где теперь жил он один, Устименко посидел на табуретке, выпил пустого чаю, еще покурил, потом побрился, сходил в душевую, переоделся в другой китель, натянул халат и шапочку и отправился смотреть свой медсанбат 126, который давно перестал быть медсанбатом и превратился в госпиталь, но флот по привычке называл госпиталь в скалах медсанбатом 126, или даже, по еще более старой привычке: «У старух».
Первой, кого он увидел в своей хирургии, была Елена. На сердце у Володи сразу потеплело, он затаился в коридоре и увидел, как девочка в хорошо сшитом, по росту, халате (у нее теперь был свой халат, очевидно), с аккуратно и ровно подстриженной челкой, с широко раскрытыми серыми глазами подошла к раненому, держа в руках миску с дымящимся супом, как присела возле него на табуретку и принялась его кормить с ложки. Шагнув чуть ближе к двери, Володя еще всмотрелся и вдруг заметил на халате девочки медаль. Буквально не веря себе, Устименко вошел в палату, окликнул Елену, заметил быстрый и счастливый блеск в ее глазах, сел рядом с ней на койку в ногах того раненого, которого она кормила, и спросил:
— Это что же такое, Елена?
— Правительственная награда, — ответила она, слегка приспустив ресницы на свой халат и вновь вскидывая их так, чтобы увидеть Володю. — Пока вы в походе были, Владимир Афанасьевич, к нам адмирал приезжал, командующий, и наградил меня от имени и по поручению. Медаль «За боевые заслуги». Вы кушайте, дядя Коля, — сказала она раненому, — супчик же хороший, не с тушенкой сегодня, а со свежим мясом.
— Строгая! — заметил дядя Коля, плечистый мужчина с забинтованными руками. — Строгая сестренка!
— С вами иначе нельзя, — вздохнула Елена.
— И давно тебе кормить доверили? — осведомился Володя.
— А сразу после первого концерта. Это товарищ Митяшин меня мобилизовал. Вы когда ему приказ невыполнимый дали, они с мамой долго думали, до самого вечера. И потом товарищ Митяшин как закричит…
— Что — закричит?
— Эврика, вот что. И тут меня мобилизовали. Видите, у меня полотенчико есть чистенькое, чтобы на грудь раненому класть, а то они некоторые неаккуратно кушают…
— Ох, и хитрая она, как муха, — протягивая Елене губы, чтобы она их утерла, произнес дядя Коля. — Знаете, товарищ доктор, с каким она подходцем? Вот, допустим, раненый отказывается принимать пищу… Мутит его, или вообще — страдания не может побороть, или сознательности маловато, короче — отказывается. Знаете, что она говорит?
— Говорю, что меня с работы уволят, — с коротким вздохом сообщила Елена. — Как не справившуюся. А разве не уволят?
Смахнув крошки с широченной груди дяди Коли, Лена ушла за вторым, а дядя Коля сказал:
— Ребятишка, а интереснее, чем кино. Придет да застрекочет — и на душе потише. Ее у нас «живая газета» прозвали. Это она при вас тихая, а с нами — ну что вы! Пулемет!
А поздним вечером Устименко учинил разнос всему личному составу медсанбата 126, который имел теперь права госпиталя, завоеванные Ашхен Ованесовной тогда, когда она командовала тут, в скалах, и который теперь, по словам Володи, «опустился», «развалился», «заелся» и представлял собой не что иное, как «сборище лениво думающих или вовсе не думающих малых и больших начальников и их подчиненных, желающих непременно тоже быть начальниками».
Покуда он говорил свою речь, Митяшин написал ему записку: «На завтра намечаем партийное собрание, будем вас принимать в партию». Володя прочитал. Митяшин в это время глядел на него выжидательно. Володя сразу понял Митяшина, а тот по внезапному блеску Володиных зрачков тоже понял, что допустил непоправимую ошибку, накропав это предупреждение: именно сейчас-то Устименко, закусив, что называется, удила, займется порчей отношений…
И неглупый Митяшин не ошибся.
Уж что-что, а портить отношения Устименко умел. Первый же удар он нанес самому тишайшему и никак не ожидавшему этого удара Митяшину. Почему вышел из строя движок электростанции, да вышел так, что и по сей день не отремонтирован? Интересно, чье это заведование? И как случилось, что Митяшин, «проболтавшись» несколько суток в управлении тыла и даже проникнув к самому генералу, ни словом не обмолвился об аварии? Не хотел получить взыскание? Ну, а каково работать в операционной, когда там лампочки горят вполнакала и, оперируя, хирурги все время нервничают, что останутся и вовсе без света? Это, товарищ Митяшин, быть может, способствует успеху дела? «Споспешествует?» — как выразился Володя, вспомнив Полунина и его лексикон. Или они тут забыли, что война продолжается?
Митяшин заморгал, попросил слово для справки.
Устименко ему не дал. Следующий удар он нанес Каролине Яновне — сестре-хозяйке, которая с самого начала собрания места себе не находила, так как заметила на столе рядом с майором Устименкой закрытый котелок и догадалась, что в этом котелке.
«Когда он успел только — проклятый — проскочить в кухню? — спрашивала себя Каролина Яновна, пропуская мимо ушей разнос Митяшина. — Когда он только просунулся туда, проныра, ни дна ему, ни покрышки! Ведь я почти-то и не уходила, только на часок, не более, — соснуть, да и кок мне ничего не докладывал! Ну погоди же, кок!»
А кок хитренько улыбался: его дело правое, у него и свидетели имеются — дежурные по кухне, несчастье же с каждым может случиться, ну подгорел супешник, мало ли, так ведь предупреждение было сестре-хозяйке? Пусть рискнет отмежеваться! И про то, как, сняв пробу, она приказала только для врачей еще один суп сварить, а в подгорелый лаврового листу кинуть, — он и про это доложит. Пусть на губу отправит, но и чертовой Каролишке несдобровать. Уж этот припечатает, уж обласкает. С этим сама Ашхен ангелом покажется!
И Володя припечатал и обласкал. Суп пробовали все врачи, а Митяшину приказано было попробовать. И Каролина тоже попробовала суп, и кок, сделав оскорбленную мину, похлебал своего супу.
— Вера Николаевна, — повернулся вдруг Володя к Вересовой, — сегодня снимать пробу обязаны были вы?
— Я, товарищ майор, — весело и спокойно подтвердила она. — Мне принесли в землянку обед, я и попробовала…
Смеющимися глазами она обвела собравшихся и добавила:
— Так же часто делается, и повсеместно…
Многие засмеялись, но Устименко не улыбнулся.
А Митяшин стал еще печальнее. Он больше других знал и понимал нового начальника и угадывал, чем все это кончится.
После истории с супом Устименко приказал непротивленцу — санитару Палкину — «дать подробные объяснения по известному ему делу». Гришка Распутин, у которого был нынче такой вид, будто Пуришкевич с Юсуповым его уже убили, он немножко полежал в земле и явился в медсанбат 126, поднялся со скамьи и стал хватать ртом воздух, изображая болезнь.
— Сердечную недостаточность представляет, — брезгливо сказал Митяшин. Наловчился, — прямо артист…
— Мы ждем, Палкин! — произнес Устименко.
И Гришка Распутин стал торопливо рассказывать, как крал консервы. Он рассказывал подробно и при этом доверительно улыбался, словно все те, кто тут собрался, были если не его соучастниками, то такими людьми, которые не могут его не понять, потому что они ведь тоже люди со всеми свойственными людям недостатками. Говорил и спрашивал быстро: «Не правда ли?», «Ежели что плохо лежит, то и не так уж грех велик?», «Виноват-то разве я? Искушение виновато и тот, кто об этом искушении не подумал, разве нет?» Все молчали, никто не глядел на Палкина-Распутина, у всех было тяжело на сердце, всем было тошно и стыдно. И оттого, что Палкин воровал казенное добро уже давно и многие об этом догадывались, но молчали из глупой брезгливости, и потому, что он не рассказал все, как было по правде, а словно бы своими вопросами нащупывал, как и что говорить, и еще оттого, что многим из здесь присутствующих он оказывал всякие мелкие, не совсем законные услуги, — доктора, санитары, сестры, нянечки мучились и хотели только одного: чтобы это все поскорее кончилось. Но Устименко, который, видимо, и сам мучился не меньше других, не позволил ничего, как говорится, обойти молчанием в этой истории, и вышло так, что даже Каролине Яновне пришлось подняться с места и подробно объяснить одну комбинацию, на которую намекнул уже показавший свои клыки непротивленец Палкин. Погодя поднялась со своего места, у самого входа в столовую, тихая и часто краснеющая сестра Кондошина и неожиданно громким голосом быстро заговорила:
— Правильно сделал товарищ майор, что вскрыл этот гнойник. Я давно знаю Владимира Афанасьевича, он сам больше всех переживает. И я должна сказать, я обязана, и пусть все скажут…
Она помолчала, собираясь с силами, доброе лицо ее совсем побледнело, потом она нелепо всплеснула руками и воскликнула:
— Как же получилось? Я, член партии с двадцать четвертого года, тоже, выходит, наших раненых обкрадывала? За краденые консервы я этому гаду водку дала, а консервы в посылке отправила. Значит, я вместе с ним? Но ведь я же не знала! Ведь разве ж я думала?
— Думали, сестра Кондошина, — негромко прервал ее Устименко. — Чего уж там! Неясно, нечетко, но думали: откуда у Палкина эти большие банки консервов? Ведь не могло же это вам не прийти в голову…
После Кондошиной говорила Нора Ярцева, ей было жалко Палкина, и она сказала, что, может быть, следует решать этот вопрос по-доброму, хоть, конечно, эта история и противная. Имеет ли смысл позориться перед всем флотом, перед санитарным управлением, перед большим начальством? Голос Норы вздрагивал, и всем было понятно, как ей стыдно за доброе, не запятнанное до сих пор имя медсанбата, как ей больно, что и на старух падет часть вины за давно ворующего Палкина, как горько ей, что теперь раненые будут говорить: лечат у них ничего, да вот харчи воруют, спасения нет…
Капитан Шапиро тоже поддержал Ярцеву, и к нему, по-прежнему весело блестя глазами, присоединилась Вересова. Она была «целиком за доброту». Конечно, Палкина следует наказать, но только не вынося сора из избы. Ведь все равно теперь пропавшее не вернуть!
Вера Николаевна говорила так искренне, так доброжелательно и так откровенно, что ей, в первый раз за этот вечер, даже похлопали, и довольно громко. Володю же слушали сдержанно, даже угрюмо. Но он знал, что так будет, и шел на это, когда начал свою короткую речь.
— Доброта бывает разная, — сказал он, обводя пристальным и упрямым взглядом собрание. — И мы, медики, разбираемся в этом не хуже, а лучше людей иных профессий. Разве желает зла бабушка внучонку, когда, не понимая, что такое «острый живот», кладет ребенку грелку, предопределяя роковой исход? И разве не добр тот юный, неопытный, непрофессиональный хирург, который, вняв просьбам раненого, сохраняет ему, допустим, некротизированную ногу, а потом теряет человеческую жизнь? О Палкине я не спорю, история с ним мне ясна, тут я приму решение как командир. Речь идет о другом: о том, как нам жить и работать дальше. Быть добренькими? Простить добрую Веру Николаевну Вересову за то, что она, пренебрегая своим воинским долгом, своей честью врача — не глядите на меня так укоризненно, капитан Шапиро, эти слова относятся не только к переднему краю, а и к нам в равной мере, — так вот, простить за то, что она съела вкусный, специально ей предназначенный суп, а раненые свою подгорелую баланду вылили? К этому вы ведете, товарищи? Этого хотите? Или товарища Митяшина погладить по головке за то, что он, видите ли, «забыл» в управлении тыла поднять вопрос о движке? Ну, а если у меня сегодня ночью погаснет свет в подземной хирургии, тогда как? Ждать ваших керосиновых ламп? А в каком они у вас состоянии — лампы? Что ж, я смотрел, знакомился! В препаршивом состоянии! Ну, а в темноте-то оперировать — еще наука не дошла. Значит, быть к Митяшину добреньким, а к тому солдату Иванову или Петрову, которого мне в операционную принесут, — каким быть? Подскажите, добренькие! Научите!
В низкой столовой нетерпеливо задвигались, заерзали. Кто-то у стены тяжело вздохнул.
— Служить, так не картавить, а картавить, так не служить, — слышал я такую старую пословицу, — сурово сказал Устименко. — Иначе у нас дело не пойдет. А что касается до того факта, разумеется прискорбного по сути, что подполковник Оганян узнает о нашем позоре, тут ничего не попишешь! Хотел бы я получить от нее письмо и зачитать это письмо вам. Что касается доброты, то ее понятия на этот счет вам хорошо известны…
Такими словами Устименко закончил свое выступление к закурил папиросу. Он был теперь один, никто даже не глядел на него, все выходили отдельно от него, своими группками. И только издали на него остро поглядывал Гришка Распутин, дожидаясь, наверное, когда все выйдут. Но и тут он не решился подойти к Устименке — не такое было лицо у майора, чтобы стоило затевать разговор.
Едва только Володя сел на свой стол, чтобы начать сочинение приказа, зазвонил телефон.
— Неужели вы мне выговор закатите? — спросила Вересова.
— Обязательно.
— Но это же не по-джентльменски, — посмеиваясь, сказала она. — Женщине, которая смертельно в вас влюблена, и вдруг вместо орхидей или, в крайнем случае, ромашек — выговор.
Он молчал.
— Где-то я читала такое название, — тихо и быстро сказала она. — «Лед и пламень». Это про вас.
— Слишком красиво.
— А вы разве не любите, чтобы было красиво? Сегодня-то какую речугу сам отхватил: «…пренебрегая честью врача, воинским долгом»! Цветков и тот бы позавидовал. Что же вы молчите?
— Я занят, пишу приказ.
— Это в смысле: оставьте меня в покое? А вот не оставлю. Возьму бутылку вина и приду к вам. Ну отвечайте же что-нибудь!
— Спокойной ночи! — угрюмо сказал он и положил трубку.
Наутро приказ был объявлен. Выговоры получили Митяшин, Каролина Яновна и кок. Строгий выговор он вынес Вересовой.
— Почему же мне одной строгий? — уже зло, без обычной своей усмешки, спросила Вера Николаевна. — Не слишком ли сильно, Владимир Афанасьевич?
— Вы — офицер! — взглянув ей в глаза светло и прямо, сказал он. — А я не могу поступать иначе, чем думаю…
В полдень забрали Палкина, ордер на его арест был оформлен прокурором флота.
А на восемнадцать ноль-ноль было назначено партийное собрание. Собрались коммунисты на горушке, повыше своего госпиталя, у гранитной скалы. Было тихо, чуть туманно, непривычно тепло, у пирса гукали буксиры, автомобильными голосами перекликались мотоботы и катеришки. Высоко над головами, в сторону фиорда Кювенап, строем клина прошли самолеты.
— Война-войнишка, — сказал сидевший рядом с Володей рыжий и остроглазый раненый. — Встречи, и расставания, и различные воспоминания. Не припоминаете меня, товарищ майор?
— Будто где-то видел…
— А я вас не за-абуду! — с растяжечкой сказал раненый и, с серьезным видом прицелившись калошкой костыля, придавил огромного паука, вылезшего на валун. — Не-ет, не забуду! Так не можете припомнить?
— Вы из авиации?
— Зачем из авиации. Мы люди наземные! Желаете закурить?
Володя закурил.
Снимая на ходу халат, из-за скалы появился капитан Шапиро буйноволосый и бледный, за ним шел Митяшин и нес маленький столик, к которому кнопками, чтобы не сорвал ветер, была приколота кумачовая скатерть. За Митяшиным сестра Кондошина несла портфель, в котором (Устименко знал это) лежало его личное дело.
— Я извиняюсь, — запыхавшись, сказал Митяшин, — припоздали маненько, да вот капитан Шапиро срочно швы накладывал, у Еремейчика неприятность вышла, решил, медведь эдакий, попробовать силы — бороться. Ну и поборолся. Значит, будем начинать? Как с кворумом? И может быть, бросим курить, товарищи, будем уважать партийное собрание?
Санитар Белкин негромко засмеялся: Митяшин всегда забывал, где можно курить, а где нельзя.
Выбрали президиум, потом Кондошина огласила просьбу таких-то товарищей присутствовать на собрании, Володя фамилий не расслышал. Неслышными шагами из-за Володиной спины появилась Нора Ярцева, шепнула ему на ухо: «Вы, товарищ майор, не волнуйтесь, все хорошо будет!» — улыбнулась и исчезла. И Каролина Яновна величественно и приветливо кивнула Володе головой, словно подбадривая и сообщая, что зла на него и не помнит.
Митяшин быстро и ловко установил свой столик, положил на скатерть Володино личное дело, сестра Кондошина объявила повестку дня, и капитан Нестерович из Политуправления флота подвинул к себе папку с таким видом, словно узнает сейчас что-то чрезвычайно важное и новое, чего до сих пор ни одна душа не знала.
Когда Володя рассказал свою «автобиографию», как выразилась сестра Кондошина, над расположением бывшего медсанбата 126 в сторону фиордов опять прошли бомбардировщики, и он проводил их взглядом. Ему уже не раз доводилось летать на ДБ-3 со всякими специальными медицинскими заданиями, в авиации у него были друзья, и ему показалось, что они его видят оттуда и знают, какой у него день нынче. И все другие присутствующие на собрании тоже посмотрели в бледно-голубое вечернее небо Заполярья. Здесь перебывало много летчиков — и среди тех, кто шел сейчас на бомбежку, наверное, у сестер, и санитарок, и докторш был не один знакомый. А сестра Люся даже вздохнула, и ее старшая подруга Нора быстро и укоризненно на нее поглядела, как бы говоря, что по этому стрелку-радисту, который и письма не удосужился написать, нечего тужить.
— Вопросы к доктору… к майору товарищу Устименке имеются? — спросила сестра Кондошина.
Володя стоял неподвижно. Легкий ветер с моря трепал его волосы, усталые глаза смотрели строго и спокойно, загорелое лицо побледнело: он устал нынче, весь день ему пришлось оперировать на базе у катерников, потом разбирался тут, у себя…
— Имеется вопрос, — значительно покашляв, произнес капитан Нестерович. — Вопрос у меня к майору Устименке. Вот вы заявили, что матери не помните и что воспитывались у своей тетушки, так, кажется, у некой Устименко Аглаи Петровны. Вы заявили также, что всем обязаны ей и своему отцу, погибшему в спецкомандировке. Вы также сообщили партийному собранию, что Аглая Петровна Устименко до лета тысяча девятьсот сорок второго года поддерживала с вами письменную связь, а теперь вы не имеете от нее писем. Мне бы хотелось уточнить эту часть вашего выступления. Как вы сами предполагаете, где в настоящее время находится ваша тетушка?
— На войне случается — убивают! — угрюмо ответил Володя.
— Это мы знаем! — неприязненно произнес Нестерович. — Но это не ответ, это демагогия. А если ваша тетушка сдалась в плен или сотрудничает с фашистскими выродками?
— Послушайте, товарищ капитан, я извиняюсь, — привставая, сказала сестра Кондошина. — Послушайте…
Нестерович тоже встал со своего камня.
— Вопрос задан майору Устименке, — произнес он раздельно. — И Устименко должен мне ответить.
— Хорошо, я отвечу, — не сразу сказал Володя. — Пожалуйста! Не знаю, что случилось с Аглаей Петровной. По всей вероятности, она погибла. Но я лично не встречал в жизни человека чище, лучше и идейнее, чем моя тетка, понятно это вам, товарищ капитан? И покуда я жив, никто при мне не посмеет безнаказанно даже заподозрить ее в том, о чем вы тут толкуете.
— Почему же это вдруг не посмеет?
— А потому, что я не позволю.
— То есть как это вы можете не позволить?
— А как про мамашу свою родную не позволяют говорить! — вдруг сиплым и бешеным голосом крикнул с места старший сержант, предлагавший Володе закурить. — Не слышали? Как про сестренку, как про батьку, не осведомлены?
— Я предполагаю, что вопрос ясен, — сказал капитан Шапиро. — Согласны, товарищи?
— Тем более что дети за родителей не отвечают! — довольно ядовито со своего места сказала сестра-хозяйка Каролина Яновна. — Так же, как, впрочем, родители за детей…
— Я отвечаю, — спокойно и твердо прервал Каролину Устименко. — Я несу полную ответственность за Аглаю Петровну, как и она за меня, предполагаю, хоть она мне не мать, а тетка. Но мне она больше чем мать, потому что быть хорошей матерью — это норма поведения, а затруднить свою молодость, да молодость еще к тому же красивой и одинокой женщины, судьбою племянника, отдать этому племяннику душу, с тем чтобы воспитать из него советского человека, да еще с этим мальчишкой мучиться, потому что он и воображалой был, и гением себя пытался утвердить, и учился через пятое на десятое, это все, знаете ли, не так просто. И каким же бы я оказался подлецом, если бы здесь позволил себе поддаться на вопрос капитана Нестеровича и хотя бы даже усомниться, только на одну секундочку усомниться в порядочности Аглаи Петровны? Да и заявление такого… усомнившегося… разве могло бы быть рассмотрено?
Он помолчал, словно бы задумавшись, потом встретил чистый и ясный взор Норы Ярцевой, сидевшей прямо против него, и, обрадовавшись этому верящему и не сомневающемуся взгляду, сказал громко, раздельно, веско и убежденно:
— Нельзя не доверять! Ничего нет страшнее взаимной подозрительности! И никто меня не убедит не доверять тому, кому я верю. Иначе бы я не смог жить! Разве можно жить без веры в своих товарищей, даже когда ругаешь их и ругаешься с ними? Нет, нельзя! А воевать? Подавно нельзя! Ничего нельзя, не веря, разве я не прав?
— Правильно! — резко отрубил Митяшин. — Вопросов больше нет? Кто желает высказаться? Вы садитесь, товарищ Устименко, присаживайтесь на камешек…
Володя сел и обтер потный лоб платком. Нестерович все рылся в его личном деле, и это почему-то оскорбляло Устименку. Он даже плохо слышал, как капитан-лейтенант Козюрин читал собранию письмо от своей мамаши, адресованное «тому нашему замечательному советскому доктору, который тебя, мой сыночек дорогой, выходил и вызволил из беды не хуже, а лучше, чем я».
После Козюрина говорил военфельдшер Митяшин, Володин поручитель, потом читались письма Ашхен Ованесовны и Бакуниной. Ашхен тоже была Володиной поручительницей, но теперь написала еще собранию письмо, и покуда сестра Кондошина читала, плохо разбирая почерк Ашхен, все собрание улыбалось, потому что всем слышался голос подполковника Оганян — властный и отрывистый, а когда она стала читать письмо Зинаиды Михайловны, все услышали кроткие интонации Бакуниной, ее деликатную манеру не приказывать, а просить, и все даже увидели ее милую улыбку. А когда Кондошина прочитала о приветах «нашему замечательному, незабываемому, стойкому коллективу», все зааплодировали, и, пока хлопали, Митяшин успел сказать Володе:
— Видите? Верят в нас старушки, приветствуют коллектив. Не так-то уж мы и плохи…
— А разве я не прав был вчера?
— Наверное, правы, — неохотно ответил Митяшин. — Только уж больно круто, товарищ майор…
Последним попросил слова старший сержант Сашка Дьяконов. И как только он встал, опершись не без некоторой картинности на свой костыль, Володя вдруг сразу вспомнил все: вспомнил этот лихой блеск глаз, эту победную улыбку, этот чубчик, нависающий на изломанную бровь, и характерный сиповатый голос.
— Моя речь будет короткая, многоуважаемые товарищи! — сказал Дьяконов, внезапно взволновавшись и слегка подпрыгивая при помощи костыля. — Не задержу ваше внимание слишком долго. Что же касается до моей личной автобиографии, то она неважная, я ее упоминать стесняюсь, был я, короче, блатной парнишечка. Понятно вам? Уточнять не стану, но войну начал в штрафниках, где не задаром находился, как некоторые предпочитают на себя клепать, а за дело. За некрасивое дело. Ну, естественно, там узнал что почем и смыл с себя кое-что своей кровью. Постарался, конечно, чтобы моей было поменьше, а фашистской побольше. Вот оттуда меня и вынул наш героический знаменитый капитан Петр Кузьмич Леонтьев, прославленный на весь наш Союз. И должен был я ему доказать, что он не ошибся в своем доверии к такому человеку, как я. Хорошо доказал, в газетах было, как доказал, а когда, доказавши, полз до дому, до хаты, — тут меня и навернуло. Ну, думаю, пропал Сашечка! Конец тебе, пупсик! Сгорел, как бабочка, не доложив свои конечные результаты. Короче, притопал в боевое охранение и стал там просить провожатых, поскольку в меня попала мина и не взорвалась в моем организме, а застряла в плече…
— Ой! — громко воскликнула Нора.
— Точно! — строго подтвердил Дьяконов. — Засела под лопаткой и сидит, одно только лишь оперение из меня возвышается, а взрыватель ушел во внутренности, и никому не известно, что там происходит…
Володя опустил голову. В основном Сашка рассказывал правду, но эта правда поросла теперь такими небылицами, что Володя только крякал да вздыхал, слушая о том, как «военврач Устименко, не дрогнув своим мужественным лицом и весь собравшись в своей стальной воле, поставил задачу разминировать этого боевого товарища…»
Все слушали Дьяконова затаив дыхание, женщины часто вздыхали и ойкали, Митяшин сосредоточенно посапывал, и странно — никто ни разу не подивился тем коленцам, которые отрывал рассказчик, никто не усомнился в правдивости баснословных выдумок, никто не улыбнулся даже на выспренность Сашкиного лексикона.
«Что же это все такое? — удивленно и счастливо думал Володя. — Я вчера им невесть какие горькие слова говорил, а они сейчас с радостью верят легенде обо мне, нелепице! Значит, они хотят в меня верить? И каким же я теперь обязан стать, если даже Каролина Яновна и та хлопает Дьяконову, да еще с восторгом?»
Дьяконову сильно хлопали, но он властной рукой остановил аплодисменты и, обращаясь к Володе, почти крикнул:
— А что вы так за вашу тетю высказались, товарищ майор, то честь вам и хвала! Вот мне Леонтьев поверил, и кого вы видите перед собой? Трижды орденоносца и представленного к еще более высокому званию, не будем уточнять — к какому. И тете вашей я благодарен, что она воспитала такого интеллигента советского, как вы, а не жалкую прослойку или ничтожного бюрократа, которые еще — не часто, но как редкое исключение — болтаются у нас под ногами…
И, превратившись мгновенно в памятник самому себе, Сашка Дьяконов вдруг неподвижным взглядом надолго уставился в блеклые глаза капитана из Политуправления, потом уперся костылем в камень, повернулся на собственной оси и под бурные аплодисменты сел.
Володю приняли единогласно.
После собрания он еще раз обошел свою подземную хирургию. В большой палате он остановился за спиной раненого, который, сладко вздыхая, диктовал Елене, уже изрядно притомившейся за день, письмо:
— Целую твои ноженьки и рученьки, запятая, и всю твою замечательную фигурку, запятая, Галочка моя дорогая…
Елена писала медленно, крупными, детскими буквами, положив лист бумаги на книгу. От того, что бумага была нелинованная, строчки письма съезжали вниз, Елена вновь поднимала их кверху, и оттого казалось, что она не письмо пишет, а рисует змей — толстых и страшных.
Рядом с треском «забивали козла», нежный голос по радио пел:
- Синенький скромный платочек
- Падал с опущенных плеч…
— Дочке пишете, дядя Вася? — взмахнув ресницами, спросила Елена.
— Какой дочке? — испугался дядя Вася. Потом подумал и подтвердил: — Конечно, дочке, а кому же? Галочка — она дочка. Дальше пиши: «Днем и ночью ты у меня перед глазами, — запятая, дочечка, запятая, — по тебе с ума схожу, как дикий зверь…»
— Напугаете ребенка, — обходя кровать, сказал Володя. — Зачем же дочку дикими зверями пугать…
Тот, которого Елена называла дядей Васей, ненадолго смутился, потом прямо взглянул Володе в глаза и сказал спокойно:
— Она у меня смелая, дочечка, товарищ доктор. Не испугается!
— Иди, Оленка, — велел Володя. — Я за тебя допишу…
Сел на ее табуретку, быстро переписал написанное и спросил:
— А дальше?
— Дальше? Дальше так: если ты меня забудешь, я пропаду, потому что ты моя любовь. А любовь, товарищ доктор, напишите с большой буквы.
— С большой… — повторил Володя. — Можно и с большой, это как вам будет угодно!
Глава девятая
В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ…
Флагманского хирурга на главной базе не оказалось — Алексей Александрович оперировал где-то в авиации, кажется в госпитале у Левина, и там заночевал — так объяснил Володе толстогубый дежурный. И никакого гостеприимства толстогубый, не в пример всем известным Володе докторам, не проявил. Он ответил на вопросы этого бледного от усталости майора медицинской службы — и только. «Да и не гостиница тут, в конце концов», — вяло оправдал своего коллегу Володя и опять вышел к заливу — под холодное полуночное солнце.
В небе было неспокойно: теперь-то уж Устименко научился разбираться даже в далеких звуках авиационных моторов — отличал свои бомбовозы от немецких, да и истребителей не путал, как бы высоко они ни проносились. Он ясно различил тупой, торкающий, с захлебыванием звук идущей на город армады вражеских бомбардировщиков и сразу услышал дробные, торопливые удары зениток с транспортов и батарей. Опять заваривалась каша…
«Это из-за каравана», — подумал Устименко и вспомнил давешних моряков в госпитале на горе — англичан, американцев, негров, вспомнил обмороженного малайца, умершего на операционном столе, и сердитые слова генерала Харламова:
— Разрази меня гром, не понимаю я, почему столько обмороженных. Решительно не понимаю!
К порту прошли истребители, из-за сопок вдруг вывалился неправдоподобно огромный, весь в черном дыму, кренящийся на левое крыло немецкий бомбовоз; ревя моторами, пронесся над зданием штаба и госпиталем, весь залился пламенем и рухнул совсем неподалеку, где-то за поселком Вдовьино. А истребитель, срезавший бомбовоз, сделал над главной базой круг и вновь устремился в самое пекло — к порту.
Медленно, усталым, тяжелым шагом поднялся Устименко по прорубленным в скале ступенькам и открыл дверь в низкий барак, именуемый тут гостиницей. Девушка со злыми бровками, в накинутой на плечи короткой матросской шинельке, быстро обернувшись, даже без его вопроса сказала, что никаких мест нынче нет и, разумеется, не будет.
— А может быть, как-нибудь? — осведомился он, презирая себя за свой неопределенный и неуверенный тон. — Собственно, я мог бы и на полу… Мне, понимаете ли, абсолютно негде и в то же время необходимо…
Ему всегда отказывали, если он спрашивал для себя хоть самую малость. И никогда не отказывали, если он спрашивал для других. По всей вероятности, все зависело от тона, от собственного поведения, от несолидности, которую он никак не мог в себе победить. «Вы, Володечка, не солидный, — пинала его в свое время Ашхен Ованесовна, — вы какой-то совершенно взрослый мальчишка! Не понимаю, как вам могли дать майора. Майоры такие не бывают, правда, Зиночка?» — «Конечно, не бывают», — соглашался и он.
Но почему бы в данном, например, случае не отнестись к себе как к постороннему майору медицинской службы, который должен, в конечном счете, ночевать? Ведь этот самый майор нужен войне, если его одевают, кормят, выплачивают ему денежное содержание? Так заступитесь же за майора, за Устименку! Не мямлите! Не теребите пуговицу на шинели! Потребуйте для Устименки, как требуете для своих подчиненных или для своих раненых, как требовали для Елены Ярцевой — помните, как вы скандалили из-за нее даже с начальством?
— Слушайте, товарищ военврач, — сказала девушка со злыми бровками, — какой вы принципиальный, что над душой стоите! Или вам не ясно? Нету помещения!
Ох, поставить бы ее на место, сказать бы ей что-нибудь тем железным голосом, которым он умел разговаривать у себя даже с Каролиной Яновной, показать бы ей, что такое волевой командир!
Впрочем, об этом он раздумывал уже много позже, еще раз прогулявшись по базе и остановившись возле маленького зданьица, внутри которого что-то пофыркивало и ритмично плескалось.
И Володя сразу догадался, что это за здание: это новая и уже знаменитая баня главной базы, об этой бане он недавно читал во флотской газете нечто вроде оды — эдакое восторженное, с большим количеством восклицательных знаков.
Ну и прекрасно!