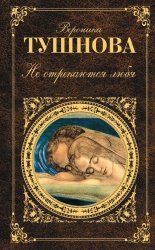Я отвечаю за все Герман Юрий
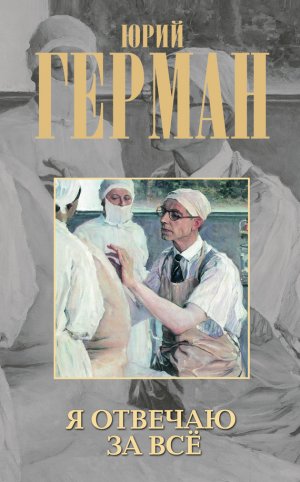
— Вся ваша затея, Инна Матвеевна, представляется мне, простите, грандиозной подлостью, задача ваша юридически крайне запутана и темна. Я вам не помощник.
Инна саркастически улыбнулась и другому адвокату рассказала лишь то, что посчитала нужным. Этот другой, калач тертый, побеседовав с генералом Горбанюком, позвонил Инне по телефону и сообщил, что «по некоторым причинам представлять интересы Инны Матвеевны не может».
В первой инстанции состоялось лишь краткое собеседование. Только во второй дело могли рассматривать по существу.
На сей раз Инна пришла в суд «брошенной», «несчастной», «живущей в тяжелых условиях» одинокой женщиной с «прелестным ребенком». Все было продумано до деталей. Елочку она одела даже богато, сама пришла в платке и в ватнике под протертым, но аккуратно заштопанным плащом, хоть стоял январь. Плащ произвел впечатление, тем более что бесхитростная Тася Горбанюк, та фронтовая сестра милосердия, которая вытащила генерала, когда он был полковником, из горящего дома, — эта Тася пришла на суд в хорошей и дорогой шубке. Да и чего ей было стесняться: шубку свою она не украла, ей эту первую в ее жизни шубку купил муж. И купил, когда она долго болела, родив ему сына Витьку.
Генерал в суде сидел отнюдь не по-генеральски, ссутулившись, спрятав голову в плечи, не глядя по сторонам. Инна слышала, как какой-то щекастый и подвыпивший инвалид отозвался о генерале так:
— Это ж надо, какой неавторитетный вид. На майора и то не тянет.
Живота Горбанюк действительно не нажил. Он был очень бледен, судорога часто пробегала по его серому лицу, и даже заикался он мучительнее прежнего. Инне Матвеевне порой делалось его даже жалко — все-таки первая любовь с поцелуем белой ночью над Невой, — но ничем помочь сейчас она не могла. Процесс судебного заседания, или как оно там называлось, катился сам по себе, по своей логике и своим законам.
Дело шло гладко и четко под сочувственный шумок зевак и ротозеев, набившихся в зал, под улыбочки и подтрунивания брошенных жен, остро и низко наслаждающихся в судах, под незаметную сразу, но очень ощутимую поддержку всех тех «добреньких», которые заранее настроены в пользу любой оставленной, против любого оставившего.
И судья был под стать залу.
Во-первых, он судил, невольно и честолюбиво подпадая под влияние одобрения публики, а во-вторых, судил, испытывая особое уважение к себе за то, что он, еще недавно капитан, да и не очень чтобы удалой, судит генерала. А в зале к тому же сидела супруга судьи и соседи по квартире. Судья их видел и даже замечал, как они переглядываются, наверное перешептываясь:
— От дает наш-то!
— От жиганул!
— Теперь генералу крышечка!
— Так вы не можете предъявить суду письмо вашей супруги Горбанюк Инны Матвеевны о том, что она считает себя с вами разведенной? — спросил судья, который почему-то считал нужным, задавая вопросы генералу, иронически улыбаться. — Вы продолжаете настаивать на том, что письмо вами якобы утеряно?
Горбанюк промолчал. Мог ли здесь, сейчас он рассказать о том, как бомба прямым попаданием ахнула в ту школу, где разместился штаб, как Тася выволокла его, бездыханного, в одном залитом кровью исподнем, как более месяца он вообще ничего не понимал, не помнил и не соображал, даже о штабной документации не помнил, не то что о своем бумажнике. Пропало письмо, сгорело…
— Может быть, вы все-таки вспомните, куда девалось таинственное письмо? — опять, одарив зал иронической улыбкой, осведомился судья. — Если оно вообще существовало…
— Оно существовало, — потеряв внезапно власть над собой, металлическим тенорком, но не заикнувшись, словно хлыстом ударил, произнес генерал. — И требую доверия, я никогда не врал…
— Здесь требовать не рекомендуется, — с улыбочкой сообщил судья. — Тут, гражданин Горбанюк, суд, и здесь никаких генералов нет… Что же касается вашего утверждения, будто вы никогда не врете, то это нам неизвестно. Письма-то нет? Или есть? Как будем считать?
С Тасей сделалась истерика. Ее никто не обижал, но она вдруг так ужасно измучилась за своего Гришу, с которым, несмотря на все передряги войны, была бесконечно счастлива, так за него обиделась, что вроде бы на собрании потребовала слова, а когда ей под смех зала разъяснили, что тут суд, она выкрикнула нелепую ругательную фразу, разрыдалась и была уведена подругой, — чуть не падающая с ног, несчастная до такой степени, что у Инны Матвеевны засосало под ложечкой от жалости, но и тут она ничего не попыталась сделать, потому что кривда уже победила правду и генерал, фатальной волею судьбы и нелепых обстоятельств, стал лгуном, двоеженцем, алиментщиком и даже тем бездарным военачальником, из-за которого наши войска, бывало, терпели поражения. Об этом не говорилось, конечно, впрямую, но судья что-то такое скверненькое намекнул по поводу «амурных делишек» во фронтовой обстановке, намекнул так, что и эта тема опять-таки очень подошла зевакам и ротозеям обоих полов, препровождающим свое время в зале судебных заседаний. Обыватель и мещанин, вкупе с дезертиром, обожают, когда чернят и поносят на его глазах скромное, славное и героическое, как бы говоря этой акцией: «Все грязненькие, все ничтожества, все мышиные жеребчики, все охотники до клубнички, но только кому до времени везет, а какой и сразу попадается!»
Одна заседательница, что сидела слева от судьи, как показалось вначале генералу, слушала его внимательно и даже вопросы задавала сочувственно, но он и в ней обманулся, — про такую манеру разговора в суде эта народная заседательница вычитала в книжке и сегодня ее испробовала. На самом же деле она еще до начала заседания твердо решила этому «негодяю» развода не давать, чтобы другим мужчинам «неповадно было».
Только ко второй половине слушания дела генерал-лейтенант Горбанюк внезапно понял, куда все поворачивает: он оказался презренным человечишкой, отказавшимся содержать дочь, развратником и еще невесть кем. Все более и более судья напирал на «моральный облик» гражданина Горбанюка, на его «проделки» во время Великой Отечественной войны, на его «неоформленное сожительство» с гражданкой Бельчиковой, на попрание основ «советской семьи», — в общем Горбанюк понял, что его превращают в существо, недостойное быть генералом Советской Армии.
Тут плохое, надорванное войной сердце Григория Сергеевича мелко и часто забилось, дало несколько перебоев и вынудило его быстро сунуть под язык крошку нитроглицерина. Нет, ему не было страшно, что Инна не даст развода, разве дело в том, записаны они с Тасей или нет? Тасю он любил, и никакие силы не могли бы его заставить покинуть эту добрую, сильную, уютную и милую его сердцу женщину. Дело было куда страшнее и непоправимее. Он не мог представить себя без армии. Вопрос тут стоял, разумеется, не в генеральстве, генеральство было лишь свидетельством того, что та армия, которой он отдал себя безраздельно, оценила своего даровитого солдата, сделав его генералом, теперь же его лишат права быть даже рядовым, его демобилизуют. Вот что было поистине страшно и непоправимо, и вот что сразу почувствовала Тася…
Разобравшись в том, чего он поначалу не понимал, Григорий Сергеевич ужаснулся и стал защищаться страстно, но так при этом неумело, так бесхитростно, так необдуманно, что проиграл последнюю надежду выйти хотя бы не облитым грязью с ног до головы из этого зала.
В разводе ему, разумеется, отказали, что же касается до иска Инны Матвеевны, то он был полностью удовлетворен. Прямо после оглашения приговора Горбанюк кинулся искать деньги взаймы: за все эти годы Инне «причиталась» порядочная сумма, он хотел отдать все сегодня же. И снова подал на развод.
Товарищи и начальство генерала Горбанюка не только не выразили ему никаких претензий, — наоборот, ему даже посочувствовали: мало ли что бывает в жизни, дело мужское!
Горбанюк вспылил. Он был честным человеком, честным всегда и везде. Такая поддержка его оскорбила. Он генерал Советской Армии, нельзя жить генералом с такими обвинениями. Он якобы бросил жену и ребенка и налгал про ее письмо? Нет, он докажет, что не налгал. Докажет!
Большое начальство даже удивилось: ведь ему абсолютно верят, никто не сомневается в его порядочности.
— Мне не верит советский суд! — сказал Горбанюк и осведомился, может ли быть свободным.
Уж на этот раз Инна Матвеевна дело бы несомненно проиграла. Григорий Сергеевич привез в Ленинград всех тех, кто знал про письмо Инны.
Их было трое, остальные четверо погибли: близкими друзьями Горбанюка были офицеры переднего края, их, случалось, убивали. И адвокат у него теперь был настоящий, тот самый, в академической шапочке, который отказался помочь Инне. Этот старик понимал, что такое понятие «честь»!
Но до второго рассмотрения дело не дошло по той причине, что в ночь перед судом Григорий Сергеевич скоропостижно скончался.
Еще в сорок втором полковник Горбанюк, что называется, «надорвал» себе сердце, оно у него «засбоило», и еще тогда ему сказали, не без иронии правда, что любое волнение может стоить ему жизни.
— Слушаюсь, — усмехнулся Горбанюк, — постараюсь не волноваться.
И ему, и дивврачу разговор не казался нелепым, несмотря на то, что оба знали цену такого рода увещеваниям. Да и волнение волнению рознь. Что страшнее для болезненно честного человека, чем надругательство именно над его честью, над его порядочностью?
В ночь перед его смертью они долго болтали, Горбанюк и Тася. Все им теперь казалось поправимым — военное инженерство, конструкторские дарования у Григория Сергеевича никто не отнимет. Пойдет в КБ, возглавит группу, доведет до кондиции одну задумочку. С деньгами — наплевать, вот из долгов выкрутиться, а дальше не пропадут. Тася пойдет работать, например в детсад, там и Витька прокормится, слухам же про «эту» — так Тася называла Инну — никто теперь верить не станет, после суда…
Потом Григорий Сергеевич принес Тасе поужинать, сварил кашу, посадил Витьку на горшок и лег сам. Тасе не спалось, ее познабливало, и она глубокой ночью вдруг услышала его тихий, заикающийся голос:
— Тасечка, не волнуйся, пожалуйста, я умираю, кажется…
Когда она, вскрикнув, зажгла лампу, он медленно вытягивался под тонким одеялом: ватное еще вечером было положено ей на ноги.
— Гриша! — позвала она, припадая к нему.
Он не ответил. Лицо его медленно делалось спокойным, таким, каким ни разу не было со дня суда. И глаза он закрыл сам, как всегда все себе делал сам.
Утром, к десяти, Инна пришла в городской суд. Она опять была бледная и аккуратная, но Елочка в новой шапочке и в новом меховом воротнике выглядела так, что возле одинокой мамы с дочкой сразу образовалась толпа из тех самых ротозеев и зевак, которые ужасно как желали нового поражения заики-генерала и его «любовницы».
Старый адвокат с Инной не поздоровался.
А потом она уехала домой, где семья Эйсберга ей посочувствовала, но холодно: они уже знали кое-какие подробности от своего знакомого адвоката. И тотчас же Инна Матвеевна почувствовала, что здесь ей оставаться нельзя.
Если бы ее спросили — почему, она не нашлась бы, что ответить. Но уезжать было совершенно необходимо, на такие штуки у нее было удивительное чутье, не человеческое — звериное, как вообще в ней много было чего-то не слишком человеческого.
— Смотришь, как кошка, — бывало, выговаривала ей мать, Раиса Стефановна. — Хоть моргни! И зрачки у тебя кошачьи — поперек!
А когда Инна прочитала некролог и сопоставила фамилии подписавших его с теми фамилиями, которые есть у нее даже на самый крайний случай, она поняла, что процесс выиграл все-таки тихий Гриша, а не она, и месяцем позже отбыла в Москву с бумагой, которую и «выгрызала» со звериным упорством ровно тридцать дней. В этой бумаге, состряпанной ее гением, было лишь сказано, что она вдова скоропостижно скончавшегося генерал-лейтенанта инженерных войск Горбанюка Г. С.
В столице Инна Матвеевна из автомата позвонила тому самому генералу-доктору, который назвал ее в свое время «подлецом души» и про которого она думала — «добер бобер».
Генерал-доктор принял ее тотчас же у себя дома, а пока они беседовали, супруга генерала, бездетная старая красавица Лариса Ромуальдовна, со слезами умиления возилась с Елкой, задаривала «сиротку» и умоляла «пожить у бабушки Лары хоть денечек!»
Прожили не денечек, а неделю. Инна натирала в генеральской квартире на Петровке полы, стряпала в кухне узбекские яства, была кротка, задумчива, иногда произносила: «Я пойду на часок-другой, пройдусь, не буду портить вам настроение своей постной физиономией».
И шныряла по комиссионкам, в которых были у нее дела, а купленное складывала в чемоданы, распиханные по камерам хранения.
В марте генерал дал ей письмо в город Унчанск к бывшему своему порученцу Женьке Степанову.
— Он болван, но добрый парень, — произнес генерал, вручая незапечатанное послание Инне Горбанюк. — По телефону я его предупредил. Сделает все возможное и невозможное и в смысле интересной работы, и в смысле квартиры.
Прощание было наитрогательнейшим. Лариса Ромуальдовна сказала, что у Елки и у Инны в Москве есть своя квартира, вот эта самая, номер шесть. И никогда никаких гостиниц. Вы запомнили, Инночка? И простили моего мужа?
В Унчанске товарищ Горбанюк дала понять, что сюда ее привело горе, «неизбывное», как она выразилась, горе, и тут она надеется в настоящем кипучем деле спрятаться от самой себя, от пережитого, от невозвратимой потери.
«Бобер, который был „добер“, выпустил щучку в озерко.
Евгений Родионович предложил Инне Матвеевне несколько должностей. Она избрала кадры. И буквально в несколько дней так окунулась в работу, что знала всех и все. Ее знали тоже и называли не иначе, как «вдова». Она была вдовой боевого генерала.
Пенсии за мужа Инна все ж таки, испугавшись предыдущего, предпочла не добиваться. Но выглядело это благородно, красиво и даже величественно. В Унчанске сразу стало известно, что покойный генерал был «ходок» по части дам, что в войну у него случился эдакий «случай», который кончился сюрпризом — военно-полевая жена поднесла ему сынишку. Жену, разумеется, генерал выгнал вон, такие жены — не жены, это все понимают, но, с другой стороны, под кем санки не подламывались, кто с коня не падал, — пусть осудят. Инна Матвеевна человек самостоятельный, зарабатывает, вещами обеспечена, а та «несчастная» — человек без профессии, вот Горбанюк и отдала ей пенсию. Разве не трогательная история? И разве не страхует она от любого слушка, от любой сплетни?
Одеты и Инна, и ее дочка действительно были отлично. Еще в Ленинграде, а потом проездом в Москве Инна Матвеевна ликвидировала больше половины «сахарных» ценностей: платину, золото, бриллианты из тех двух банок, что скрыла она от милиции. Это дало ей возможность вдоволь побегать по комиссионным магазинам, завести некоторые знакомства и превратиться во вдову, муж которой вдоволь нахватал трофеев. Таким путем даже мертвого и чужого мужа Горбанюка Г. С. она и после смерти заливала грязью и мерзостью…
«Видно, генеральчик был губа не дура, — сказал Евгений Родионович Ираиде, — понимал толк в барахле. Разбирался!»
Как бы там ни было, но в Унчанске Инна Матвеевна не собиралась терпеть поражение. Она была честолюбива и метила высоко, но спутника в жизни не искала. А интрижки ее не привлекали своей хлопотливостью. Разумеется, могла начать она карьеру и в Москве, но чуть-чуть там было опасно, у покойника-генерала оказалось много друзей, она это испытала, добывая безобидную и совершенно законную справку о своем вдовстве. Нет, начинать следовало совсем потихоньку и там, где тебя никто не знает, где ты всем чужая и все твои знакомые — новые. И где о тебе самой известно лишь то, что тебе нужно, чтобы было известно.
Разумеется, она не забыла и свою еще не начатую, не придуманную диссертацию. Вот о работе ее над научной темой должны были знать многие. И сразу же в Унчанске Инна Матвеевна дала всем понять, что время свое она ценит, потому что занята научной работой, которую готовит давно, даже в трудные годы войны и то она не отрывалась от этой своей темы. Но так как, кроме слов «тема», «научная работа», «сборы материалов», «уж я-то понимаю», «трудности эксперимента», «постановка опыта в крупном масштабе», «объективное подтверждение», в ее хозяйстве еще ничего решительно не было, то и высказывалась она крайне осторожно, обтекаемо, даже таинственно.
Впрочем, и тут все нежданно-негаданно наладилось. Как-то, разглядывая в своей «секретной» комнате различные папки, она почувствовала нечто вроде озарения, какой-то даже легкий озноб. Машинописная строчка циркуляра привлекла ее пристальное, судорожное внимание, она впилась в эту строчку и поняла, что эти слова, если их как следует расставить, и есть суть ее диссертации. Еще час, не более, она комбинировала и переставляла и наконец определила для себя название своей будущей научной работы. Выглядело это так: «Подбор, расстановка, комплектование и воспитание медицинских кадров Унчанской области».
На следующий день она поделилась своим замыслом со Степановым.
Женька оторопело помолчал, потом осведомился:
— Ну, а та… старая ваша тема?
— То — тема всей жизни, а это актуальнейшая работа, целиком связанная с практической жизнью. Надеюсь, вам понятно, что наука и практика едины?
Пока она должна была только заявить о себе, отрекомендовать себя, показать всем здесь свою волю, свою несгибаемость, свой характер, свою нетерпимость и непримиримость.
Для этого ей следовало что-то или кого-то разоблачить, ударить по каким-то безобразиям, искажениям, извращениям, по гнилому либерализму или по зарвавшимся руководителям, все это рисовалось в ее воображении еще неточно, расплывчатыми мазками, ускользающими понятиями, но это непременно нужно было, по ее взглядам, для того, чтобы взойти наверх, руководить, командовать, повелевать.
Но чтобы бить по противнику, нужен противник. Враг. Вернее, человек, которого можно сделать врагом. Разумеется, не клевеща на него, а лишь вызвав в нем противодействие тому направлению, которое она считала правильным, справедливым, соответствующим духу времени.
«Непонимание современной ситуации, — так, пожалуй, можно было определить ей то, на что поведет она наступление. — Отсутствие скромности, выпячивание своего „я“, мелкобуржуазный анархизм, игнорирование установок, данных всем без исключения…»
Какой-то еще «синдикализм» вертелся в ее голове, но она отмела его. Пока следовало искать здесь: вот в этом выпячивании «своего я» было начало начал.
«Устименко?» — подумала она.
Конечно, он был опасен. Но бить следовало только по крупному. Разумеется, с ним еще было можно помириться, съездить к нему самой, а не вызывать его к себе, дать ему возможность самому полностью расставить кадры в своем больничном городке. Но какой смысл в этом примирении? Чтобы все было тихо? Разве этого она хотела?
Нет, ей нужен был бой с предрешенным исходом.
Она накопит резервы, она проведет все виды разведки, она вооружится до зубов, ее превосходство будет абсолютным. А противник, не подозревая о направлении главного удара, несомненно, будет совершать ошибку за ошибкой.
Вот что наделал «бобер», который был столь «добер», что простил Инне Матвеевне самим им обнаруженную в ней подлость души. Вот какие цветочки посадил бобер на унчанскую землю. А ведь ягодки еще не поспели…
И вот какого врага обрел себе неосторожный Владимир Афанасьевич в первое же знакомство с завкадрами. Вот какова была товарищ Горбанюк.
Впрочем, что-что, а врагов он умел наживать всегда и везде — таков уж был у него характер!
И умел их не бояться — вот что, пожалуй, было самым главным в этом его качестве. Не только не бояться, но и не замечать. И даже не то чтобы не замечать, а игнорировать. Например, на всякого рода совещаниях, где Инна Матвеевна стремилась его уколоть, поддеть или выставить эдаким нытиком, любящим все рисовать в черном цвете, Владимир Афанасьевич ей просто не отвечал. Как будто бы ее и не было, словно она не выступала, якобы он ее не слышал. Покусывая губы, не сдерживаясь, она спрашивала с места:
— Ну, а мне вы не желаете ответить?
— Да что ж вам отвечать, — недоуменно вглядывался в нее Устименко. — Нет, я вам, пожалуй, не буду отвечать…
Ложась в свою узкую, жесткую, монашескую постель, Инна Матвеевна, жалея себя и свою уходящую молодость, напряженно и подолгу думала о том, как начнет она решающий и окончательный бой. А потом, в полудремоте, виделся ей одинокий волк, Жорж Палий. Виделся он, загорелый, играющий мускулами, в снежно-белой майке. Виделись его пустые и слепящие глаза. Где тлеют его кости?
НЕДОБРОЕ УТРО
— Ну вот, доброе утро, прошла еще одна ночь! — бодрым, хорошо поставленным голосом сказала мать Веры, Нина Леопольдовна. — Я пришла к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало…
Нина Леопольдовна была железнодорожной кассиршей высокой квалификации, но этой специальностью тяготилась, потому что считала себя одаренной драматической артисткой и раньше много играла в любительских спектаклях, которые впоследствии стали именоваться самодеятельными. Переиграла она за свою жизнь десятки ролей и, обладая хорошей памятью, всегда находила какую-либо подходящую фразу из роли, которую можно было употребить к случаю, если не целиком, то хоть частично, а если не из роли, то из стишка или басни, которых она знала великое множество.
— Мамуля, чаю, — потягиваясь на продавленном матрасе, попросила Вера. — Мы вчера пили…
— Ты не пей, молодушка, зелена вина! — ловко посадив на белую полную руку Наташку, продекламировала Нина Леопольдовна. — Володя, вы что будете, чай или кофе?
— И то бурда, и то бурда! — ответил он, одеваясь за печкой. — Вы бы заварили, Нина Леопольдовна, покрепче, не вегетарианского…
— Не боитесь испортить цвет лица?
Она всегда разговаривала такими фразами.
— Нет, не боюсь, — раздраженно ответил он.
— Ты не злись, — сказала Вера. — Мы ведь не виноваты, что тебя полночи продержали у больного. Это не мы устроили автомобильную катастрофу. Кстати, чем там кончилось?
— Ничем особенным, — произнес он. — Полежать Штубу придется с неделю, не меньше.
Он побрился тупым лезвием, потрогал лоб Наташки, не горяч ли — Нине Леопольдовне не нравились нынче глаза девочки, — выпил крепкого чая, натянул плащ и отправился на работу. А Вера Николаевна захотела мяса.
— Открыть тушенку? — спросила мать.
— Мяса я хочу, сочного, жареного мяса, а никакую не тушенку, — ноющим голосом сказала Вера. — Бифштекс.
— Вот получит твой литерную карточку, и будет тебе бифштекс, — обещала мать. — Вчера-то хоть весело было у начальства?
— Чудовищно! — зевая и натягивая на длинную, красивую ногу золотистый чулок и вылавливая под рубашкой резинку, ответила Вера. — Провинция, густая провинция, тощища…
— А знаменитый адмирал?
— Нормальный бурбон и фагот. Рожа красная, молчит, пялит глаза.
— Были же врачи?
— Ах, мама, о чем говорить!
— Тебе предложили работу?
— Я просто думать об этом не хочу.
Она поставила перед собой зеркало, оглядела ровные зубы, приопустила по одному веки, медленно накрасила губы. Наталья с интересом смотрела на все ее манипуляции. Нина Леопольдовна вымыла посуду, затворила окно, из которого тянуло сыростью.
— Потом мы сходим на почтамт, — не глядя на Нину Леопольдовну, немножко с вызовом сказала Вера Николаевна. — Письма будут приходить на твою фамилию, мамуля.
— Зачем? — всплеснула руками Нина Леопольдовна. — Я ведь не смогу смотреть ему в глаза! — из какой-то пьесы, чуть театрально воскликнула она.
— И не смотри, никто тебя не неволит! — спокойно и даже лениво ответила Вера Николаевна. — Тем более что Владимиру все равно, смотрят ему в глаза или нет.
Одевая Наташу, Вера пела, а Нина Леопольдовна была задумчива и невпопад отвечала на вопросы дочери. Попозже, когда они совсем собрались идти, мать спросила у дочери своим натуральным, немножко испуганным голосом, не прекратить ли Вере всю эту переписку и вместе с перепиской весь «сюжет»? Ведь Владимир Афанасьевич несомненно чувствует, он не из тех людей, которых можно безнаказанно обманывать.
— Ему же больно! — из какой-то пьесы воскликнула Нина Леопольдовна. — По-человечьи больно!
Вера Николаевна зевнула, потом с низкого кривого крыльца оглядела ветхий двор, поленницу дров, лопухи, флигель с собачьей конурой у ступеней, кривую березку возле ворот. Мать следила за этим ее взглядом и понимала его. Но Вересова все-таки пояснила.
— Чтобы так прошла вся жизнь? — медленно и зло улыбаясь, спросила она. — Вот здесь?
— Но вам же дадут квартиру! — воскликнула мать. — Это на самое первое время.
— А мне и квартира не нужна, — отворотившись от Нины Леопольдовны и натягивая на белую руку замшевую перчатку, раздельно произнесла Вера. — Мне здесь ничего не нужно, понимаешь, мамуля? Я сделала с ним, с нашим дорогим, ошибку. Ужаснейшую, трагическую и глупую до смешного. Володя решительно неталантлив.
— Володя неталантлив? — поразилась мать.
— Как это ни дико, мамочка. У него нет своего конька. Он — вообще! А в его годы «вообще» — это сдача на милость победителя. Он все думает, все посвистывает, все какие-то книжки и журналы листает. Не на определенную тему, а — то такие, то эдакие. У него — «широкий круг». А широкий круг — это неопределенность цели, зыбкость основ, разболтанность. Ты удивилась, что я сказала: Володя неталантлив. Ах, мамочка, неужели ты до сих пор не поняла, что талант — это честолюбие, а он-то как раз честолюбия начисто лишен. Поддерживать талант — это подогревать честолюбие, а что мне подогревать, когда там пусто.
— Ты не преувеличиваешь? — спросила Нина Леопольдовна.
— Если бы! — грустно усмехнулась Вера. — Он, бедняга, человек долга. Но я-то о взлете мечтала, я его к взлету тренировала, я в этом взлете вот как была уверена. Что же мне теперь прикажешь с этим долгом делать? Ведь это невесть как скучно, мамочка, это почти что муж бухгалтер, который считает, что он есть законный представитель долга, представитель государственных интересов, защитник чего-то там эдакого, а по сути — «ваш супруг бухгалтер». Вот ведь как…
Наташка заныла на руках у бабушки, Вера красиво и ловко забрала девочку к себе, прижалась щекой к ее щечке и сказала звонким, чистым, ясным голосом:
— Да, да, конечно, это может быть даже и противно — то, что я так думаю, но, мамочка-мамуля, жизнь у нас одна. Была война, только что отвоевались, что же теперь осталось? Какие надежды, какие обещания? Стареть потихонечку, превратиться в одну из тех рано увядших докториц, которые утешают себя словом «долг»? Работать под командованием Володи? А ты знаешь, как чудовищно, свирепо, отвратительно он требователен? Как груб при малейшем просчете? Как у него лицо белеет? Ты этого никогда не видела, потому что здесь, дома, только частичка его, и то самая кроткая, а вот там, на работе, его девяносто девять процентов со всем непреоборимым хамством, с тихим голосом, от которого даже у меня, у его жены, ноги подкашиваются…
Тонкие ноздри ее дрогнули, дрогнул и сильно вырезанный рот, на блестящих глазах проступили слезы, и почти с яростью она проговорила:
— Ты подумай, мама, мне нравилось в нем это отсутствие тщеславия. Я была уверена, что вызову к жизни в нем все его способности, всю силу его знаний, его бешеную энергию, я была уверена, что пробужу в нем сумасшедшее тщеславие, и тогда все увидят его незаурядность… Давай посидим!
Они сели на лавочку в бывшем Соборном скверике. Вера вынула из сумочки папиросу, закурила.
— Честолюбие! — со слезами в голосе сказала она. — Даже курить бросил. Говорит, жалко денег. Ты слышала что-нибудь подобное? Честолюбие — это прямое, единственное дело индивидуальности, а не какая-то там идиотская больница. Ну как он ее восстановит или даже наново выстроит?! Честолюбие — это хирург, доктор, профессор Устименко, который, несмотря на тяжелые ранения в войну, несмотря на увечья, не оставил любимого дела… Ну как в таких случаях пишут? А он? Теперь он «растворится» в своем коллективе. Устименко как таковой исчезнет. И исчезнет навсегда. Рассосется. Устименко перестанет существовать. Ой, мамочка, я хорошо его знаю, он даже не представляет себе, как глубоко я его знаю. У него сейчас будут главные — это те, которых он себе соберет, с бору да с сосенки заманит, все эти врачишки, выполняющие долг. Он будет с ними носиться как дурак с писаной торбой, он будет ими хвастаться, про них талдычить, ими восторгаться…
Жадно выкурив папироску, Вера придавила окурок подошвой, потрогала холодной ладонью горевшие щеки.
— Что же делать? — спросила Нина Леопольдовна. — Может быть, мне с ним поговорить?
— Тебе?
— Мне. Как-никак я повидала многое в жизни.
— Ты, несомненно, повидала многое, мамуля, но такие, как мой супруг, тебе не попадались. Владимир Афанасьевич — редкостный экземпляр. Лучше не вмешивайся.
— Но это же вопрос всего вашего будущего.
— Боюсь, что никакого будущего нет, — успокоившись и разглядывая себя в зеркальце, сказала Вера Николаевна. — Во всяком случае — здесь.
— А где же оно есть?
— Может быть, в Москве? — вопросом же ответила Вера. — Ужели же Константин Георгиевич с его возможностями и пробивной силой не поможет мне вначале в Москве?
— Какой такой Константин Георгиевич? — совсем испугавшись, спросила мать. — Кто он?
— Мамочка, это — Цветков, — сказала Вера Николаевна. — Ты же все знаешь, ты у нас умненькая. Там бы я начала все с начала. С самого начала. Я еще не начала стареть, мамуля?
ПОБЕГ
С ней всегда так бывало, страшилась только решать. А потом уже все делалось простым и легко выполнимым.
Спокойно, не торопясь, она заперла на ключ саманный дом, в котором размещалась поликлиника, положила ключ в обычное, условленное с Клавочкой место возле колодца, вздохнула и пошла огородиками к развилке, где в старом сарае, в подполе с ночи был спрятан ее чемодан.
Было еще очень рано, шел седьмой час, солнце не начало палить. И идти было нетяжело, боялась она только встречи с Рахимом, но он еще, наверное, спал на своей ковровой тахте, напившись молодого вина. Да еще неприятно было бы встретить Клавочку — та, конечно, догадается и заплачет: «Что я буду одна делать?» И в самом деле, что она станет делать одна?
Сердце Любы вдруг заколотилось, испарина проступила на лице и на шее. Она пошла быстрее, потом побежала. Нет, не Клавочки она боялась, а самое себя. Боялась, что вдруг повернет обратно и нынче же вечером все начнется с начала: опять явится Рахим, будет грозиться, что убьет ее и себя, вытащит из кармана свой, наверное не стреляющий пистолет, а она будет униженно просить:
— Уйдите, пожалуйста, уйдите, Рахим, очень вас прошу!
Она бежала, чемодан бил ее по ноге, черные глаза выражали страдание и испуг. И коса, выпавшая из тюбетейки, вдруг превратила ее в совсем девчонку, беззащитную и напуганную до такой степени, что первая же проезжающая в сторону Ай-Тюрега трехтонка с воем затормозила, чтобы «подкинуть» девушку, попавшую, видимо, в беду.
В машине везли черепицу, а два пассажира-лейтенанта пели песни и сразу же принялись потчевать Любу прекрасной дыней-чарджуйкой. Дыню она ела с удовольствием и с удовольствием отвечала на расспросы, куда она едет и зачем, — что у нее-де «скончался брат» и она спешит на похороны.
— Уже пожилой был? — спросил лейтенант покурносее.
— Двадцать семь лет и три месяца, — сильно откусив от дыни, ответила Люба. — Штангист.
— А по профессии? — спросил другой лейтенант.
— Филателист! — сказала Люба первое, что взбрело на ум. — Иван Иванович Елкин, не слышали?
Лейтенанты ничего не знали про филателиста-штангиста Елкина, но из сочувствия Любе петь перестали и присмирели. Они и билет ей достали до Москвы без всякого ее участия: пусть девушка сосредоточится на своем горе.
А она, рассеянно доев дыню и закурив предложенную лейтенантами папироску, сидела на приступочке весовой конторы станции Ай-Тюрег и думала про своего Вагаршака.
Какое это счастье было думать про него сейчас, когда она высвобождалась из того места, куда он не мог приехать. Какое счастье!
Поезд двинулся, она залезла на вторую полку, закинула руки за голову и уснула сразу же, мгновенно, а когда открыла глаза, то было уже очень жарко, под окном мальчишки продавали яблоки и груши, счастливо верещал ребенок, ласково смеялась его мать.
«Пора бы мне родить, — потягиваясь в жаре и духоте, подумала Люба. — Рожу маленького Вагаршака, будет так же вопросительно смотреть, как он. А если дочка, назову Ашхен, пусть старухе будет стыдно!»
И, повернувшись на бок, накинув шелковый платочек на ухо, чтобы не мешал вагонный веселый шум, стала думать про своего Саиняна и про то, как все это у них случилось. «Дурачок какой! — ласково думала она, вновь задремывая. — Словно бы и не взрослый, словно бы навсегда застрял в мальчишках. Может быть, все настоящие гении такие?»
И ей представилось то собрание, когда Иван Иванович Елкин, окончательно решивший избавиться от докучливого студента, взгромоздился на кафедру и стал делиться с тревожно затихшим залом своими соображениями насчет Вагаршака и его индивидуалистической, мелкобуржуазной, «какой-то такой не нашей, товарищи, не нашенской, что ли, сути…»
Говорил он доверительно и как бы даже скорбел, что-де проглядели, вовремя не разобрались, не предостерегли, а, наоборот, дали расцвести этому с виду привлекательному, ярко окрашенному, пестрому, затейливому, но в глубине…
Тут Иван Иванович несколько запутался между цветком и плодом.
— Все-таки плод Саинян или цветок? — крикнула из зала Люба.
— Габай, ведите себя прилично! — взвился Жмудь, известный подлипала.
— Нам известна биография Саиняна, — продолжал Иван Иванович, вырвавшись наконец из чуждой ему области ботаники. — Но мы также помним мудрые слова о том, что сын за отца не отвечает!
— Я — отвечаю! — круто, с места сказал Саинян.
— Как? — не расслышал Елкин и даже наклонился вперед.
— Я отвечаю за своего отца, — встав, чтобы его слышали все, громко и веско произнес Вагаршак. — Отвечаю. Произошла ошибка. Ежовщина…
Договорить Саиняну Елкин не дал.
— В таком случае я принужден прибегнуть к пословице, довольно известной: яблочко от яблони недалеко падает…
Зал помертвел.
Елкин говорил все бойчее и бойчее, и зал слушал подавленно, теперь все понимали, каков Иван Иванович — дока на разоблачения. И то, как с ним опасно связываться. А холуй Жмудь даже крикнул:
— Абсолютно правильно!
— Мы пошли навстречу Саиняну, — продолжал Елкин, — и мы дали ему возможность побывать в обстановке фронтовой хирургии… Мы…
— Вы здесь ни при чем! — сказал Вагаршак. — Вы даже не знали, что я уехал…
— Вам следует молчать! — крикнул Иван Иванович и налился кровью. Он умел приводить себя в бешенство.
— А вам не следует лгать! — бесстрашно произнес Вагаршак.
Главным в речи Елкина было то, что Саинян, вернувшись с фронта, привез не благодарность институту, замечательной кузнице медицинских кадров, а какие-то завиральные, или, если называть факты их подлинными именами, то клеветнические идеи насчет того, что имеются преподаватели, которые даже не представляют себе, что такое фронт и фронтовая обстановка.
— А разве таких нет? — спросил Вагаршак из зала.
Голос его прозвучал мягко и даже грустно. А проректор, про которого было известно, что он терпеть не может всяких реплик, не зазвонил, только долгим взглядом посмотрел на Саиняна, словно раздумывая о чем-то.
Елкин вновь рванулся на Вагаршака.
— Конечно, институт ошибся и даже опозорил свое имя, послав Вагаршака Саиняна на фронт. Его не следовало посылать. Надо сначала проверить того, кому доверяется такая почетная поездка, проверить глубоко, серьезно, основательно.
— Товарищи, — опять из зала сказал Вагаршак, — ведь мы собрались, чтобы выслушать мое сообщение. Профессор Елкин, еще не узнав, о чем я собрался говорить, на основании каких-то слухов и слушков заранее назвал меня клеветником и почему-то занялся моей неинтересной биографией…
— Конкретнее! — потребовал Елкин.
— Конкретнее я скажу, когда получу слово, — с усмешкой, совершенно взбесившей Елкина, произнес Вагаршак.
Зал зашумел. Институт в огромном большинстве своем знал Саиняна как сильного, даже единственного в своем роде студента. Таким обычно не завидуют. Таких уважают и такими даже хвастаются. Пишут в письмах: «Есть у нас Саинян. Это, конечно, в будущем великий доктор». А то, что «в будущем великий доктор» еще к тому же и прост, и храбр, и легок с людьми, конечно, привлекало к нему сердца. И теперь зал шумел опасным шумом.
— Студент Саинян имеет слово, — позвонив в звонок, произнес проректор, неплохой в прошлом хирург и суровый человек. — Сколько вам нужно времени?
— Два часа.
Елкин все еще занимал кафедру. Он не уходил. Не сдавался.
— Прошу вас, — сказал проректор.
Не такой уж был дурак профессор Елкин, чтобы так, зазря, распрощаться со своим авторитетом. А покинуть кафедру — это рискнуть авторитетом.
Вагаршак медленно пошел по проходу.
Елкин совсем разорался.
Он не предоставит трибуну человеку чуждых взглядов. Он считает более чем легкомысленным давать слово Вагаршаку.
Но Саинян все шел и шел к нему — высокий, худой, с недобро мерцающими зрачками.
Тогда Иван Иванович протянул короткие ручки к проректору, заклиная его проявить мужество в эти минуты. Покончить с проявлениями либерализма и ударить кулаком — вот чего он просил. На словах «ударить кулаком» профессор Елкин поперхнулся и закашлялся — с ним это не раз случалось и на лекциях, тогда студенты внимательно приглядывались, не хватит ли любимого профессора кондрашка. Пожалуй, следовало использовать этот кашель, и профессор Елкин, театрально пошатываясь, пошел к столу, за которым сидел проректор. В аудитории на весь этот спектакль реагировали бурно, хихикая без стеснения. Злой и сконфуженный тем, что студенты его разгадали, Иван Иванович теперь уже совсем нарочно кашлял, только чтобы помешать своему врагу Саиняну.
Но сколько можно было здесь кашлять?
Вагаршак терпеливо пережидал.
И его терпение тоже веселило студентов.
— Ну что ж, — наконец заговорил Вагаршак, — профессор Елкин хотел, чтобы я говорил конкретно. Я и буду говорить только конкретно, буду говорить о том, какие у нас у всех долги перед воюющей от Баренцева до Черного моря Красной Армией.
И, задумавшись на мгновение, он привел пример, вкратце сводившийся к следующей формулировке: ни в одной из воюющих армий не существует столь совершенной системы оперативного лечения раненных в живот, как именно в нашей Красной Армии. Так вот, известно ли здесь, в институте, чем именно отличается наша система оперативного лечения раненных в живот от иных систем? Речь идет, разумеется, о современном лечении, а не о том, которое рекомендуется старыми книгами.
Елкин опять крикнул:
— Вы что, нас экзаменовать собрались?
— К сожалению, мне не дано это право, — без лишней скромности заявил Вагаршак.
Проректор негромко постучал костяшками кулака по столу.
Саинян вежливо поклонился и извинился: