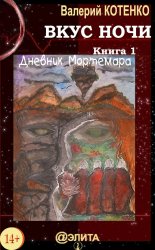Империя серебра Иггульден Конн
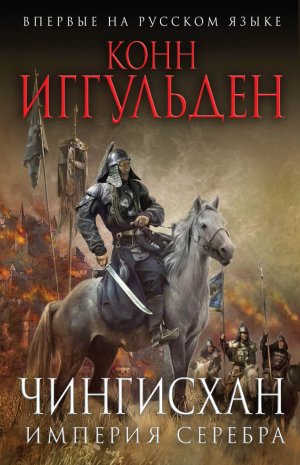
На ее вопрос советник лишь скорбно закатил глаза.
— Понятно, — сделала вывод Сорхахтани. — Видимо, она в летнем дворце на реке Орхон. Да, именно туда я бы ее услала, если бы вздумала изменой захватить власть в этом городе. Если бы намеревалась умертвить хана на его ложе и заменить его… кем? Его братом Чагатаем? А? Он не заставит себя долго ждать, да, Яо Шу? Такова ваша задумка? Так что лежит за этой дверью, советник? Что вы здесь натворили?
Голос женщины становился все громче и пронзительней. Яо Шу болезненно морщился от резкости ее тона и определенно не знал, что делать. Велеть тургаудам ее утихомирить он не мог: рядом стояли готовые за нее вступиться сыновья. Понятно, что первый из стражников, кто хотя бы к ней притронется, вмиг лишится руки. Особенно угрожающе смотрелся Менгу, давно уже не тот замкнутый задумчивый мальчик, каким когда-то был. Яо Шу намеренно обратил свой взор на Сорхахтани, избегая глаз ее старшего сына, взгляд которого был подобен железу.
— Госпожа, я должен следовать распоряжениям, которые мне даны, — начал он снова. — Входить в эту дверь запрещено решительно всем. Хан никого не принимает. Видеть вас сейчас он не желает — ну что я могу поделать? Прошу вас, проведите этот день в городе. Отдохните, подкрепитесь. Быть может, завтра он изъявит желание с вами повидаться.
Сорхахтани напряглась так, словно собиралась наброситься на советника, — воистину тигрица. И все же дворцовая служба Яо Шу не расслабила. Сыновья, помнится, рассказывали ей, как он однажды в саду выхватил стрелу прямо с натянутой тетивы. Казалось, вечность минула с тех пор, когда был еще жив ее муж… На глаза сами собой навернулись слезы, которые женщина сморгнула. Сейчас время для гнева, а не для сожаления. Если не дай бог расплакаться, через этот порог ей нынче не перейти.
И Сорхахтани сделала глубокий вдох.
— Убийство! — заполошно выкрикнула она. — Хан в опасности! Сюда, быстрее!
— Да нет никакой опасности! — сердито ответил Яо Шу.
Сумасшедшая, одно слово. Чего она пытается добиться, вопя на всю округу, словно ошпаренная кошка? А по коридору уже раздавался топот быстро бегущих ног. Вот досада… Та ночь, после которой Угэдэй стал ханом, все еще была болезненно памятна дворцовой страже. Малейший шорох, и тургауды с кебтеулами уже здесь, всем скопом.
Точно. Секунда-другая, и коридор с обеих сторон перегородили примчавшиеся воины, во главе которых стояли тысячники-кебтеулы в лакированных доспехах — черные с красным, сабли наголо. Яо Шу поднял обе руки ладонями наружу: я чист.
— Налицо недоразумение… — начал он.
— Никакого недоразумения здесь нет, — осекла его Сорхахтани. — Алхун, — обратилась она к старшему из стражников.
Яо Шу мысленно простонал. Разумеется, она знает здесь всех по именам. Какая удивительная, надо признать, память на такие подробности. Хотя, может, это была часть ее замысла — выведать и запомнить имена заступивших на стражу. Мысли заметались в поиске слов, которые бы спасли положение.
— У госпожи горячка, — бросил он.
Его слова кебтеул пропустил мимо ушей.
— Что за шум? — спросил он Сорхахтани напрямую.
Женщина потупила голову. К раздражению Яо Шу, в ее глазах горели слезы.
— Этот цзиньский чиновник не может объяснить, куда делся хан, которого вот уже сколько дней никто не видел. И говорит он путано. Его слова, Алхун, вызывают у меня подозрение. Я ему не верю.
Алхун кивнул — человек спорый на мысль и действие, как и подобает воину его ранга.
— Советник, вам придется посторониться, — повернулся он к Яо Шу. — Мне необходимо проверить, что с ханом.
— Но он дал приказ, — с чувством выдохнул Яо Шу, явно пытаясь нагнать этим страху. Не получилось.
— Вот и поглядим. Отойдите в сторону, сейчас же.
Двое стояли, вызверившись друг на друга и явно позабыв о том, что они в коридоре не одни. Ханский советник держался твердо. Еще немного — и, того гляди, прольется чья-то кровь. Напряженную паузу прервала Сорхахтани:
— Яо Шу, вы, безусловно, будете нас сопровождать.
Советник раздраженно дернул головой, но тем не менее Сорхахтани предложила ему выход, и он за это ухватился.
— Что ж, извольте, — сухо бросил он и, обращаясь к Алхуну, добавил: — А ты молодец, кебтеул. Служишь бдительно. Этих четверых с мечами к хану не допускать. Всех вначале обыскивать на наличие оружия.
Сорхахтани хотела воспротивиться, но тут Яо Шу восстановил равновесие сил.
— Будет как я сказал, — настоял он.
— Они останутся здесь, — поспешно кивнула Сорхахтани, как будто решение исходило от нее. На самом же деле то, что ее сыновья останутся снаружи, ее вполне устраивало. Со своими клинками и доспехами они, так или иначе, обеспечивают ей поддержку и в то же время не услышат самого разговора: им это незачем.
С нервной гримасой Яо Шу поднял небольшой медный засовчик — резной, в форме дракона, свернувшегося вокруг центра двери («Вот вам еще один признак цзиньского влияния на хана», — мимолетно подумала Сорхахтани). На входе ветер дохнул в лицо холодком.
Светильники были погашены, мутноватый свет сочился лишь из открытого окна. Ставни распахнуты с такой силой, что одну из них наполовину сорвало: лопнула петля. Змеисто вились шелковые занавеси, шурша и упруго похлопывая при каждом порыве ветра.
В комнате оказалось на удивление знобко — настолько, что изо рта при дыхании шел парок. Наружная дверь захлопнулась, и сердце Сорхахтани тревожно екнуло при виде неподвижной фигуры, распростертой на кушетке посреди комнаты. Как мог Угэдэй терпеть такой холод, лежа в одной лишь кисейной рубахе без рукавов и исподних штанах? Он лежал на спине, уставясь в потолок. В глаза бросались его синюшные ступни.
При виде вошедших хан не шевельнулся, и на секунду Яо Шу стало еще холодней от мысли, что они застали не хана, а его безжизненное тело. Но затем советник заметил исходящий от безмолвной фигуры бледный парок и вздохнул с облегчением.
На какое-то время все замешкались, не зная, как быть. Кебтеул Алхун убедился, что хан жив, так что его задача была выполнена, но теперь по закону чести ему следовало перед уходом как-то извиниться за то, что он нарушил покой правителя. Помалкивал и Яо Шу, чувствуя себя виноватым в том, что нарушил указание никого не впускать. Получается, Сорхахтани обвела их всех вокруг пальца.
Разумеется, ей и надлежало заговорить первой.
— О мой повелитель, — произнесла она. — Мой хан. — Последнее прозвучало чуть громче, перекрывая шум ветра, но Угэдэй все ее слова встретил одинаково бесчувственно. — Я пришла к тебе в моем горе, о властитель мой.
В ответ все то же молчание. Яо Шу со злорадным интересом наблюдал, как вдова Тулуя сжала челюсти, сдерживая безмолвное раздражение. Советник подал знак увести ее. Кебтеул поднял руку, намереваясь взять Сорхахтани за локоть, но она отмахнулась.
— Мой муж пожертвовал ради тебя своей жизнью, повелитель. Как же ты думаешь распорядиться этим даром? Эдак, лежа посреди холодной комнаты в ожидании смерти?
— Всё, хватит, — в тихом ужасе шикнул Яо Шу.
Он сам крепко ухватил Сорхахтани за руку и властно повлек ее обратно к двери. Все трое замерли, когда позади явственно послышался скрип. Хан приподнялся на кушетке. Ладони его слегка тряслись, лицо было желтовато-землистым, глаза налились кровью.
Под его тяжким взглядом старший кебтеул хана опустился на колени и склонил голову до самого пола.
— Встань, Алхун, — проскрежетал Угэдэй. — Зачем ты здесь? Или я не говорил, чтобы меня не тревожили?
— Прошу простить, повелитель. Меня ввели в заблуждение, что вы больны или даже при смерти.
К общему удивлению, Угэдэй на это лишь невесело усмехнулся:
— А может, и то, и это, Алхун… Ну что ж, ты меня увидел. А теперь ступай вон.
Кебтеул не ушел, а буквально испарился. Угэдэй воззрился на своего советника. На Сорхахтани он пока не глядел, хотя и поднялся на звук ее голоса.
— Яо Шу, оставь меня, — молвил он.
Советник согнулся в глубоком поклоне, после чего с еще большей силой ухватил Сорхахтани и потащил к дверям.
— Хан, повелитель мой! — выкрикнул она.
— Хватит! — шикнул Яо Шу, дергая ее за собой. Если бы он ослабил хватку, Сорхахтани бы упала, а так она крутнулась назад, разъяренная и беспомощная.
— Руки убери! — прошипела женщина в ответ. — Угэдэй! Как можешь ты видеть такое со мной обращение и ничего не предпринимать? Не я ли стояла с тобой в этом самом дворце в ночь ножей? Мой муж ответил бы на такое оскорбление. Но где он сейчас? Угэдэй!
Она была уже почти в дверях, когда хан снова подал голос:
— Яо Шу, выйди вон. Пускай она подойдет.
— Мой повелитель, — начал тот в ответ, — она…
— Пускай подойдет.
Сорхахтани ужалила советника взглядом ядовитой змеи и, потирая руку, выпрямилась. Яо Шу снова согнулся и, не оглядываясь, вышел с непроницаемым лицом. Дверь за ним с тихим щелчком закрылась. Сорхахтани с прыгающим от восторга сердцем стояла, медленно переводя дыхание. Она все же попала сюда. Все чуть было не сорвалось, причем непоправимо, но она таки пробилась к хану и осталась, одна из всех.
Угэдэй смотрел, как она подходит. Он чувствовал себя виноватым, но глаз не отводил. Не успела Сорхахтани вымолвить слова, как послышалось шарканье шагов и звяканье стекла о металл. Оказывается, это в комнату с подносом вошел ханов слуга Барас-агур. Вошел ну очень некстати.
— Барас, я не один, — прокряхтел Угэдэй. — У меня посетитель.
Слуга поглядел на Сорхахтани с неприкрытой враждебностью:
— Хану нехорошо. Зайдите в другой раз.
Сказал с твердостью доверенного лица — мол, здесь в услужении я, а значит, всем и заправляю. Сорхахтани улыбнулась: ишь ты. Небось за время болезни хана уже успел себя зачислить к нему в матери. Вид у суетящегося вокруг хана слуги был определенно довольный.
Женщина не тронулась с места. Барас-агур поджал губы и поставил поднос возле своего хозяина, демонстративно звякнув.
— Я еще раз говорю, — сердито посмотрел он, — хан недомогает, а потому ему нынче не до просителей.
Видя его растущее недовольство, Сорхахтани чуть повысила голос:
— Спасибо за чай, Барас-агур. Хана я обслужу сама. А ты, я надеюсь, знаешь свое место.
Слуга вспыхнул и поглядел на Угэдэя, но, не дождавшись поддержки, с ледяной неприязнью поклонился и вышел. Сорхахтани положила в исходящую паром золотистую жидкость драгоценные, как жизнь, крупицы буроватой соли и добавила из крохотного серебряного кувшинчика молоко. Пальцы ее были сноровисты и проворны.
— Подай мне, — проговорил Угэдэй.
Сорхахтани грациозно опустилась перед ним на колени и с наклоном головы протянула чашку:
— Я вся во власти моего повелителя хана.
От прикосновения его рук женщину пробрал озноб. В этой продуваемой всеми ветрами комнате хан был холоден, как лед. Сквозь полуопущенные ресницы она могла видеть его лицо — темное, в крапину, как будто где-то внутри у него синяки. Вблизи стало заметно, что ноги у него все в прожилках, как мрамор. С кровяными прожилками были и бледно-желтые глаза. Прихлебывая чай, от которого по ветру ветвилась струйка пара, хан молча взирал на свою гостью.
Сорхахтани пристроилась у Угэдэя в ногах.
— Спасибо за то, что ты послал ко мне моего сына, — глядя на него снизу вверх, сказала она. — Для меня было утешением услышать наихудшее от него.
Угэдэй отвернулся. Чашку он переместил из одной руки в другую: горячий фарфор обжигал замерзшие пальцы. Знает ли эта коленопреклоненная женщина, насколько она красива, как пряма и горделива ее осанка, как шелковисты ее волосы, которые треплет налетающий ветер? Единственное живое существо в мире призраков, открытых его зачарованному созерцанию. С самого своего возвращения в Каракорум о смерти Тулуя он ни с кем не заговаривал. Чувствовалось, что Сорхахтани тянет именно к этой теме, и хан на своей низкой кушетке сейчас отстранялся, как мог, от этой женщины, единственное тепло для себя обретая в чашке, которую сейчас нянчил в руках. Неизъяснимые истома и слабость владели им все это время. Месяц летел за месяцем, а державные дела пребывали в запустении. Угэдэй все никак не мог отрешиться от сумрачных дымно-холодных рассветов и закатов. Он ждал смерти, а та все медлила, и он ее за это проклинал.
Сорхахтани с трудом верилось, что перед ней тот, прежний Угэдэй — настолько он изменился. Из Каракорума хан выехал полным жизни и боевого задора, постоянно был навеселе. Еще свежий после победы в борьбе за ханство, он со своими отборными туменами отправился потеснить границы цзиньского государства; все тяготы похода были ему нипочем. Вспоминать те дни — все равно что оглядываться на юность. Возвратился же Угэдэй ощутимо состарившимся, с глубокими морщинами на лбу, вокруг глаз и у рта. Пристальные мутные стариковские глаза уже не напоминали Чингисхана. В них не было искры, одна лишь равнодушная невозмутимость. Не было чутья опасности. А это никуда не годится.
— Мой муж был в добром здравии, — заговорила Сорхахтани с внезапным жаром. — Он прожил бы еще много лет, увидел бы, как из его сыновей вырастают настоящие мужчины, мужья. Быть может, у него были бы еще и другие дети, от других жен, помоложе. Со временем он стал бы дедом. Мне нравится размышлять о радости, которую Тулуй испытывал бы в свои зрелые годы.
Угэдэй отшатнулся так, будто она на него набросилась, но Сорхахтани продолжала без колебаний, а голос ее был тверд и чист, так что отчетливо звучало каждое слово:
— Чувство долга у него было такое, мой великий хан, какое нынче редко у кого и встретишь. Свой народ он ставил выше своего здоровья и благополучия, выше самой своей жизни. Он верил во что-то более великое, чем он сам, чем мое счастье, чем даже жизни его сыновей. Пожалуй, он видел жизнь глазами твоего отца; верил, что народ державы, поднявшейся из степных племен, сможет найти себе достойное место в мире. Что он заслуживает такого места.
— Я… — начал Угэдэй. — Я говорил, что…
Сорхахтани перебила его, от чего глаза хана на мгновение стали яркими от гнева, но затем вновь потускнели:
— Он бросил свое будущее на ветер, но не только ради тебя, мой повелитель. Он любил тебя, но дело здесь не только в любви, а еще в воле и в мечтах его отца. Понимаешь ли ты это?
— Конечно, понимаю, — устало ответил Угэдэй.
Сорхахтани кивнула и вновь заговорила:
— Он дал тебе жизнь, став тебе вместо второго отца. Но не только тебе. А и тем, кто придут после тебя по линии твоего отца, чтобы жила и крепла держава. Воинам, которые сегодня еще дети; детям, которые еще только родятся.
В попытке ее пресечь Угэдэй вяло махнул рукой:
— Я сейчас устал, Сорхахтани. Наверное, лучше будет, если…
— И как же ты воспользовался этим драгоценнейшим из даров? — шепотом спросила вдова Тулуя. — Ты услал свою жену, ты оставляешь своего советника безнадзорно бродить по пустому дворцу себе на уме. Твои кешиктены без тебя чинят в городе произвол и беззаконие. Двоих из них вчера казнили, ты знаешь об этом? Они убили мясника, позарившись в лавке на говяжью ляжку. Где же дыхание грозного хана на их шеях? Где чувство, что все они — часть единого великого народа? Неужели только в этой комнате, на этом леденящем ветру, рядом с тобой, таким одиноким и ко всему безучастным?
— Сорхахтани…
— Здесь ты умрешь. Тебя застанут холодным, окоченелым. А дар Тулуя окажется просто выброшен зазря. Тогда скажи, как воздать нам за то, что он для тебя сделал?
Лицо Угэдэя исказилось, и Сорхахтани в замешательстве увидела, что хан едва сдерживает себя, чтобы не расплакаться. Перед ней был определенно сломленный человек.
— Я не должен был допустить, чтобы он так с собой поступил, — выдавил Угэдэй. — Сколько мне еще осталось? Месяцы, дни? Я ведь и не знаю.
— Что за глупости! — сердито воскликнула Сорхахтани, забывая, что перед ней хан. — Ты будешь жить и здравствовать еще сорок лет, и вся огромная держава будет тебя почитать и бояться. Тысяча тысяч детей будут рождены и названы в твою честь, если ты только оставишь это свое узилище, а вместе с ним — и свою слабость.
— Ты не понимаешь, — поник Угэдэй. Лишь два человека знают о его роковой слабости. А если он поведает о ней Сорхахтани, то ведь возможно, что молва вскоре докатится до всех станов и туменов. Тем не менее они сейчас одни, а она стоит перед ним на коленях, и ее глаза в полумраке сияют так мягко… А он совсем один, совсем измучился… Нет сил терпеть.
— Сердце мое слабо, — на одном выдохе признался хан. — Я в самом деле не знаю, сколько мне отпущено. Я не должен был допустить, чтобы он принес ради меня такую жертву. Но я… — Голос его оборвался на полуслове.
— О, муж мой, — влажным, переворачивающим душу шепотом произнесла Сорхахтани, наконец поняв. От нахлынувшего горя ей перехватило горло. — Любовь моя. — Она посмотрела на хана глазами, сияющими от слез. — Он это знал? Тулуй знал об этом?
— Да, наверное. — Угэдэй отвел взгляд.
Как ответить, он точно не знал. Насколько ему известно, шаман обсуждал телесную слабость хана с его родичами — братом и дядей. Но самого Тулуя Угэдэй не расспрашивал. Вынырнув тогда из темной реки забвения, хан, задыхаясь, хватался за жизнь и готов был уцепиться за все, что ему только предложат. В ту минуту он отдал бы что угодно, лишь бы протянуть еще один день, еще разок полюбоваться на солнышко. Теперь ту мучительную жажду жизни сложно и припомнить, как будто ее испытывал кто-то другой. Холодная комната с напружиненными ветром шелковыми шторами словно наводнилась тенями воспоминаний. Угэдэй огляделся, моргая, словно спросонья.
— Если он знал, то это лишь делает его жертву еще более ценной, — рассудила Сорхахтани. — И еще больше подтверждает, что тебе негоже тратить отпущенные дни впустую. Если он тебя сейчас видит, Угэдэй, то наверняка думает: «Ну вот, стоило ли мне отдавать за это жизнь?» Не стыдно ли ему за своего брата?
При этих ее словах Угэдэя уколол гнев.
— Да как смеешь ты так со мной разговаривать! — вскинулся он.
Моргать, подобно невинному ягненку, он перестал. Во взгляде проклюнулось нечто от прежнего хана. Сорхахтани это приветствовала, хотя от услышанного голова все еще шла кругом. Если Угэдэй умрет, кто возглавит державу? Ответ напрашивался сам собой, и пришел тотчас. Чагатай. Он будет в Каракоруме в считаные дни, с победным въездом в город принимая дар благодетельного небесного отца. Одна мысль об этом его хищном удовольствии вызывала зубовный скрежет.
— А ну вставай, — скомандовала она Угэдэю, как ровне. — Вставай, всевластный хан. Даже если тебе осталось немного, сделать предстоит многое. Нельзя терять ни дня, ни даже одного утра! Возьми свою жизнь в кулак, сожми обеими руками и удерживай прочнее прочного. Другой у тебя в этом мире все равно не будет.
Хан начал что-то говорить, но Сорхахтани, потянувшись, привлекла его голову к себе и крепко припала губами к губам. Дыхание и губы Угэдэя были прохладны и припахивали чаем с какими-то травами. Когда она его выпустила, хан отшатнулся назад, а затем вскочил, изумленно на нее таращась.
— Что это такое, Сорхахтани? — плеткой взметнул он правую бровь. — Или у меня мало своих жен?
— Мало или нет, а мне надо было убедиться, что ты живой, мой повелитель. Мой муж отдал жизнь за эти драгоценные дни, уж сколько их там у тебя наберется. Вопрошаю тебя его именем: ты мне веришь?
Ум Угэдэя все еще блуждает, это очевидно. Какую-то его часть Сорхахтани пробудила, но туман отчаяния, основанный, быть может, на цзиньских отварах, все еще висит перед ним пеленой, притупляя разум и волю. Однако когда он видел ее стоящей перед ним на коленях, в глазах его явно мелькнул интерес. Воля Угэдэя подобна палке, несомой по бурному потоку, — вот ее видно, а вот ее уже утянуло на глубину.
— Нет, Сорхахтани, я тебе не верю.
— Иного я и не ждала, мой повелитель, — улыбнулась женщина. — Но ты убедишься, что я на твоей стороне.
Встав с коленей, она позакрывала окна, прервав наконец могильное завывание ветра.
— Сейчас, повелитель, я позову твоих слуг. Ты почувствуешь себя лучше, когда как следует поешь.
Угэдэй не успел опомниться, как Сорхахтани уже криком подозвала Барас-агура и вывалила на него ворох указаний. Слуга покосился на хана, но тот лишь пожал плечами и махнул рукой — делай, что велят. Вообще-то хорошо, когда рядом есть кто-то, кто знает, что тебе нужно. Одна быстрая мысль вызвала к жизни другую:
— Надо бы, наверное, возвратить во дворец мою жену и дочек. Они сейчас в летнем доме на Орхоне.
Сорхахтани на минуту призадумалась.
— Знаешь, повелитель, ты все еще не до конца здоров. Думаю, подождем несколько дней, а уж там вернем сюда и семью твою, и прислугу. Не всё сразу.
Какое-то время, пускай и недолгое, она будет с ханом бок о бок, ухо к уху. С его печатью можно будет послать Менгу в поход к Субэдэю, где сейчас решается будущность державы. Отбрасывать почем зря такое влияние, да еще так быстро — к чему оно?
Угэдэй кивнул, не в силах устоять перед обаянием Сорхахтани.
Глава 18
Землю уже сковывали осенние заморозки и лошади пускали из ноздрей снопы пара, когда Менгу миновал еще одну пару разведчиков Субэдэя. Перед этим военачальником он благоговел, но, признаться, не был готов к тому, что для похода ему вверят целый тумен, с которым он двинется к орлоку через разоренные войной места. Между тем за Волгой, на тысячу гадзаров к западу, разграбленные селения и небольшие города лежали в запустении. Менгу проехал мимо как минимум трех крупных побоищ: над ними все еще завороженно вились птицы, а всякое мелкое зверье потеряло страх от сытости, вызванной обилием гниющего мяса. Этот тлетворный запах пропитывал, казалось, все вокруг, чуясь в каждом дуновении ветерка.
Менгу замечал, что по пути его следования на протяжении дня скачут разведчики, и вот сейчас он наконец увидел основную монгольскую армию. Лето она провела в укрепленном становище, равном по величине Каракоруму, когда тот еще не был обнесен стенами. Сейчас это были сплошь белые юрты, с мирно горящими утренними кострами и большими табунами у горизонта. Менгу, подъезжая рысью, впечатленно покачивал головой.
Стяги тайджи, безусловно, узнали, но все равно Субэдэй отрядил минган для встречи забредшего в далекие чужие места тумена. С молчаливым наблюдением людей орлока Менгу уже свыкся. Сейчас он узнал их командира и увидел, как тот кивнул сам себе. Субэдэй наверняка послал человека, который зрительно мог подтвердить личность ханова родича. Менгу зачарованно следил за тем, как командир подал знак нукеру, и тот поднес к губам длинную медную трубу. Раздался хрипловатый звук, и Менгу удивленно услышал, как ей отозвались невидимые глазу трубы слева и справа, а затем с обеих сторон на расстоянии, не превышающем и трех гадзаров, показались конники. Воинство Субэдэя, оказывается, обступило его с флангов и укрылось в деревьях, а также за небольшой возвышенностью. Это некоторым образом объясняло, каким образом снежный барс-военачальник продвинулся с боями в такую даль от дома.
К той поре как тумен Менгу добрался до становища, пространство — обширное поле с выходом к небольшой реке — оказалось расчищено. Менгу отчего-то занервничал.
— Покажи им холодное лицо, — тихо велел он самому себе.
Когда его тумен достиг расположения лагеря и сноровисто занялся установкой юрт, Менгу спешился. Его десяти тысячам, а также приведенным лошадям нужна была под отдых земля размером с порядочных размеров городок. Видно, Субэдэй приготовился к их прибытию.
Менгу повернулся на радостный окрик и увидел, как к нему по истоптанной траве направляется его дядя Хачиун. Выглядел он гораздо старее, чем когда племянник видел его в последний раз, и к тому же сильно припадал на ногу. Менгу смотрел на дядю с некоторой настороженностью, но протянутую руку тем не менее пожал.
— Сколько уж дней тебя дожидаюсь, — сообщал Хачиун. — Субэдэй нынче вечером будет выслушивать от тебя новости из дома. Ты приглашен к нему в юрту гостем. Заодно услышишь свежие сведения. — Он улыбнулся, с отрадой глядя, как возмужал его племянник. — Я так понимаю, твоя мать располагает источниками, нашим разведчикам недоступными.
Менгу пытался скрыть смятение. Каракорум находится в шести тысячах гадзаров к востоку. Для того чтобы добраться до орлока, понадобились месяцы. Прежде случалось, Субэдэй двигался так быстро, что Менгу в тихом отчаянии не мог за ним угнаться. Если военачальник даже останавливался на определенное время года, чтобы дать отдых табунам и людям, Менгу все это время вынужден был его настигать. Вместе с тем Хачиун говорил так, будто Каракорум располагался в соседней долине.
— Ты хорошо осведомлен, дядя, — сказал Менгу после паузы. — При мне в самом деле ряд писем из дома.
— Мне что-нибудь есть?
— Да, дядя. Письма от двух твоих жен, а также от хана.
— Отлично. Я тогда возьму их прямо сейчас.
Хачиун в предвкушении азартно потер ладони, а Менгу сдержал улыбку: вот отчего, видно, дядя так радостно с ним поздоровался. Может, они здесь не настолько заняты, раз охотятся за свежими новостями из дома. Он подошел к своей лошади, жующей прихваченную инеем траву, и, открыв седельную сумку, вытащил оттуда стопку засаленных желтых свитков с печатями.
Пока Менгу их сортировал, Хачиун исподтишка огляделся.
— Тумен своего отца ты привел не ради одной лишь охраны писем, Менгу. Ты, видимо, остаешься?
Менгу вспомнились усилия матери, какими она вынудила Угэдэя сделать ее старшему сыну такое назначение в войско. Она полагала, что будущность державы — в боевых заслугах, которых он может удостоиться здесь, ну а тот, кто возвратится из похода на запад, сможет схватить под уздцы удачу и в конечном счете — судьбу. Кто знает, насколько мать права. Поживем — увидим.
— С позволения орлока Субэдэя — да, — ответил юноша, вручая письма, предназначенные дяде.
Хачиун, беря их, улыбнулся и хлопнул племянника по плечу:
— Я вижу, ты запылился и устал. Пока ставится твоя юрта, отдохни и поешь. Встретимся вечером.
Внезапно оба — и Менгу, и Хачиун — заметили, что к ним со стороны лагеря приближался еще один всадник.
Взгляд охватывал всю отлогую низину становища с розоватыми дымами костров, что тянулись насколько хватает глаз. При своей неизбывной нужде в воде, пище, дереве, отхожих местах и тысяче прочих жизненно важных вещей становище было местом, где постоянно царит движение. Со звонкими криками и с бесконечными играми в войну носилась ребятня. На них снисходительно поглядывали женщины, занятые множеством разных дел. Тренировались или просто стояли в карауле воины.
Сейчас через становище, уставив взгляд на Менгу, размашистой рысцой ехал Субэдэй. На нем были новые пластинчатые доспехи, чистые и хорошо смазанные, от чего движения его казались непринужденными и легкими. Лошадь под ним была каурая, под солнечным светом почти красная. На пути орлок не смотрел ни влево, ни вправо.
Сдержать его взгляд Менгу стоило труда. Он видел, что Субэдэй слегка хмурится. Затем военачальник ударил лошадь коленями, убыстрив ее так, что та, подскакав, встала, поводя боками и роя копытом землю.
— Добро пожаловать в мой стан, темник, — приветствовал Субэдэй, твердым голосом подтверждая звание Менгу.
Юноша невозмутимо поклонился. Он осознавал, что своим рангом во многом обязан хлопотам матери, имеющей влияние на хана. Однако жертва со стороны отца приподнимала и сына, поэтому получалось, что звание причитается ему по заслугам. Менгу недавно вернулся из похода на Цзинь. И место ему, разумеется, рядом с Субэдэем, в этом он уверен.
Словно в ответ на эти мысли, Субэдэй оглядел прибывший из Каракорума тумен.
— Весть о гибели твоего отца была для меня прискорбна, — сказал он. — Человек он был замечательный. А твой опыт нам здесь пригодится.
Орлок, понятно, обрадовался прибытию такого пополнения. Число его туменов таким образом возрастало до шести, не считая таньмачей, которых примерно столько же. Небесный отец явно благоволил этому походу.
— Прежде чем мы выдвинемся, у тебя есть еще месяц-другой, — продолжал Субэдэй. — Надо дождаться, когда окончательно замерзнут реки. А там мы отправимся на Москву.
— Зимой? — невольно переспросил Менгу.
К его облегчению, Субэдэй лишь беззлобно хмыкнул:
— Зима — это наше время. Урусы на холодные месяцы запираются в своих городах. Лошадей они ставят в конюшни, а сами сидят и греются вокруг больших костров в громадных домах из камня. Когда тебе нужна медвежья шкура, как ты поступаешь? Нападаешь на нее летом, когда она сильна и быстра, или режешь ей глотку, пока она в спячке? Так и мы, Менгу. Холода нам нипочем. Рязань и Коломну я брал как раз зимой. Твои люди присоединятся к караулам и учениям незамедлительно. Это их займет.
Субэдэй кивнул поклонившемуся Хачиуну, цокнул языком и погнал свою каурую кобылу дальше.
— А он… впечатляет, — произнес Менгу. — Похоже, я там, где надо.
— Само собой, — усмехнулся Хачиун. — Просто невероятно, Менгу. Кроме него, только у твоего деда было видение, чувствование похода. Иногда я думаю, что этот человек одержим неким духом войны. Он знает, как поведет себя неприятель. В прошлом месяце Субэдэй послал меня невесть куда стоять в засаде. День стою, два стою, и вдруг вижу: через холм скачет крупный отряд тысячи в три латников, на помощь осажденному Новгороду. — Он улыбнулся, припоминая. — Кто бы мог подумать! А тебе более подходящего места и не сыскать. А иначе что, дома торчать, что ли? Ты прав, что приехал к нам сюда. Чтобы сбить мир с ног на колени, Менгу, нам дается один-единственный шанс. Если мы сделаем это, нас ждут сотни лет мира. Если нет, то все, что построил твой дед, обратится в прах за какое-нибудь поколение. Таковы ставки, племянник. Ты погоди, на этот раз мы не остановимся, пока не дойдем до моря. А то и, бьюсь об заклад, Субэдэй изыщет способ погрузить лошадей на корабли, и тогда весь свет наш!
Чагатай со своим старшим сыном Байдуром скакали верхом вдоль скал Бамиана. Красно-бурые отроги гор к северо-западу от Кабула уже не относились к землям, дарованным Чагатаю Угэдэем, но в принципе для семейства великого хана признанных границ не существовало. Чагатай улыбнулся этой мысли, довольный, что скачет уже по спадающей жаре, в тени сумрачных вершин. Городок Бамиан был древним, и дома здесь были построены из той же серо-коричневой породы, что и сам горный склон. Армии завоевателей прокатывались здесь и прежде, а со здешними селянами Чагатай предпочитал не ссориться. Он со своими людьми доглядывал за землями вдоль берегов Амударьи, но сеять разрушения среди этих селений и городишек ему не было смысла.
Под грозной сенью монгольского хана они, можно сказать, процветали. Тысячи переселенцев начали осваивать земли вокруг ханских владений, зная, что никто не осмелится двинуть армию на Самарканд или Кабул. За первые два года своей власти Чагатай значительно утвердился. Первым делом он взялся за промышляющие в этих краях разбойничьи шайки и воинственные местные племена. Большинство их были уничтожены, а остальные разогнаны, как стадо диких коз, чтобы разнесли подальше весть по тем, кто ее еще не слышал. Шаг оказался верным: среди горожан пошел слух, что в эти края якобы вернулся сам Чингисхан. Люди Чагатая это заблуждение разоблачать не спешили.
Байдур был уже высок ростом, с бледно-желтыми глазами (верный знак принадлежности к роду великого хана), внушающими моментальное повиновение среди тех, кто знал Чингисхана. Направляя свою кобылицу по изломам дороги, Чагатай внимательно наблюдал за сыном. «Другой мир, иная жизнь», — с некоторой печалью размышлял Чагатай. В Байдуровом возрасте он был захвачен междоусобицей со своим старшим братом Джучи, не уступая ему в претензиях стать великим ханом после отца. Воспоминания об этом горьковато-сладкие. Чагатаю навсегда врезался в память миг, когда отец отринул их обоих и сделал наследником Угэдэя.
Весь день неимоверно пекло, но с заходом солнца воздух стал прохладнее, и Чагатай мог расслабиться и в полной мере усладиться окружающими звуками и видами. Его нынешние земельные владения были огромны, еще обширнее просторов родины. Все эти земли завоевал Чингисхан, но дар своего брата Чагатай осмеянию не подвергал. Полнеба охватил закат. Скалы нависали уже ближе, и скачущий впереди Байдур оглянулся, спрашивая глазами, куда следовать дальше.
— К подножию скал, — указал Чагатай. — Я хочу, чтобы ты увидел чудо.
Байдур улыбнулся, а у Чагатая в груди горячо замлело от любви и гордости. А отец, интересно, чувствовал в себе что-нибудь подобное? Чагатай не знал. На секунду он почти пожалел, что рядом теперь нет Джучи и не с кем поделиться, насколько все изменилось, как увеличился мир в сравнении с тем мелким наследством, которое они с братом все никак не могли меж собой поделить. Теперь-то ясно, что горизонтов с лихвой хватало на всех, но мудрость возраста горька и запоздало сожаление о том, что те, с кем ты соперничал, ушли в небытие. Годы юности уже не возвратить и не прожить их заново с большим пониманием. Каким нетерпеливым, подчас глупым он когда-то был! Сколько раз давал себе зарок, что уж со своими-то сыновьями подобных ошибок не допустит… Но им придется отыскивать по жизни свои собственные пути. Чагатаю подумалось еще об одном своем сыне, убитом в ходе набега каких-то полудиких оборванцев. По неудачному стечению обстоятельств, сын оказался вблизи их стойбища. За его смерть эти негодяи потом жестоко поплатились…
Горе нахлынуло, но тут же рассеялось, как мимолетная облачная тень. Смерть присутствовала в жизни Чагатая всегда. И тем не менее он как-то выживал там, где другие — может статься, что и лучше его самого, — гибли. Такой уж он, видно, везучий.
У подножия скал виднелись сотни темных пятен. Из своих прежних поездок Чагатай уяснил, что это пещеры. Некоторые из них естественного происхождения, но в большинстве своем они высечены из камня теми, кто каменному дому на равнине предпочитает прохладные подземные убежища. Разбойники, которых Чагатай сегодня разыскивал, обретались как раз в одной из таких пещер. Некоторые из них довольно глубоки, но, в сущности, дело пустяковое. Скачущий сзади тумен вез с собой достаточно дров, чтобы обложить ими вход в каждую пещеру и выкурить их обитателей наружу, словно диких пчел.
Среди темных, очертаниями напоминающих ногти, входов в пещеры возвышались два перста тени — огромные выбитые в камне ниши. Острые глаза Байдура ухватили их на расстоянии в три гадзара; теперь он взволнованно на них указывал. Чагатай в ответ улыбнулся и пожал плечами, хотя и прекрасно знал, что это такое. Это было одной из причин, по какой он взял сына на эту облаву. Впереди по мере приближения взрастали черные тени. В конце концов Байдур натянул поводья своей кобылицы у подножия наибольшей из этих двух ниш. Измерив взглядом величину силуэта внутри скалы, юноша пораженно замер.
Это было исполинское изваяние, самое крупное из всего когда-либо созданного людьми. В буром камне выбиты складки долгополого одеяния. Одна рука поднята с раскрытой ладонью, другая вытянута, словно что-то предлагая. Собрат этой статуи был лишь немногим меньше. Две гигантские фигуры с неуловимо-загадочными улыбками смотрели на заходящее солнце.
— Кто их сделал? — изумленно спросил Байдур. Он захотел подойти ближе, но его, цокнув языком, остановил Чагатай. Глаза, а также стрелы пещерных жителей весьма остры. Не стоит соблазнять их, тем более своим сыном.
— Это статуи Будды, некоего божества из царства Цзинь, — пояснил он.
— Как? — изумился Байдур. — Но ведь Цзинь отсюда далеко?
Ладони его нетерпеливо смыкались и размыкались; ему явно хотелось подойти и притронуться к этим небывалым фигурам.
— Людские верования, мой сын, не знают границ, — сказал Чагатай. — У нас в Каракоруме, если на то пошло, есть и христиане, и магометане. А собственный советник хана — как раз из поклонников Будды.
— Представить не могу, как их могли сюда переместить, — недоумевал юноша. — Да нет же, они были созданы здесь, просто вокруг них оббили камень!
Чагатай кивнул, довольный быстрым соображением сына. Изваяния были высечены из самих гор, явлены из них тяжелым, кропотливым трудом.
— По рассказам местных жителей, они стоят здесь с незапамятно древних времен; может статься, уже тысячи лет. Там в горах есть еще одна такая, огромная фигура как будто прилегшего человека.
Чагатай ощущал странную гордость, словно он сам был неким образом к этим творениям причастен. Бесхитростная радость сына доставляла ему удовольствие.
— Но для чего ты хотел, чтобы я их увидел? — спросил Байдур. — Я благодарен тебе. Они несравненны, но… зачем ты мне их показываешь?
Чагатай, собираясь с мыслями, погладил мягкие ноздри своей кобылицы.
— Потому что мой отец не верил в то, что будущее можно созидать, — ответил он наконец. — Он говорил, что для человека нет жизненного поприща лучше, чем война с врагами. Трофеи, земли, золото, которые ты до сих пор видел, — все они притекали из этих вроде бы чуждых вер; можно сказать, по случайности. Отец никогда не рассматривал их как что-то, имеющее сугубо свою, обособленную ценность, что они значимы сами по себе. Тем не менее вот оно, Байдур, наглядное тому доказательство. То, что мы созидаем, может длиться и служить памятью другим; может, еще тысячам грядущих поколений.
— Я понимаю, — тихо вымолвил сын.
Чагатай кивнул.
— Сегодня мы выкурим наружу злодеев и разбойников, что обитают в этих пещерах. Я мог бы разбить эти скалы метательными орудиями. Через месяцы и годы я одним своим повелением измельчил бы осколки в мусор, но я решил не делать этого как раз из-за этих статуй. Они напоминают мне: то, что мы делаем, может нас пережить.
Пока садилось солнце, отец с сыном стояли и смотрели, как по лицам гигантских каменных изваяний проходят подвижные тени. За спиной в отдалении покрикивали и посвистывали тысячники и сотники, распоряжаясь возведением ханского хошлона. Разжигались для приготовления вечерней трапезы костры. Жителям пещер отводилась на ожидание ночь. Кто-то из них наверняка попытается в темноте сбежать, но у Чагатая с той стороны уже караулят в засаде воины в чутком ожидании любого, кто на это осмелится.
Когда садились есть, Чагатай молча смотрел, как Байдур скрещивает ноги, берет в правую руку чашку с соленым чаем, а левую машинально кладет на сгиб локтя. Прекрасный юный воин, как раз входит в пору своего расцвета.
Чагатай принял из рук баурчи[24] чай и блюдо с пресными лепешками и ломтями ароматной, щедро сдобренной специями и травами баранины.
— Надеюсь, сын, теперь ты понимаешь, отчего я должен тебя отослать, — проговорил он.
Байдур перестал жевать и поднял глаза.
— Это красивая земля. Зрелая, богатая. Скачи хоть весь день, не объедешь. Но это не то место, где народ и держава могут созидать свою историю. Здесь нет борьбы — так, кое-где конокрады да мелкое отребье, что смеет временами поднимать голову. А будущее, Байдур, ждет нас в походе на запад. И ты должен в него влиться.
Сын не ответил; в сумраке взгляд его темных глаз был непроницаем. Чагатай кивнул, довольный тем, что он не расходует понапрасну слов. Из-под полы дэли отец вынул свернутый свиток.
— Моему брату, хану, я направил письмо с просьбой, чтобы ты присоединился к Субэдэю. Хан свое соизволение дал. Так что возьмешь мой первый тумен как свой собственный, поедешь и научишься от Субэдэя всему, что осилишь. Мы с ним на одной стороне воевали не всегда, но лучшего учителя на свете просто нет. В свое время, через годы, само то, что ты знал орлока, будет стоить в глазах людей многого.
Байдур, склонив голову, кое-как дожевал и сглотнул кусок. До еды ли тут. Ведь это было его самое большое, самое сокровенное желание… И как только отец догадался? Здесь в отцовых владениях он держался лишь из послушания и верности; сердце же его пребывало в великом походе, во многих тысячах гадзаров к северу и западу. От благодарности у юноши защипало в носу и горле.
— Отец, — сипло выдавил он. — Для меня это большая… огромная честь.
Чагатай с хохотком взъерошил ему волосы.
— Так что скачи быстро, сынок. Субэдэй, насколько я его знаю, на месте долго не стоит и ждать никого не будет.
— Я, честно говоря, думал, что ты пошлешь меня в Каракорум, — признался Байдур.
Отец с неожиданной горечью покачал головой:
— Там будущего нет, уж поверь мне. Это стоячее болото, где нет ни движения, ни жизни. Нет, сын. Будущность лежит на западе.
Глава 19
Ветер выл и колдовски шептал на все голоса, как живой; кусал и впивался в легкие при каждом вдохе. Летела одичалая поземка, но тропу было все-таки видно. Субэдэй со своим воинством вел лошадей прямо по замерзшей Москве-реке. Лед был подобен кости, такой же мертвый и мутно-белый в густо-синем сумраке. Сам город лежал как на ладони, на темном фоне проглядывали маковки его соборов и церквей. В сумраке через деревянные ставни в стенах сочился желтоватый свет: тысячи свеч восславляли рождение Христа. Город был в основном заперт — можно сказать, замурован — на зиму: старым и немощным в такие морозы вне жилищ делать нечего.
Монголы, пригнувшись под ветром, упорно шагали цепью. Река, по которой они двигались, шла прямо через центр города. Сейчас она естественным образом представляла собой слабое место: слишком широка для того, чтобы ее охранять или перегородить. Многие из нукеров, проходя под мостом из дерева и камня, задирали вверх головы, оглядывая дугообразные своды пролетов и квадратные колонны опор. С самого моста не было ни окриков, ни возгласов. Городская знать не рассчитывала, что кому-то хватит безумства и дерзости шагать по льду прямо посреди их стольного града.
По реке в Москву вошли только два тумена. Бату с Менгу отдалились на юг, разоряя попутно городки и следя, чтобы никакая сила в пути не могла перехватить монгольские армии. Гуюк с Хачиуном находились, наоборот, на севере, препятствуя возможной помощи, которую урусы могли в спешном порядке послать на выручку московитам. Хотя помощь маловероятна. Тумены, похоже, были единственной силой, изъявляющей готовность передвигаться и воевать в лютые зимние месяцы. Дни стояли синеватые, с ядреным морозным треском. Солнце в сизом от стужи небе проглядывало бледным размытым пятном. Ледяной ветер обжигал лица, сковывал руки и ноги, лишая их силы. И тем не менее люди держались. Многие поверх доспехов надевали также дэли или плащи, кое-кто накручивал на себя косматые звериные шкуры. Кожу промазывали бараньим жиром, заворачивались в коконы из шелка, рядились в тряпье. В обувь закладывали овечью шерсть, но ступни все равно промерзали, да так, что нередко приходилось отнимать пальцы. Губы мороз растрескивал до крови, от холода во рту индевела слюна. Но все же люди жили. Когда с провизией становилось совсем туго, воины надрезали жилы лошадям и припадали к ранкам, наполняя рты жаркой животворящей жидкостью, на которой можно было держаться. Лошади вконец отощали, но они знали, как рытьем копыт добывать из-под снега замерзшую траву, — они ведь тоже выросли в суровых краях.
Субэдэевы разведчики шли впереди основной силы, рискуя на льду своими лошадьми, а еще сильнее рискуя принести назад весть о крупной и слаженной неприятельской силе. В городе стояла какая-то хмельная тишина, нарушаемая лишь ветром да шорохом снеговых ломтей под ногами. Сквозь кристальный морозный воздух издалека доносились песнопения. Языка урусов Субэдэй не понимал, но казалось, что он под стать здешним холодам. Взором багатур обвел окрестность. В вышине отрешенно белела луна. Под ее светом и под дымящейся пылью пороши ледяная дорога была до странности красива. Впрочем, сейчас не до красот. Сейчас цель — сокрушить любого, кто выйдет с оружием навстречу. Только тогда, убедившись, что фланги и тыл в безопасности, можно будет двинуться дальше.
Сам город был невелик. Его храмы стояли над рекой, а вокруг теснились дома священнослужителей и хоромы знати. В лунном свете они сползали к берегу, в путаницу улиц и проулков с домишками поменьше. Все люди здесь питались от реки, что давала им жизнь так же, как сейчас принесет смерть. Голова Субэдэя дернулась, когда где-то в отдалении зашелся криком голос, высокий и ломкий, с безошибочными признаками паники. Их наконец заметили — удивительно лишь, что так нескоро. Голос вопил и вопил, пока так же резко не оборвался: кто-то из разведчиков у берегов использовал крик как ориентир. Снег сейчас окропился багряной кровью, первой за эту ночь. Тем не менее наблюдателя наверняка услышали. Еще недолго, и окрестность, опрокинув тишину, огласит заполошный трезвон колоколов.
В соборе воздух был тяжел от ладана, что белесым шлейфом курился из кадила. Великий князь Ярослав со своей семьей стоял на особом княжьем месте у амвона и, склонив голову, слушал, как с клироса торжественно льются слова молитвы, впервые написанные восемь веков назад:
«Если не был Он плотию, кто возлежал в яслях? И если не Бог Он, кого славили Ангелы, сшедшие с неба?»[25]