Клуб избранных Овчаренко Александр
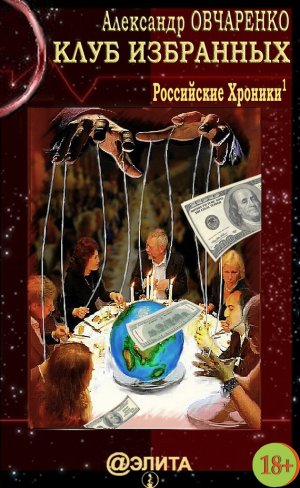
– Мягко стелешь! – промычал Кислицын, дожёвывая бутерброд. – А если моих ребят перестреляют? Помнишь, как в известном фильме: «Собирайтесь! В Марьиной Роще засаду перебили»!
– Ах, Костя, Константин! – с укоризной произнёс Пахом, – Если что-то пойдёт не так, то меня первого шлёпнут, а мне моя жизнь дорога, как память! Живы будут твои ребята. Живы и здоровы. Это я тебе обещаю. Ну, а за риск у нас доплата по отдельной статье.
С этими словами Пахом вынул из портфеля пухлый конверт и передал Кислицину. В конверте была тугая пачка зелёных американских денег.
– Не надо, Пахом! Зачем? – застеснялся Кислицын и отодвинул конверт от себя.
– Бери Костя, бери! Это не подстава. Будем считать, что ты взял у меня в долг, сроком этак лет на двадцать.
Кислицын был честный мент, и денег раньше никогда не брал, за что его Пахом очень уважал. Костя выделил бы людей и без подарка в конверте, но Пахом знал, что в Управлении второй месяц не выдавали зарплату, и что жена начальника уголовного розыска не может кормить грудью своих девочек– близнецов, так как у неё от недоедания пропало молоко[16].
Вечером этого же дня Пахом положил на стол Харьковского листок с планом местности. На плане была крестом помечена балочка с двумя берёзками.
– Звоните «залётным», назначайте встречу на завтра, часов на семь вечера. Я буду ждать их здесь! – и Пахом ткнул пальцем в крестик на плане.
Второй звонок по номеру, найденному в своей милицейской записной книжке, Пахом сделал из личного кабинета. На дверях пахомовского кабинета висела красивая медная табличка, надпись на которой уведомляла посетителей, что владелец данного кабинета не кто иной, как «Начальник службы безопасности Пахомов В.С.».
Устроившись удобно в высоком кожаном кресле, Пахом набрал полузабытый телефонный номер.
– Алло! Виолетта Павловна? Доброго здоровьица. Как жизнь половая? Как бизнес?
– Чего это ты, волчара, моим бизнесом интересуешься? – неласково спросил его женский голос с приятной хрипотцой. – Тебя из «ментовки» поганой метлой вычистили, а ты всё не успокоишься!
– Об этом, лапушка, мы поговорим с тобой попозже, когда ты придёшь ко мне на шёлковые простыни.
– Что бы я…! Я к тебе…! Да ни за какие деньги! – взвыла невидимая собеседница.
– Поспорим? – усмехнулся Пахом и назвал сумму.
Возникла затяжная пауза, во время которой Пахом хлебнул нарзана прямо из горлышка открытой бутылки.
– Я подумаю, – ответил женский голос из телефонной трубки. – Но ведь ты не за этим звонишь? Я ведь тебя, Пахом, хорошо знаю.
– Вот что мне в тебе, Виолетта, нравится – так это редкое сочетание ума и красоты, и если бы не твоё распутство, я бы к тебе сам посватался!
– Льстец кривоногий! Не тебе меня воспитывать. Говори, чего надо.
– Любви, Виолетта! Большой, и по возможности чистой любви, причём в двух экземплярах. Гости у меня завтра будут, так что ты мне двух своих девочек часикам к двенадцати подгони. Да не шалав вокзальных, а чтобы девочки были с понятием, разговор могли поддержать, ну и во всех других отношениях приятными были.
– Много просишь. Ну да ладно. Есть у меня парочку интеллектуалок с сексуальным уклоном. Работают, правда, без фантазии, по трафарету, но языком молоть горазды.
– Вот и ладненько. Пусть подъедут за город к фазенде Харьковского.
– Харьковского? Мои девочки ещё так высоко не залетали! Неужто Захар Маркович сподобился?
– Причём здесь Захар Маркович? Я же тебе говорю, гости у меня.
– Поняла. Для себя заказывать будешь?
– Я же тебе, Виолетта, не изменяю!
– Ладно, праведник, тебе видней. А то есть у меня девочка-персик, из молодых да ранних, всё при ней, и в любви большая выдумщица. Последнее время «папики» толстопузые её только и заказывают.
– Не искушай!
– Ладно, не буду. Слушай, Пахом… а что, простыни у тебя правда шёлковые?
На следующий день, в обед, Пахом встречал дорогих гостей. Кислицын прислал оперов не самых умных, но верных и умеющих держать язык за зубами. Это были два Шурика – Саша Манкин и Саша Карогод.
Манкин и Карогод были совершенно два разных человека, да и в возрасте между ними была разница в десять лет, но бессонные дежурные ночи и совместно проведённое в засадах время сдружили этих непохожих людей.
Манкин был молод, горяч, и ещё упивался милицейской романтикой. За романтический настрой и лихой казацкий чуб Манкина любили женщины. Манкин отвечал женщинам взаимностью, никогда не разделяя любимых на потерпевших, свидетелей и подозреваемых, коими они являлись. Романы следовали друг за другом непрекращающейся чередой, что очень огорчало жену Манкина. Боевая подруга сыщика неоднократно пыталась вразумить легкомысленного супруга, после чего Манкин появлялся на работе с расцарапанным лицом. Пристыженный Манкин на время затихал, но как только следы внушения на лице заживали, вновь пускался во все тяжкие.
Карогод был коренаст, молчалив и холост. Годы, проведённые в уголовном розыске, сделали из него закоренелого циника, что не мешало ему быть хорошим опером. Начальство уважало Карогода, Карогод уважал охлаждённую водку.
К женщинам Карогод относился индифферентно. «Нет женщины – нет проблемы»! – любил повторять старый опер. На своём милицейском веку Карогод повидал огромное число падших женщин, убийств и самоубийств на почве ревности, преступлений во имя любви, и изнасилований, которые, со слов обвиняемых, тоже совершались «по любви». Всё это наложило на психику ветерана уголовного сыска определённый отпечаток, поэтому если и находилась желающая приголубить старого холостяка казачка, Карогод делал вид, что не замечает адресованных ему знаков внимания и всячески игнорировал бедную женщину.
Пахом принимал гостей с размахом, не потому, что был щедр за чужой счёт, а потому что исполнение роли, которая отводилась гостям в его гениальном плане, должно было начинаться не на «стрелке», а уже здесь – за накрытым столом.
Учитывая уровень воспитания, а также влияние среды и контингента, с которым гостям приходилось общаться практически ежедневно, Пахом не стал доставать из буфета столовое серебро и саксонский фарфор. Стол был накрыт по-простому, но обильно. По центру стола возвышалась многоярусная фруктовая ваза, заполненная апельсинами, яблоками и виноградом. Вершину вазы венчал большой спелый ананас, который придавал сервировке стола лёгкий буржуазный оттенок. При приготовлении горячих блюд Пахом ограничился тушёной картошкой с мясом и зажаренными в духовке цыплятами. Зато холодных закусок было хоть отбавляй!
Здесь было блюдо с нарезкой из ветчины, сочной буженины и окорока «со слезой». Жирная тихоокеанская селёдка, пересыпанная кольцами репчатого лука и украшенная зеленью, мирно соседствовала с огромной миской помидорного салата; матово поблёскивал тонко нарезанный «голландский» сыр, а отделения в хрустальной менажнице были заполнены чередующимися порциями чёрной зернистой и красной паюсной икры, что делало её похожей на колесо рулетки. Сложенные бледно-розовой пирамидкой мочёные яблоки наполняли обеденный зал тонким ароматом ранней осени и ещё чем-то неуловимым, но до боли знакомым. Возвышающаяся над закусками небольшая горка маленьких крепких малосольных огурчиков с пупырчатой светло-зелёной кожицей откровенно провоцировала на рюмку-другую чистой, как слеза младенца, холодной водочки.
Ближе к обеду поспело горячее, и Пахом выставил на стол большое фарфоровое блюдо, на котором, истекая жиром, раскинули крылышки в последнем полёте жареные цыплята. Рядом Пахом поместил неэстетичную на вид, но вместительную чугунную утятницу с аппетитно пахнущей тушёной картошкой с бараниной, которую Пахом щедро сдобрил чёрным перцем, солью, лавровым листом и молодым чесноком. Всё это кулинарное великолепие было дополнено запотелыми бутылками с охлаждённой водкой. Окинув взглядом сервировку стола, Пахом подумал, и для придания мероприятию большего официоза добавил пару бутылок «Советского шампанского».
Гости не заставили себя долго ждать. Карогод и Манкин прибыли в неизменных кожаных куртках, под которыми угадывались наплечные кобуры, отягощённые табельными «Макаровыми». Оружие Пахом сразу отобрал и со словами: «Нечего женщин стволами пугать!» – запер в хозяйский сейф. Гости, увидев накрытый стол, быстро разоружились и, пропустив мимо ушей фразу про женщин, потянулись к закускам. Но Пахом разрешил выпить только по одной рюмке.
– Слышь, Пахом! Мы вроде как на операцию ехали, а попали на банкет. Праздник, что ли, какой? – хрустнув огурчиком, спросил Сашка Карогод.
– Угу, праздник… День святого опера и ментовской богоматери! – в тон ему ответил Пахом, нанизывая на вилку розовый ломтик ветчины. – План такой: сначала гуляем по полной программе, девчонок треплем, а вечером на «стрелку».[17] Тут недалече балочка есть – место тихое, укромное, кустами поросшее. Вот в тех кустиках вы меня и будете страховать.
– А девчонки зачем? – для проформы спросил Манкин.
– Девчонки? Да так, для снятия стресса и поднятия тонуса.
– Нашёл что поднимать! Этот тонус у Санька никогда не опускается! – заржал Карогод, но его перебил мелодичный дверной звонок.
– Ну, вот и дамы, легки на помине.
Пахом поднялся и пошёл открывать дверь.
– Шлюхи! – констатировал Карогод, привыкший называть вещи своими именами.
Через минуту Пахом ввёл в зал под руки двух девушек. Виолетта Павловна не обманула, девушки были чудо как хороши. На вид им было лет по двадцать. Стройные и одетые со вкусом, по моде, они манили к себе, и не было сил противиться их обаянию. Старый опер тихонечко охнул и про себя помянул чью-то маму. Манкин, наоборот, весь подобрался, как легавая на охоте, да так и застыл с вилкой в руке.
– Знакомьтесь! Это Алла, а это Настенька, – произнёс Пахом, довольный произведённым эффектом.
Алла была с огненно-рыжей причёской «а-ля Пугачёва», тонкой талией и высокими стройными ногами, которые умышленно выставляла напоказ, слегка задрапировав мини-юбкой.
Окинув профессиональным взглядом мужчин, она не стала дожидаться, пока выберут её, а предпочла сделать это сама. Оценив молодость и лихой полынный чуб Манкина, решила остановить свой выбор на нём. Покачивая бёдрами, Алла продефилировала через зал и опустилась на свободный стул рядом с оцепеневшим Манкиным.
Настенька была брюнеткой с матовой кожей, широко распахнутыми зелёными глазами и большой аппетитной грудью. Одета она была в лёгкое белое платье с большим вырезом на спине и приличным декольте спереди. Мужчине даже не надо было раздевать девушку, чтобы оценить её достоинства. Платье выгодно подчёркивало стройность фигуры и богатые выпуклые формы. Настя, опустив ресницы, робко присела рядом с Карогодом и, протянув ему узкую ладошку, тихонько произнесла:
– Анастасия. Можно просто Настя!
– Карогод. Александр Иванович. Можно просто… Карогод. – смутился матёрый опер, осторожно пожимая девичью руку своей сильной короткопалой лапой.
– Предлагаю выпить за знакомство, – произнёс Пахом, наполняя фужеры мужчин холодной водкой.
– Мне тоже беленькой! – попросила Алла и подставила рюмку.
– Александр Иванович, налейте мне вина, пожалуйста! – взмахнув ресницами, произнесла Настя.
У Карогода сладко заныло в груди, и сердце старого холостяка забилось чаще. Схватив бутылку шампанского, Карогод сорвал пробку и окропил благородным напитком не только жареных цыплят, но и стоящего напротив Пахома. Пахом крякнул, но ничего не сказал.
– Чудесно! – захлопала в ладоши Настя. – Будут цыплята в винном соусе!
Чтобы скрыть смущение, Карогод хватил сразу полный фужер ледяной водки, но ничего не почувствовал. Настенька, слегка пригубив шампанское, с неподдельным интересом смотрела на Карогода, который неумело пытался за ней ухаживать.
Выпили по второй. За столом стало шумно. Алла с Манкиным стали пить на брудершафт, чем развеселили всех присутствующих. Карогод, не закусывая, опрокинул в себя ещё фужер водки, и почувствовал, как тёплая волна поднимается откуда-то из глубины души и заполняет всё его существо.
– Не пейте так много! – попросила Настя, положив маленькую ладошку поверх руки Карогода.
За время службы в милиции Карогода дважды били ножом под рёбра и один раз кастетом по затылку, он переворачивался в машине, когда пытался достать угонщика, ему прострелили голень правой ноги во время задержания местного авторитета, но прикосновение молодой девушки причиняло ему ни с чем не сравнимую боль – сладостную боль. Матёрый опер смачно крякнул и впервые за много лет понял, что готов без боя сдаться на милость победителю, верней победительнице.
– Не буду! – пообещал Карогод и щедро положил в её тарелку тушёной картошки.
– Ой, как много! Куда мне столько? – засмеялась Настя, отчего на её щеках появились симпатичные ямочки.
От этих ямочек Карогод окончательно потерял голову. Душа старого циника, сломав коросту недоверия, расправила крылья и полетела навстречу чудесным ямочкам.
– А Вы на Аксинью похожи! – расчувствовался Карогод, забыв, что перед ним девочка по вызову.
– Аксинью?… Ах да, Шолохов! Может быть. – улыбнулась Аксинья по вызову и тряхнула волосами цвета безлунной ночи.
Пахом, как опытный режиссёр, внимательно следил за домашним спектаклем, где разгорались нешуточные страсти.
– Ну что Вы, корнет, так торопитесь? Давайте ещё за столом посидим. Вы мне стихи почитаете, – донеслось с другого конца стола, где Манкин пытался определить качество нижнего белья своей подруги на ощупь.
– Александр! Попридержи коней! – осадил Пахом любвеобильного Манкина.
Манкин отлепился от подруги и метнулся к Пахому.
– Пахомыч! Где тут у тебя можно…
– На втором этаже налево по коридору две спальни, – перебил его Пахом., – Выбирай любую, только покрывало снимите. Как-никак Иран, ручная работа!
Манкин пообещав Алле прочесть всего Пушкина и Блока наизусть, утащил её на второй этаж.
– А Вы, Александр Иванович стихи знаете? Прочтите, пожалуйста. – вежливо попросила Настя и заглянула Карогоду в глаза. Карогод тряхнул головой, и с чувством выдал знакомые ему со школьной скамья есенинские строки:
«Вечер чёрные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Не тебя разлюбил ли вчера?»
– Как это грустно! – произнесла Настя и погладила его ладонью по небритой щеке.
– Лучше бы она меня ударила! – подумал Карогод и почему-то заплакал.
– Ну, что Вы, Саша! Не надо! Вам надо отдохнуть. Пойдёмте со мной, я Вас уложу.
В спальне, лёжа поверх иранского покрывала ручной работы, Карогод тихонько плакал, уткнувшись лицом в обнажённую женскую грудь, и ему хотелось умереть от счастья. Впервые в жизни ему было так хорошо. Анастасия гладила его по голове, и ей тоже хотелось умереть, потому что ей в жизни было очень плохо!
Оставшись один, Пахом терпеливо выжидал, пока Манкин закончит «читать стихи». Когда ритмичное постукивание спинки кровати о стенку сменилось богатырским храпом, Пахом встал из кресла и открыл сейф с оружием…
Разбудив гостей на вечерней заре, Пахом напоил их холодным клюквенным морсом, и, открыв сейф, выдал две наплечных кобуры с табельным оружием. Девушек опытный Пахом отправил восвояси заранее, понимая, что теперь две лишние пары глаз ему ни к чему. Вооружившись, опера вышли из особняка и послушно пошли за Пахомом по дороге. В балочке Пахом лично определил место каждому, строго-настрого запретив вмешиваться.
– А если тебя убивать будут? – спросил любопытный Манкин.
– Если будут убивать, тогда палите со всей дури! Но это вряд ли…
Пахом встал на видном месте возле двух берёзок и стал ждать. Вскоре он услышал шум мотора, и к балочке подъехала иномарка с потушенными фарами. Из машины вышли трое мужчин. Двое «залётных» были коротко стриженные накаченные «бычки»[18], с торчащими из-за пояса спортивных штанов рукоятками пистолетов. Третьим был солидный мужчина, примерно сорока лет, одетый, несмотря на тёплый вечер, в длинный кожаный плащ. Незнакомец огляделся, и, увидев Пахома, спрятал руки в карманы плаща. Договаривающиеся стороны сблизились.
– Ты кто такой? – спросил «бычок», догадавшись, что имеет дело не с Харьковским.
– Я начальник службы безопасности банка. Господин Харьковский поручил вести переговоры мне.
– С тобой «базара»[19] не будет! Вызывай Харьковского.
– Не торопитесь, господа. Мой шеф поручил мне сделать Вам очень заманчивое предложение. Давайте обсудим всё спокойно, а чтобы наша беседа носила мирный характер, предлагаю положить стволы на землю.
Бандиты переглянулись, но после того, как Пахом достал из-за спины два «макаровых», быстро выхватили из-за пояса свои пистолеты.
– Я же сказал: спокойно. Стволы на землю, – повторил Пахом, и первый стал нагибаться, чтобы положить около себя два своих пистолета. Бандиты нехотя последовали его примеру, и в тот момент, когда они коснулись воронёными стволами земли, Пахом с поворотом через правое плечо упал на спину, и мгновенно выкинув вперёд руки, произвёл два выстрела. Не дожидаясь результата, он свёл кисти рук вместе и выстрелил поверх головы незнакомца в плаще. Бандит от страха присел, но рук из карманов не вынул.
Пахом перевернулся на живот, и быстро, как кошка, вскочив на ноги, не меняя прицела, произнёс:
– Уходи! Скажешь своим, Харьковский не любит, когда его «доят»[20] Так что найдите себе другую «корову»[21].
Опустив пистолеты, Пахом повернулся к незнакомцу спиной и сделал шаг вперёд. В этот момент бандит выхватил из кармана плаща короткоствольный но мощный «бульдог», и выстрелил Пахому в спину. За секунду до выстрела Пахом спинным мозгом почуял опасность. Слегка согнувшись, он мгновенно сунул руку с ПМ под левую мышку, и, не глядя, выстрелил. Два выстрела слились в один. Бандитская пуля, пролетев поверх пахомовской головы, ударила в берёзку, и с её тоненькой веточки, плавно покачиваясь, упал на землю одинокий, по-летнему зелёный листок. Тяжёлая девятимиллиметровая пуля из пистолета Пахома угодила бандиту прямо в лоб. Незнакомец тяжело рухнул на спину, и бандитская душа незримо отлетела в потемневшие небеса, на которых проступили первые звёзды.
Пахом остался верен себе: он редко кому оставлял шанс на отступление.
Из кустов с треском вылезли бледные и окончательно протрезвевшие Шурики.
– Пахом! Скотина кривоногая! Ты что наделал? Ты же троих человек завалил! – залепетал Манкин.
– Во-первых, не людей, а бандитов. А во-вторых, это не я, а вы их завалили! Так сказать, спасая меня, как ценного свидетеля, вы вынуждены были применить оружие без предупреждения.
С этими словами Пахом протянул операм два пистолета ПМ. Карогод знал закреплённый за ним ПМ, как своё отражение в зеркале, поэтому сразу выхватил пистолет из правой ладони Пахома. В левой руке Пахом держал оружие, закреплённое за Манкиным. Опера рванули пистолеты из наплечных кобур, и с удивлением обнаружили, что у каждого в кобуре находился газовый пистолет марки «ИЖ» – точная копия пистолета «Макарова».
– Ну, ты и сволочь! – процедил сквозь зубы Карогод.
– Ты же нас под статью подвёл! – не унимался Манкин.
– Может, я и скотина кривоногая, но никак не сволочь. Я своих ни под монастырь, ни тем более под статью, никогда не подводил, – спокойно произнёс Пахом и покосился на Манкина. – Я вас, обалдуев, под очередную звёздочку подвёл!.. Досрочно! А за моральные издержки плачу по отдельной таксе.
С этими словами Пахом передал операм два пухлых конверта с деньгами. После этого Пахом заставил заметно подобревших оперов собрать гильзы и положить примерно в полутора метрах слева от предполагаемого огневого рубежа.
– Ты, Манкин, стоял здесь, а ты, Карогод чуть левее. Вы оба сделали по два выстрела. Кладите гильзы здесь и здесь, – поучал Пахом. – Потом ты, Карогод рванулся вперёд и, закрыв меня своим телом, произвёл третий выстрел, попав бандиту прямо в лоб. Бросай гильзу здесь. Всё понятно? Если понятно, вызывайте экспертов и прокурорских. Как-никак, у нас три трупа.
В ожидании наряда милиции, Пахом увёл обоих оперов вглубь оврага и, выудив из кармана штанов пять девятимиллиметровых патронов, заставил их отстрелять. После чего собрал горячие гильзы и спрятал в тот же карман.
– Возможно, эксперт захочет сделать с рук смывы, поэтому на ваших мозолистых руках и благородных лицах должна быть пороховая гарь, – уверенно заключил Пахом. – Да, чуть не забыл! Не забудьте показать эксперту вот эту отметину, – и Пахом ковырнул пальцем пулевое отверстие на берёзовом стволе.
Прокурорская проверка прошла без сучка и задоринки. Применение оружия было признано правомерным, и Карогода с Манкиным «…за проведение операции на высоком профессиональном уровне и ликвидацию вооружённой группы преступников», поощрили премией в размере месячного оклада.
Однако среди ростовской «братвы» прошёл слух, что Пахом по прямому указанию Харьковского завалил московских «гастролёров» без какого-либо предупреждения. Это было «не по понятиям»[22], но больше с Харьковским связываться никто не решался.
Глава 11
С годами Медведково разрослось, окрепло. Бабы детишек нарожали. Мужики тайгу курочили, на освободившейся землице хлеб сеяли да огороды разбивали.
Земля плодородная с лихвой окупала труды крестьянина: хлебушек родился на славу: колосья тучные, зерно налитое, тяжёлое, горох и овёс только посей, а там уж с божьей помощью сами прорастут и созреют. Картошка для человека русского – второй хлеб, без картошки никак нельзя, поэтому сажали её много и ухаживали старательно.
По осени первые свадьбы справлять стали, а по весне новые дома ставить начали: отселяли молодых на вольные хлеба. Обросли хозяйством, и души и тела жирком покрылись. Старец Алексий за всем следил, всё подмечал: не было в людях прежнего смирения, и страха перед Господом тоже поубавилось. Вместе с достатком вползала в дома селян невидимой змеёй леность. Случалось, и про молитву забывали, так Алексий забывчивых посохом вразумлял и наставлял на путь истинный. Строг был старец.
Однако не всем это стало нравиться. Многие роптать начали: дескать, посты и чистоту веры соблюдаем, когда надо, молебен отстоим. Однако пострига монашеского не принимали, и строгости излишние ни к чему. Мирской жизнью живём! Знал об этих разговорах Алексий, и злился очень, кричал на паству свою, посохом стучал об пол и ногами топал. За разговоры бесовские грозился от церкви отлучить, но не было в глазах у мирян страха.
– Уподобились вы свиньям, ибо заботу о брюхе ставите выше, чем о спасении души своей грешной! – в гневе кричал Алексий. – Завтра щепотью креститься начнёте! Прокляну!
Прихожане горестно вздыхали, всем видом изображая покорность, и расходились по домам. За показным смирением видел Алексий в душах прихожан остуду к вере истинной.
– Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие, – вздыхал старец. – В смутное время живём. Помоги, господи!
За рекой, в версте от Медведково, тоже люди селиться начали, да только радости в этом мало. Людишки эти пришлые, в прошлом каторжане были, или старатели лихие. Попытались они в Медведково корни пустить, но Алексий строго-настрого запретил иноверцам рядышком селиться, и из села самолично посохом выгнал. Далеко в тайгу они не пошли, на другом берегу, Медведицы осели. Стали людишки заречные себе домишки ставить. Конечно, не такие, как у медведковцев – похуже, но всё же жильё. Село новое прозвали медведковцы Разгуляевкой, потому как каждый божий день в селе том пьянки да драки. Да стоит ли от людишек разгуляевских чего путного ждать, если они посреди села, вместо церкви, двор постоялый с кабаком поставили. В отличие от домишек разгуляевских «дунь – раскатится», постоялый двор ставили с размахом, основательно, из кедровых брёвен, на века. Хозяином постоялого двора был Васька Карась. Откуда появился Васька, уже никто не упомнит, но в один из дней пришёл Карась в Разгуляевку, тряхнул мошной, и закипела работа.
За одно лето возвели людишки артельные, Карасём нанятые, дом хозяйский в два этажа: на первом этаже нумера для приезжих, да заведение питейное, а на этаже втором покои господские. Рядом с домом конюшню поставили, да амбар, да сарай, да навес для сена. Все строения обнесли забором высоким. Основательно Васька развернулся, можно сказать, по-хозяйски.
Тем временем стали к Разгуляевке тёмные людишки прибиваться. Шёл на огонёк кабацкий из тайги и крестьянин беглый, и каторжанин гулящий, и удачливый старатель. Угощали разгуляевцы пришлых щедро: кому самогонки мутненькой, да капустки кисленькой, кому девку гулящую, а кому и кистенём по темечку.
Росла Разгуляевка, росло и кладбище. Не все, правда, в кладбищенской земле упокоились. Иных ночкой тёмной выносили из хаты, в рогожку завёрнутыми, и до речки Медведицы, а там в ближайшем омуте и хоронили.
Слух об этом по округе пошёл нехороший: дважды урядник из волости приезжал, да всё без толку. Разгуляевские молчат, как рыба карась. Сам Карась елей лил перед урядником, прямо ангел, а не Карась. Потоптался урядник, по домам походил, но ничего запрещённого и предосудительного не нашёл. Тайга надёжно хранила секреты, а речка Медведица жалобщиков давно в море студёное унесла.
Вечером урядник у кабатчика выпил водочки, на кедровом орехе настоянной, похлебал щей с говядиной, принял подношение собольими шкурками, да с тем и уехал.
И опять пошла жизнь в Разгуляевке своим чередом. Каждый вечер на заходе солнца начинал гармонист разгуляевский хмельной и пропащий растягивать меха тальянки. Поёт тальяночка жалобно, с переливали. Далеко по округе разносится песнь каторжанская про Ваньку-разбойника, течёт водочка, пляшут девки пьяные, на любовь скорые, мечутся по стенам тени чёрные, угорелые. Эх, судьба-индейка, а жизнь – копейка!
– Эй, Карась! Ещё водки! Много водки! Пой гармонист, наяривай! Ни за что пропадаем! Держи, кабатчик, последний целковый, сбрызни душу христианскую водочкой! Сегодня гуляем, а завтра что бог даст! Эх, жизнь моя забубённая!
И так каждую ноченьку, до рассвета. А наутро встанет над Разгуляевкой рассвет с кровавым отливом, просыпаются гости похмельные: кто без гроша в кармане, а кто и вовсе без штанов и без креста нательного. Душа русская водочки просит.
– Опохмели, Карась! Отработаю. Вот тебе крест, отработаю! – скулит бедолага обобранный.
Молчит Карась, только глаза холодные рыбьи таращит. Нет в душе его сострадания. Черна душа кабацкая, много на ней грехов, не замолить, не искупить. Оттого и прозвали люди постоялый двор «Волчьей ямой».
Богата тайга, ох богата: и зверьём, и грибами, и ягодой, и корнем целебным, что женьшенем зовётся. Но не так просто взять у тайги, что ей принадлежит, да и не всё она показывает. Есть в тайге места укромные, для человека заповедные. Прячет в тех местах Зелёная Хозяйка свои тайные кладовые. И лежат до поры до времени богатства несметные, болотами огороженные, буреломом укрытые. Сторожат их леший с кикиморой, да зверь таёжный. Человеку до поры про те кладовые знать не следует, ну а если набредёт случайно, в тайге заплутав, то упаси господи корысти поддаться и с собой взять что-либо, ибо от щедрот этих человеку горе одно, да несчастье.
С некоторых пор стали поговаривать, что Васька Карась стал скупать у старателей золотишко. Золото в этих местах давно искали, да всё попусту. Не давалось золото в руки старателям. Про золото много сказок было: и про Золотую Речку, где золота больше, чем песку речного, и про жилу золотоносную, что залегает не глубоко, а через всю тайгу тянется до самого студёного моря, и про самородки размером с дикое яблочко, что в тайге на речных плёсах находили. Да только неправда всё это. Никто из местных мужиков ни песку золотого, ни самородка никогда не видывал.
Карась от этих разговоров отмахивался. Да мало ли, что люди брешут! Завидуют достатку его, вот и брешут.
Так бы все и продолжали считать рассказы о местном золоте вымыслом, если бы не случай с Демьяном-Недомерком. Был Демьян из числа «диких старателей», это которые сами по себе. В основном золото артелью ищут, или с товарищем надёжным, потому, как дело это тяжёлое и очень опасное. Уйдёт, бывало, старатель с товарищем в тайгу, да и сгинет без следа. По весне, когда снега сойдут, надут охотники скелет, а с ним ружьё без патронов, кисет кожаный да ножик охотничий. Вот по ним и опознают бедолагу, а уж нашёл ли он золото, или из-за чего другого с товарищем заспорил, лишь ветру таёжному ведомо, да господу богу!
Был Демьян росточку махонького, словно малец-подросток. Глядя на таких, люди говорят: «Маленькая собака до старости щенок». За малый рост и прозвали Демьяна Недомерком. Демьян был из пришлых. Где он жил, и есть ли у него семья, никому известно не было. Появлялся он из тайги зимой, увешанный белочками, куницами, да соболем серебристым, и шёл напрямую к Ваське Карасю. Демьян всю добытую в тайге пушнину Ваське сбрасывал, получал деньги, и здесь же на постоялом дворе пропивал их. Был Демьян невоздержан к выпивке, и если начинал водочку пить, то пил, пока в кармане водилась копеечка, а как деньги заканчивались, шёл Демьян в баню, где долго парился пихтовым веником. После бани выпивал огромный кувшин кваса с редькой и ложился спать. Через сутки Демьян просыпался, молча собирал свои пожитки, и, ни с кем не попрощавшись, уходил обратно в тайгу.
Карась не то чтобы уважал Демьяна, но обиды ему никогда не чинил, и от лихих людей, что в кабак к нему заглядывали, оберегал Недомерка.
Летом Демьян искал золото. Об этом знала вся Разгуляевка. Золото было страстью Демьяна. Много лет безуспешно искал Демьян золотишко, не из корысти искал, скорее, из азарта. Когда начинались холода, Демьян, понимая, что и в этот сезон ему не подфартило, возвращался в Разгуляевку. Оборванный, отощавший, искусанный гнусом, он несколько дней отлёживался у Карася на постоялом дворе. Летом Васька с Демьяна денег не брал: кормил, поил и лечил его, зная, что придёт зима и по первому снегу расплатится с ним Демьян сторицей. Отлежавшись и отъевшись на Васькиных хлебах, Демьян брал ружьишко, котомку с провизией и опять уходил в тайгу.
– Прощевайте, господа хорошие! Ждите зимой старателя!
И так год за годом.
Но однажды, под вечер, заявился Демьян к Ваське на постоялый двор раньше времени. На дворе стоял декабрь – самое время белковать да добывать соболя. Явился Недомерок встревоженный, без добычи, и сразу попросил у Васьки водки. Васька печёнкой почуял, что разговор будет не из простых, пригласил Демьяна к себе на второй этаж, подальше от чужих ушей и глаз.
Выставив на стол, покрытый белой скатертью, штоф с водкой, миску огурчиков солёных и целое блюдо жареной баранины, Карась навалился грудью на край стола и приготовился слушать. Недомерок жадно хватил первый стакан, покосился на баранину и закусил хлебной коркой. Васька Демьяна не торопил: видел, что встревожен чем-то старатель, боится чего-то. Тем временем Демьян налил ещё половину стакана водки и решительно опрокинул в себя.
– Закуси, – пододвинул Карась блюдо с бараниной. Демьян покорно взял баранье рёбрышко и, показав порченные цингой дёсна, осторожно откусил кусочек.
– Значить, такое дело, Василий Степанович, – уважительно начал Демьян, опасливо покосившись на дверь и понизив голос до шёпота. – Давеча ушёл я в тайгу белочек пострелять. Далече ушёл, аж за Яблоневый хребет меня понёс нечистый. До вечера бродил, да всё впустую: нет зверушек. К вечеру пуржить стало. Ну, думаю, пора на ночлег собираться, а места-то мне чужие, незнакомые. До ближайшего зимовья вёрст двадцать с гаком. Забился я в ложбинку, что под обрывом речным, костерок запалил, сижу, значит, греюсь. Вдруг вижу: дым от костерка по земле стелется. Пригляделся я, вижу – нора, и в нору эту дым-то и тянет. Я поначалу думал, зверь какой на зиму залёг. Пошугал я зверя-то, в норку головешкой потыкал, но нет никого. Стало мне интересно, и норку эту я раскопал. Оказалось, приличная по размеру норка: волк или другой какой крупный зверь в нору запросто пролезет. Тут меня нечистый и торкнул по темечку! Захотелось мне, Василий Степанович поглядеть, что в норе той. До смерти захотелось! Ну, я перекрестился, тулупчик сбросил и полез внутрь. Сам-то я махонький, вот и пролез до конца норы. А когда полз, почуял воздух свежий, водицей пахнущий. В конце норы землица подо мной рухнула, и упал я на дно пещеры. Отдышался, я, значит, свечку, что с собой ношу в кармане, запалил. Вижу небольшая пещерка-то, водой, видать, промытая. Человек в ней в полный рост не встанет, но по-собачьи двигаться можно. По дну пещерки ручеёк бежит, шустрый такой ручеёк, и уходит он в дыру, что меж двумя валунами вода пробила.
Тут Демьян шумно вздохнул и проглотил набежавшую слюну.
– Промочи горло, – сказал Васька и налил рассказчику полный стакан.
– Благодарствую, – произнёс Демьян и аккуратно принял содержимое стакана внутрь.
– Посветил я, значит, свечечкой, и вижу, что на дне ручейка что-то поблёскивает, – продолжил старатель. – Черпанул я тогда ладошкой камешки со дна, поднёс к глазам, и вижу – крупа золотая!
– Брешешь! – не выдержал Карась и налил себе и Демьяну водки.
– Пёс брешет, Василий Степанович! А я и побожиться могу! – с чувством произнёс Демьян и попытался перекреститься полным стаканом. – Тут у меня разум помрачился, и стал я карманы золотом набивать! Как полз по норе назад, убей, не помню, только у костра и очухался. Утёрся я снежком, малость успокоился, а когда меня колотить перестало, стал из карманов добычу доставать. А золотишка-то и нет! Вместо золота полные карманы песка да речной гальки себе насовал.
– Что же ты, варнак, зря душу мне мутишь? – расстроился Карась и, крякнув, выпил свою порцию водки.
– Я поутру в нору ещё разок слазил. Не может быть, думаю, чтобы мне золото померещилось! Я ручеёк этот весь осмотрел, каждый камушек перевернул.
– Ну, и …? – напрягся Васька, и зрачки его жадных глаз ещё больше сузились.
– Вот тебе и ну! – гордо произнёс Недомерок, и, достав из-за пазухи кожаный кисет, вытряхнул на скатерть три золотых самородка.
Карась на мгновение замер, потом одним движением короткопалой руки сгрёб золото со стола. Самородки были размером с перепелиное яйцо: один грушевидной формы, второй напоминал два смёрзшихся между собой сибирских пельменя, а третий – самый большой, по форме походили на собачью голову.
– Ох, удачлив ты, Демьян! Ох, удачлив! – произнёс осипшим от волнения голосом Васька. – Ты, Демьян золотишко мне продай, неровен час, отберут лихие люди, и тебя не пожалеют, или по пьянке где утеряешь, а у меня всё одно надёжнее, – и сунул в руку старателя червонец. – Возьми задаток! Только, Демьянушко, ты про золотишко никому не говори, не надо! Народец, сам знаешь, какой: налетит, разграбит, нас с тобой по миру пустит. Я сейчас половому скажу, тебе нумер отдельный подготовят, еду и питьё прямо в нумер к тебе носить будут, ты только прикажи. Эй, Мишка! Рожа басурманская, где тебя нелёгкая носит! Срочно нумер для Демьяна Кондратьевича! Самый лучший! И всё, что они ни попросят, исполнять в один момент.
Прибежавший на зов хозяина молодой татарчонок часто закивал обритой головой.
– Желаю ушицы из белорыбицы и каши со шкварками! – закочевряжился захмелевший Недомерок. – Да чтобы не в глиняной плошке, а по благородному, на фарфоре!
– Будет, всё будет, Демьян Кондратьевич! – успокоил его Васька. – Ты вот, что Демьян, сегодня гуляй, сколь твоей душе угодно, а завтра поутру мы с тобой вдвоём на лыжах пробежимся, и ты мне эту пещерку покажешь. Я опосля в губернию съезжу, бумаги все, какие надобно, выправлю. Участок мы этот с тобой на паях застолбим, драгу поставим. Всё золото, Демьян, наше будет! Нутром чую, на Золотую речку ты, Демьян, набрёл. Вот она, оказывается, где – под землёй, родимая, а наши дурни её по всей тайге ищут.
Определив Демьяна в нумер, Карась вместе с самородками куда-то исчез. Демьян повалялся на мягкой перине, похлебал принесённой татарином ухи, допил штоф, и стало ему скучно. Душа просила праздника, а на постоялом дворе был как раз тот редкий день, когда никто не пировал. Да и пировать было некому, постояльцев вместе с Демьяном было три человека. Накинул Демьян тулупчик и вышел во двор.
Зимний вечер уже вступил в свои права, и на дворе вовсю хороводила метель. Постоял Демьян, потоптался, малую нужду справил за углом амбара. Скучно! И тут почудились Демьяну звуки тальянки, и что вроде бы на другом конце Разгуляевки высокий женский голос затянул песню жалобную.
Встрепенулся Демьян, и пошёл туда, где песни развесёлые, да пляски до утра, где девки молодые да горячие. А вокруг ночь, вьюга и только месяц-бродяга в голубом сиянии бредёт заодно с Демьяном по бездорожью. Остановился Демьян, огляделся и видит, что забрёл за околицу, вокруг могильные холмики, да кресты в лунном свете зловеще чернеют. Испугался Демьян, назад поворотил, не до праздника теперь ему, дай бог назад живым вернуться.
Долго брёл Демьян, да только Разгуляевка где-то в ночи затерялась: ни огонька, ни лая собачьего. Остановился Демьян передохнуть, огляделся: вокруг ночь, да вьюга-злодейка завывает. Знал Демьян, что нельзя останавливаться, нельзя на снег садиться, да только сил нет, и водка в сон клонит.
– У-у-с-ни-и-и! – завывает вьюга!
– Нельзя спать! Нельзя! – бормочет Демьян, но ноги сами подгибаются, манит постель белая снежным пухом.
– У-у-с-та-а-а-л! – поёт вьюга, и сон мягкой лапой валит Демьяна на снег.
– Нельзя спать, никак нельзя! – чуть слышно шепчет Демьян и проваливается в смертельный сон.
Снится Демьяну, что вокруг весна, и что не снежинки кружат, а яблоневый цвет облетает. Солнышко тёплое, ласковое, нежно касается его своими лучами, и сам он, молодой и красивый, в красной вышитой рубахе и сапогах лаковых, стоит на пригорке, а на лугу в ярких лентах и сарафанах нарядных девки хоровод водят и песни поют. Светло и празднично вокруг, и каждый стебелёк, каждая травинка любовью дышит. И стало на душе у Демьяна от этого так хорошо, так легко стало, что раскинул он руки, оттолкнулся от земли-матушки и полетел прямо к ласковому солнышку.
– И чего это я всю жизнь по земле бродил, чего искал? Вот оно, счастье! – успел подумать Демьян перед тем, как солнце взорвалось ослепительной сиреневой вспышкой, и наступила тьма.
Нашли Демьяна по утру, недалеко от кладбища. По следам видно было, что долго плутал Демьян вокруг погоста, пока не лёг на снег и не замёрз. По воле случая, в этот день в Разгуляевку урядник из волости пожаловал. Он сразу же следствие учинил по факту смерти крестьянина Разорёнова Демьяна Кондратьевича. При осмотре тела каких-либо следов насилия обнаружено не было, но в карманах армяка умершего обнаружили банковский билет достоинством в десять рублей, и остатки речного песка, перемешанного с несколькими зёрнами золотой крупы. Золото и деньги урядник, как вещественные доказательства изъял и в волость увёз, а Демьяна похоронили на кладбище, недалеко от того места, где он и замёрз.
С тех самых пор разговоры о золоте по селу пошли гулять с новой силой, отчего нашло на разгуляевцев умопомрачение, словно кто злой наговор на село наслал. Каждый год, как только пригреет солнышко, сойдёт снежок и оттает землица, берут мужики разгуляевские лотки самодельные да заступы, и уходят в тайгу золото мыть по таёжным речкам и ручьям. Каждый из них в глубине души надеялся на свой фарт. Ну, тут уж как повезёт: удача – дама капризная и не каждому лицом поворачивается и не приманить её ни ласковым словом, ни тайным заговором.
Один только Васька Карась свысока, поглядывал на эту мирскую суету. Молчал Васька, только глаза свои рыбьи таращил, но и его поманило золото призрачным блеском, и нет никаких сил противиться его зову, потому, как имеет золото над людьми тайную власть. Так было, так есть и так будет!
К сожалению!
Глава 12
Осень на Урале короткая и холодная: дуют ветра северные со студёного моря вдоль хребтов уральских, несут холод лютый да снега преждевременные. Казалось бы, только третьего дня сорвал ветер-озорник жёлтые листья с берёз, а уж сечёт стылую землю снежная крупа, до весны сковал крепкий лёд речки да озёра, потрескивают по ночам от мороза деревья, покорно снося ледяное дыхание Севера. Но на Покров лягут лебяжьим пухом снега белые, укроют стылую землю до весны бескрайним одеялом, и вздохнёт природа: «Приходи Зимушка-зима»! Но до той поры колобродит осень, словно баба гулящая, бросая в лицо одинокому путнику пригоршни дождя и снега, гнёт к земле холодный пронизывающий ветер, одно слово – Урал!
В один из таких ненастных осенних дней 1836 года поручик Рейнгольд – достойный отпрыск славного немецкого рода, попавший в Пермскую губернию по злой воле рока и высокого начальства за чрезмерную любовь к картам и другие увлечения, задумчиво барабанил пальцами по крышке казённого стола, украшенного намертво въевшимися в столешницу чернильными кляксами.
– Чёрт знает что! – бормотал бравый поручик, поглаживая стрелочки щегольских усиков. Ещё полчаса назад в тиши кабинета он сочинял любовные вирши, которыми вечером намеревался сразить наповал Василису Лукерьевну – дочку местного богача, развернувшего по всей губернии скупку мехов и выгодную перепродажу последних через собственные магазины в Москве и Нижнем Новгороде. Василиса Лукерьевна была жеманной, но не лишённой привлекательности особой осьмнадцати лет, за которую Лука Игнатьевич давал очень и очень большое приданное. У поручика холодело в животе, когда он представлял кучу денег из сторублёвых ассигнаций. Выгодная женитьба давала поручику верный шанс расплатиться с карточными долгами и вырваться на просторы Невского проспекта, где он намеревался поселиться после женитьбы и выхода в отставку.
Неожиданно честолюбивые планы поручика были грубо нарушены с грохотом ввалившимся в комнату начальником конвоя, лицо которого было укутано башлыком, а на папахе вырос маленький снежный холмик.
– Однако метёт по-зимнему, – произнёс он, протягивая одной рукой Рейнгольду пакет, а другой пытаясь размотать башлык.
На душе у поручика стало тоскливо: серый казённый пакет щедро украшенный множеством штемпелей и печатей, не сулил ничего хорошего. Стараясь не терять присутствия духа, Рейнгольд вскрыл пакет и углубился в чтение. В пакете находилось предписание губернского суда, согласно которому бродягу, назвавшегося Фёдором Кузьмичом[23], следовало препроводить под конвоем в Тобольск.
– С чего бы такая честь для простого мужика? – удивился поручик. – Включили бы в очередной этап каторжан, и дело с концом!
Начальник конвоя молча пожевал губами, отряхнул от снега папаху и, приоткрыв дверь в сени, крикнул конвойному:
– Опанасенко, заводи!
Солдат, бряцая заиндевевшей винтовкой, ввёл в комнату высокого мужчину, лицо которого было скрыто высоко поднятым воротником поношенного тулупа, а на голове до самых глаз была надета простая войлочная шапка.
– Покажитесь, милейший! – сдержанно, но с затаённым уважением обратился к мужику начальник конвоя.
Мужчина вздохнул, не торопясь, оправил воротник и снял шапку. Сквозь светлые спутанные волосы и нечёсаную бороду проступали тонкие благородные черты лица. Синие глаза глядели на поручика спокойно и без страха. Незнакомец ещё раз глубоко вздохнул, расправил плечи и, осматривая комнату, медленно повернул голову.
Рейнгольд мысленно ахнул. Под поношенным тулупом явно угадывалась офицерская выправка, а благородная посадка головы и широкие плечи в сочетании с высокой грудью никак не могли принадлежать простому мужику. Что-то до боли знакомое было в чеканном профиле незнакомца. В следующее мгновение Рейнгольд понял, на кого похож конвоируемый, но вслух произнести не решился.
– Царь! – заорал вдруг дурным голосом Опанасенко. – Это же наш батюшка Александр! Так он не умер!
Начальник конвоя не побрезговал, лично соизволил кулачком нижнему чину в зубы ткнуть. От полученной зуботычины Опанасенко отлетел к печке и выронил винтовку. Незнакомец поморщился, натянул войлочную шапку по самые глаза и опустил голову. Вмиг и наваждение пропало: перед поручиком стоял незнакомый двухметровый мужчина в поношенной крестьянской одежде.
– Ну, что, Опанасенко, понял, кто у нас царь? – спокойно спросил офицер, оттирая с перчатки капельки солдатской крови.
– Понял, Ваше благородие! – ответил конвоир, выплёвывая на чисто вымытые половицы выбитый зуб. – Как не понять! Спасибо за науку!
– На этом моя миссия закончена, а вам, сударь, надлежит препроводить конвоируемого установленным порядком в Тобольск. – обратился начальник конвоя к Рейнгольду. – Я же, с вашего позволения, возвращаюсь в губернию. Желаю здравствовать! – и, небрежно козырнув, офицер вместе с конвоиром вышли из хорошо протопленной комнаты в снежную круговерть.
– Чёрт знает что! – повторил поручик, косясь на необычного посетителя.
Свидание с Василисой Лукерьевной откладывалось на неопределённое время.
– Извольте присесть… Ваше величество! – иронично произнёс поручик, указывая кивком на стоящую возле печи лавку.
Незнакомец поблагодарил поручика кивком головы, и с достоинством опустился на отполированную седалищами многочисленных посетителей деревянную лавку.
И чем больше поручик всматривался в незнакомца, невольно подмечая, как он держит прямо спину, как машинально поглаживает большим и указательным пальцами давно не стриженые усы, на гордо поднятый подбородок, тем больше убеждался, что перед ним находился не самозванец, а аристократ по крови. Рейнгольд глубоко вздохнул и покосился в окно: где-то там за Уральским хребтом, укрытым от глаз снежной круговертью, его ждал Тобольск.
Поручик ошибался: Тобольск ждал не его, Тобольск ждал странного незнакомца с тонкими и красивыми чертами лица, заброшенного волею судеб на задворки Российской империи и скромно называвшим себя Фёдором Кузьмичом.
Глава 13
Надо отдать должное нашему аналитическому отделу. Я не знаю, что за специалистов привлёк наш Директор, но свой хлеб они отрабатывают с лихвой. Вот и сейчас по заданию Центра я еду в Казань-град, искать причину беспокойства наших аналитиков. Короче, пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что.






