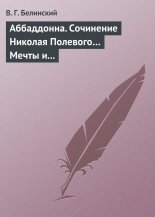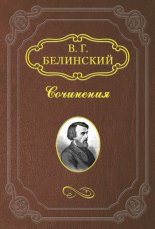Крылья ветров (сборник) Петровичева Лариса

Тихонько пиликнул мобильник – Саша.
– Привет, – сказала Настя. – Как ты?
– Нормально, – Саша сейчас был в другом корпусе – сдавал курсовую работу на своём заочном отделении. Защита диплома ждала его осенью, когда Зонненлихта, возможно уже не будет в универе. – Курсовик защитил, всё в порядке. Пойдём кофе попьём?
– Я его видела, – промолвила Настя. – И сейчас должна быть у него на паре.
Саша помолчал, а потом повторил:
– Пойдём кофе попьём.
Наверное, это единственное, что им оставалось.
Они устроились в небольшом уличном кафе под полосатыми зонтиками, и некоторое время молчали. Жужжала кофе-машина, разливая кофе тонкими ароматными струйками по чашкам. Фартук официантки был грязным. Почти все столики были заняты студентами, которые бурно обсуждали грядущую сессию, курсовые и первые зачёты.
– Поедем в Богоявленск? – предложила Настя, когда официантка принесла кофе и круасаны. – Сдадим сессию и поедем. Поживём у мамы, я скажу, что…
Она сделала паузу, с трудом представляя, что действительно скажет маме. Едва увидев Сашу, она поспешит сделать однозначные и далеко идущие выводы.
– Что я твой жених, – просто промолвил Саша, и было в этом что-то искреннее до боли. – А правда, Насть. Давай поженимся?
Настя опустила голову, пытаясь скрыть наивно-глупую улыбку. Как же всё хорошо и просто, как же легко всё получается – лишь бы никто не оборвал натянутую между ними нить.
Ей было страшно подумать, что она спит, и сон в любую минуту может закончиться.
– Ох, Сашка…, – вздохнула Настя. – Неужели это правда?
Саша улыбнулся – широко и невероятно обаятельно.
– Правда. А потом, если захочешь, мы снова уедем в Питер.
Два месяца в Северной столице, прожитые с Сашей, сейчас казались Насте тихим серым сном, сквозь который едва доносится стук дождевых капель по оконному стеклу и карнизу. По Неве плыли огромные грязно-белые льдины, и город казался нарисованным акварелью на небе. Заневский проспект, на котором они снимали маленькую квартирку, выглядел улицей, не принадлежащей этому миру, и чудилось, что всё будет хорошо – потому что иначе просто невозможно.
– Наверно, захочу, – улыбнулась Настя и сжала его руку.
Этот жест стал финальной точкой, завершившей спокойное течение их жизни. Небрежно придвинув ещё один пластиковый стул, к ним подсел Зонненлихт.
За два месяца он нисколько не изменился, хотя вряд ли это достаточный срок для кардинальных перемен. Всё тот же брезгливый взгляд, отличный костюм и идеальная стрижка – охотник был готов нанести решающий удар. Настя почувствовала, что всё в ней замерло: так дичь застывает в присутствии ловчего и молит о том, чтобы он её не заметил, чтобы опасность миновала, чтобы…
Всё. Выстрел.
– Ну здравствуй, – спокойный голос Зонненлихта прозвучал откуда-то издалека; Настя ощутила шум в ушах, словно её окружило незримое море. Она прислушалась: нет, это не море, это огромное ополчение, и до неё доносится звон оружия и шелест знамён. – Не устал бегать?
Саша сел поудобнее и совершенно небрежно ответил:
– Ты знаешь, нет. Живому всё хорошо.
Зонненлихт посмотрел по сторонам, скользнул взглядом по Насте, словно не узнал её. Потом светло-зелёные глаза потеплели; теперь он глядел почто душевно, хотя это было ему отнюдь не свойственно.
– Оставьте его, Антон Валерьевич, – прошептала Настя. – Пожалуйста, оставьте.
Он грустно усмехнулся и перевёл взгляд на Сашу.
– А ты молодец, – уважительно произнёс Зонненлихт. – И курсовую сдал, и с Хариным договорился. Думаешь, его стрелок снимет меня?
Саша нахмурился и опустил глаза. Настя сидела ни жива ни мертва.
– Расстояние довольно приличное. И я сижу в стороне от линии огня.
Саша натянуто улыбнулся.
– Ничего страшного, – произнёс он. – Важно окончательно вывести из строя оболочку, она и так уже на ладан дышит. Я вообще удивляюсь, как ты до сих пор двигаешься.
Было в этих словах что-то такое, что Настя закусила губу от страха. Значит, где-то на крыше сидит снайпер, который в любой момент спустит курок – и снайпера позвал Саша. Её Саша.
Впрочем, сейчас это был совершенно другой человек. Спокойный, собранный и жёсткий, скрывающий усталость и внутреннее опустошение даже от себя, знающий, что ему придётся умереть, но готовый бороться за себя до конца – было в этом отчаяние и жажда, что сильнее смерти, что поднимают мёртвых из гробов.
– О какой оболочке идёт речь? – спросила Настя, и не услышала своих слов. Зонненлихт улыбнулся и поправил безупречно завязанный галстук.
– Настя, – сказал он заботливо. – Ты иди лучше, погуляй. Не надо тебе этого видеть и слышать.
Настя хотела ответить, но Саша её опередил:
– Отчего же не надо? – с ядовитым цинизмом поинтересовался он. – Настя, а ты знаешь, что такие, как он, делают с подобными мне? Разбирают на части. И не дают умереть. Старательно поддерживают жизнь в обезумевшем от боли полутрупе и наслаждаются его агонией. Недурно, правда?
Настя коротко вскрикнула и закрыла лицо ладонями.
– Господи, – прошептала она. – Это неправда. Антон Валерьевич, скажите, что это неправда. Ради бога, скажите, что это неправда!
Он промолчал – и это было красноречивее любого ответа. Насте показалось, что она разучилась дышать.
– Я убиваю первенцев на глазах их матерей и превращаю землю в соль, – наконец устало промолвил Зонненлихт. – Я славлю того, кто сотворил и соль, и землю. Покажи ей правду, раз уж ты настолько алчешь правды.
В эту минуту земля под Турьевском пришла в движение.
Кофе-машина содрогнулась, и кофейные струйки веером брызнули на передник официантки.
Где-то на перекрёстке машины столкнулись и истерически заверещали.
С неба на асфальт перед кафе рухнули обгорелые комочки – то, что прежде было голубями.
Снайпер Харина, поймавший в прицел бледное лицо Зонненлихта, вдруг увидел белое пятно на месте лица жертвы, а потом солнечный зайчик прошёл сквозь линзу и расцвёл в его мозгу. Последним, что он ощутил, был шелест огромных невидимых крыльев.
– Пусть так, – промолвил Саша. – Пусть так.
Столы и стулья пританцовывали на асфальте, выстукивая ножками неуловимо знакомый мотив. Со стороны перекрёстка донёсся женский визг и звон разбитого стекла.
– Зеркала рассыпаются, и из них выходят страшные сны, – совершенно спокойно произнёс Зонненлихт, удерживая пляшущую чашку. – Засыпая в одном мире, ты просыпаешься в другом, выбирая вариации будущего без своего желания. А я вижу все сны всех людей на свете, и знаю конец истории во всех возможностях развития сюжета. Проснись!
И Настя проснулась.
Дойти до кафе она не успела.
Настя увидела Сашу с чашкой дешёвого кофе в руке, и Зонненлихта, который садился за его стол, и поняла, что всё закончилось. Они скрывались долго, но окончательно скрыться так и не сумели.
И что теперь делать?
Саша поймал её взгляд и отрицательно помотал головой. Зонненлихт обернулся, некоторое время пристально рассматривал Настю, а потом что-то небрежно проронил Саше и поманил её.
Казалось, кроссовки липнут к асфальту. Настя шла медленно, будто повиновалась чужой давящей воле. Однако Зонненлихт смотрел на неё ласково и устало, и, насколько она успела его узнать, такой взгляд был для него несвойственен.
– Ты помнишь свой прошлый сон? – поинтересовался Зонненлихт, не утруждая себя приветствиями.
– Да, – кивнула Настя. – Началось землетрясение, и снайпер на крыше погиб.
– Он и сейчас там, – мрачно заметил Саша. – Настя, слушай… тебе лучше погулять где-нибудь. Не надо тебе в этом участвовать.
Зонненлихт усмехнулся и отодвинул от стола свободный стул.
– Садись. В ногах правды нет.
Некоторое время они сидели молча. Официантка за барной стойкой силилась оттереть пятна с фартука, не понимая, где её угораздило так измазаться. Бродячий кот с невероятно наглой рыжей физиономией принюхивался к двум горелым комочкам на асфальте.
– У тебя оружие с собой? – безразличным голосом поинтересовался Саша. Зонненлихт криво ухмыльнулся и провёл ладонью над столом. Повеяло озоном, и на грязном пластике возникла серебристая катана с тонким рисунком по лезвию. Настя не удержала вскрика.
– Хочешь устроить дуэль? – мягко осведомился Зонненлихт.
– Ни в коем случае, – произнёс Саша. – Просто хочу посмотреть, как именно меня будут убивать.
Настя почувствовала, как дрогнула земля под ногами.
– Дурак, – слово выстрелило, словно щелчок кнута, словно пощёчина. – Я принёс тебе весть.
Саша насторожённо смотрел на Зонненлихта. Катана медленно растаяла в воздухе, и Зонненлихт промолвил:
– Тебя прощают. Ты прощён, дурак, и можешь вернуться на небо. В любой момент.
– На небо? – испуганно и недоумевающее переспросил Саша. Впрочем… это был уже не он: за привычным и родным лицом Настя вдруг увидела иные черты – когда-то прекрасные, но теперь опалённые огнём.
– На небо? – прошептала она.
Зонненлихт посмотрел на них с привычным брезгливым недоумением.
– Да. Чего тут непонятного? Тебя простили. Ты снова равен нам в чести и в славе.
Воцарилась тишина. Настя смотрела на Зонненлихта и видела совершенно другого человека – хотя к человеку это существо имело очень отдалённое отношение. Оно сияло золотом и насыщенной лазурью, а за его спиной трепетали огромные белые крылья, и это было настолько прекрасно и страшно, что Настя зажмурилась – а когда открыла глаза, то удивительное видение исчезло, и за столом сидел прежний Зонненлихт. В пальцах он крутил невесть откуда взявшуюся лилию на тонком стебельке; однако Настя уже ничему не удивлялась.
– А если я откажусь? – спросил Саша каким-то мёртвым голосом. – Если я скажу «спасибо» и не приму предложения?
Зонненлихт вопросительно изогнул бровь.
– У вас, Падших, всегда был интересный подход к делу, – проговорил он. – Один бунт против Самого чего стоит. Знаешь, чего-то в этом роде я и ожидал.
Саша улыбнулся – и теперь это была настоящая, живая улыбка.
– Пока есть такие, как ты, – сказал он, – должны существовать такие, как я. Равновесие мира чего-нибудь да стоит.
– Пожалуй, так, – кивнул Зонненлихт и, обернувшись к Насте, протянул ей цветок. – Вы знаете, Ковалевская… Я бы вам советовал найти другого парня.
Лилия была ослепительно белой. Настя склонила к ней голову и почувствовала едва уловимый холодный аромат далёкого весеннего моря. Золотистая пыльца тычинок сияла россыпью звёзд, целой вселенной.
– Пора просыпаться, – тихо сказала Настя. – Пора.
Эпилог
Иногда чудеса всё-таки случаются, правда мы не всегда можем их заметить.
Преподаватель английского языка Антон Валерьевич Зонненлихт весь день чувствовал себя отвратительно. Наверно, виной тому был сон: долгий, муторный и тяжкий. Ему снилось, будто он умер: убит местными гопниками за сущую мелочь в кошельке – а затем пришёл в себя в морге, но это была не жизнь, а странное посмертное существование в одном теле с непостижимо мощным и властным духом.
Проснувшись, Антон долго умывался холодной водой, потом выпил кофе и впервые за долгое время закурил, однако наваждение не проходило.
Рабочий день тянулся густой смолой. Антон составил планирование для третьего и четвёртого курсов и сдал его завкафедрой на подпись, потом написал несколько конспектов и набросал «скелет» статьи по староанглийской ономастике, но так и не смог избавиться от мрачного настроения. Приснится же такое, а ты потом ходи весь день, как в воду опущенный!
Возле дома он остановился и сел на скамью. Был обычный августовский вечер, около шести – люди шли с работы и из магазинов, и некоторое время Антон рассматривал их: весёлых, грустных, задумчивых, угрюмых, сердитых – так, словно видел людей впервые. Идти домой не хотелось: он поудобнее устроился на скамье и прикрыл глаза.
Сон, нахлынувший на него, был коротким и ярким – он увидел молоденькую блондинку с лилией в руке: хрупкая, испуганная девушка, казалось, собирается перевернуть мир или изменить прошлое.
– Пора просыпаться, – сказала девушка. – Пора.
Антон открыл глаза: из подъезда выходили соседские подростки. Те ещё оторвы – он не раз и не два гонял их с лестничной площадки, устав от диких воплей и пьяных песен по вечерам. Обычно подростки огрызались и матерно посылали его в такие дали, о которых он, лингвист с высшим образованием, мог только догадываться. Антон подумал, что сейчас эта троица пацанов с повадками молодых волчат не упустит случая крикнуть в его адрес что-то гадкое, однако подростки прошли своей дорогой и не посмотрели в его сторону.
Сон не сбылся.
Антон облегчённо вздохнул, и, поднявшись с лавки, вошёл в пустой подъезд.
За его спиной рассыпались перьями белые крылья.
Колодец
Эдуард не помнил, как забрёл в этот полубогемный клуб в чёрно-красных тонах – был слишком пьян, несчастен и раздавлен. Помнил только, как упал за один из столиков, помнил алые кружевные салфетки и свечку-пловунок, помнил томительно-страстные переливы саксофона на небольшой сцене: седой негр в белоснежной жилетке играл «Блюз сломанных шей».
– Тёмного пива, – сказал он официанту, вопросительно изогнувшемуся возле стола. По лицу официанта скользнула тень, и Эдуард понял, что ляпнул что-то не то – как, впрочем, и всегда. Потому-то и Ирэн предпочла ему другого: тот был красноречив и не порол чушь.
– У нас нет пива, сэр, – проронил официант. – Это вне концепции заведения. Могу посоветовать «Шато Грюйон» пятьдесят шестого года.
Эдуард кивнул. Сознание начало проясняться: он понял, что занесло его в достаточно снобистское место, где он в его курсантской форме смотрится нелепо – такие клубы посещали люди искусства и студенты невоенных специальностей. Надо бы встать и уйти, но Эдуард почувствовал, что слишком устал для этого.
– Что-то к вину? Советую даландье и фрукты.
– Хорошо, – сказал Эдуард.
– Прекрасный выбор, сэр, – официант качнул головой и уплыл в сторону бара.
Некоторое время Эдуард сидел, уронив лицо на ладони и стараясь не расплакаться. В клуб прибывал народ, негра на сцене сменила танцующая пара, и официант принёс заказ. Даландье оказалось миниатюрным кусочком мяса с овощами и полностью поместилось бы на вилке, зато подали его на таком блюде, что впору сервировать обед на всю Эдуардову группу. Зато фрукты были хороши: Эдуард оторвал виноградинку и подумал, что, может быть, всё не настолько и плохо.
Потом ему ещё сильнее захотелось напиться. Он бы неминуемо выхлебал бутылку заказанного вина, выполз бы из клуба и отправился в какую-нибудь дешёвую тошниловку, где укушался бы до потери сознания, но тут на сцену вышел конферансье в полосатом костюме и с идеальным пробором в волосах, и проворковал:
– Дамы и господа, я рад вас приветствовать на сегодняшнем поэтическом вечере.
Эдуард обрадовался. Сам он не писал ни стихов, ни прозы (те вирши, которые они складывали с Максом на первом курсе, в трезвом виде и шляхетской компании читать не следовало), однако очень любил и поэзию и прозу, особенно поэзию, и частенько бывал на таких поэтических вечерах в городской библиотеке. История его несчастной любви наверняка бы растрогала любого стихотворца; впрочем, занятый своим неудачным романом, он давно не думал ни о стихах, ни о поэтических вечерах. И сейчас это было очень кстати: он посидит в приличном обществе (мужчины в дорогих костюмах, дамы в вечерних платьях, он – даже не в парадном, а в заношенной форме), послушает приятные вирши, и хоть немного, но отвлечётся от тягостных мыслей.
А потом он увидел её.
Кудрявая рыжеволосая девушка в чёрном платье (среди студенток в этом году была повальная мода на чёрный цвет и поясок под грудью) поднялась на сцену и встала возле микрофона, и некоторое время Эдуард видел только её зелёные глаза, кудри и россыпь веснушек на высоких скулах. Он не сразу понял, что она уже читает:
- Любви и веры пламя укротив, я выбрал гнев и ярость многих битв,
- И труб сраженья грозовой мотив мне был любезен.
- Струною обращалась тетива – во славу огневого божества
- Звучали умирающих слова, слагая песни.
Стихи были совсем не женские, Эдуард ожидал услышать от неё всё, что угодно, но только не касыду о войне. Он сидел и смотрел: светлая кожа, тонкие руки и фигура-гитара никак не сочетались с тем, что она читала:
- И спотыкались кони о тела, и улетала в синеву стрела,
- И, моего пугаясь ремесла, погасло солнце.
- Когда ж луна взошла на небосвод, то, отразясь в кровавом мраке вод,
- Увидела: копьё моё вот-вот её коснётся.
- Колени ни пред кем не преклоня, я брёл босым по острой кромке дня
- И бейты, рассыпаясь и звеня, в закат срывались.
- Но, обратясь к насмешнице судьбе, я понял вдруг, что заперт сам в себе
- И смысла нет в отчаянной борьбе, где мир – лишь малость.
Эдуард смотрел в бокал и слушал. Ему казалось, что стихи написаны именно о нём – суровом неулыбчивом парне, который в самом деле заперт в какой-то тёмной душной комнате, потому что попробовал любить, и у него ничего не вышло: война – единственное, чему его учили, и больше он, к сожалению, не умеет ничего, а война и любовь хоть и похожи, да всё же разные… Ему стало грустно.
- Я бросил меч, взял нищего суму и погрузился с головой во тьму,
- В отчаяньи надеясь, что уйму в пути терзанье.
- А ночь в крови тонула и звала туда, где со стены лилась смола,
- Зола летела, и звенел булат на поле брани.
- Но отступили демоны беды, когда я встретил серебро звезды —
- Среди пустыни кружево воды, что сердце лечит.
- И путь закончен, стала ночь тиха, и мир поплыл в объятиях стиха,
- И разлетелась боль, как шелуха, и стало легче…
Он не сразу понял, что стихотворение закончилось, и удивлённо вскинул голову, не сразу поняв, почему аплодируют, а девушка улыбается. Какой-то лощёный хмырь преподнёс ей букет маленьких роз; Эдуард с неудовольствием подумал, что такие выродки в дорогих шмотках и папашиных машинах уводят лучших девушек; вот и Ирэн предпочла такого же…
– Прекрасная Ив с «Касыдой язычника», – представил её конферансье, – открывает наш вечер. Отличное начало, тем более хорошее, что наши доблестные войска сегодня выбили противника из долины Ганды, а в нашем зале присутствуют достойные представители славной молодёжи, что приведёт нашу Родину к полной и окончательной победе.
Снова аплодисменты; Эдуарду захотелось спрятаться за бутылку: он не любил, когда на него обращали такое пристальное и массовое внимание, тем более сейчас, когда он пьян, расстроен и в общем-то жалок: нисколько не похож на отважных братьев по оружию. Ив спустилась со сцены и села за свой столик: она была одна, и Эдуард отчего-то этому обрадовался. Он сделал знак официанту, и, когда тот приблизился, спросил, ткнув пальцем в свою бутылку:
– Это ваше лучшее вино?
– Нет, сэр, – ответил официант, – это средняя ценовая категория.
– А какое лучшее?
– «Бёлль Вью», три тысячи, – произнёс официант, скептически разглядывая его форму, будто сомневался, сможет ли он оплатить хотя бы то, что уже заказано. Эдуард хотел было сказать, что полгода не тратил свою повышенную стипендию и сумеет купить всё меню четырежды, но не стал.
– Пошлите от меня «Бёлль Вью» вон той девушке, – он кивнул в сторону Ив, изучавшей какую-то книжицу за чашкой чаю и куском пирога. Официант проследил направление его взгляда и сочувственно промолвил:
– Для дамы лучше шампанское, сэр.
Эдуард кивнул и протянул ему банковскую карточку. Пока долговязый юноша с расчёсанным прыщом на скуле читал сонет о белом лебеде, зовущем погибшую подругу, заказ был выполнен. Ив удивлённо улыбнулась, пожала плечами, а потом посмотрела в сторону Эдуарда и благодарно кивнула, улыбнувшись уже ему. Пару минут он сидел неподвижно, изучая красные блики в бокале, а потом решительным залпом осушил его и направился к девушке.
– Эдуард Газоян, курсант Военной Академии, – представился он, коротко по-офицерски тряхнув головой. – У вас хорошие стихи.
– Спасибо, – улыбнулась Ив. – И за комплимент, и за шампанское. Составите мне компанию?
– С удовольствием, – смущённо ответил Эдуард, обрадовавшись тому, что она сама предложила, и больше не надо стоять столбом среди зала. А если бы она так не сказала… ну тогда бы он вернулся за свой столик, допил вино и ушёл бы куролесить дальше, а завтра в казарме сказал бы майору Террану: «Да, майор… я потратил увольнение на брагу, поэзию и шлюх», а Терран бы ответил с изумлённо-восторженной интонацией: «Это ж сколько надо пить, чтоб до поэзии допиться?!» и отправил бы его на губу – но отнёсся бы с уважением.
– Любите поэзию?
Официант принёс ещё один бокал и открыл шампанское. Эдуард смотрел, как оно весело шипит в бокалах, и чувствовал, что почему-то ему очень спокойно – видимо, он уже допился до философской умозрительности, за которую майор Терран дал бы ему день карцера: он не любил философов и спокойствия.
– Очень люблю, – признался Эдуард, – но сам писать не умею.
– Зато вы отлично слушаете, – заметила Ив. – Я видела, как вы слушали, это редкость.
– Было неожиданно, – сказал Эдуард, – потому что девушки не пишут про войну. И будто про меня написано. Будто вы очень хорошо меня знали, и написали такое… и именно так. Только я сейчас застрял где-то на середине касыды…
Ив вопросительно изогнула бровь.
– Почему?
– Думаю, вам не слишком захочется услышать ещё одну историю несчастной любви, – Эдуард уже пожалел о том, что вообще стал отвечать на вопрос. Какое ей дело до того, кто кого бросил, тем более в случае человека, которого она знает всего несколько минут. Однако Ив ободряюще улыбнулась:
– Не поверите, у меня сейчас в точности такая же история. Так что давайте выпьем, Эдуард, за то, чтобы всё наладилось.
– И за поэзию, – добавил Эдуард.
– И за знакомство, – сказала Ив, и бокалы мелодично звякнули.
Всего два месяца назад Ив рассталась с мужем, знаменитым танцором, которого Эдуард видел пару раз на городских патриотических концертах, поэтому вполне понимала состояние нового знакомого. Впрочем, он не заметил, чтобы Ив как-то переживала или мучилась по поводу своего развода – она вообще производила впечатление оптимистичного человека, и Эдуард заметил, что впервые чувствует себя рядом с девушкой спокойно и непринуждённо, и не думает о том, куда деть руки и что сказать. Шампанское пилось легко, словно газировка, и Эдуард почувствовал, что его развезло только тогда, когда поэты уступили место танцорам, и несколько пар вышли из-за столиков для медленного танца. По всем законам вежества следовало пригласить Ив, однако Эдуард чувствовал, что сейчас танцор из него никудышный. Да и вообще он танцевал из рук вон плохо – в Академии был курс хореографии, чтобы господа офицеры не чувствовали себя не в своей тарелке на официальных приёмах, однако как ни бился танцмейстер над Эдуардом, ничего у него не выходило. Знал бы он, что через два года будет этот вечер с Ив, то не вылезал бы из танцзала, чтобы сейчас лихо закружить девушку в самых невероятных фигурах и па. Знал бы он, что вообще её встретит, нарядился бы сегодня в парадное, так ведь нет, собирался нынче вечером упиться в доску и валяться в канаве, потому и надел затрапез; вот и сидит теперь вахлак вахлаком и не знает, как справиться со внезапным смущением. Да и потом, танцевать с пьяным вряд ли понравится барышне…
– Я не люблю танцевать, – сказала Ив, будто прочитав его мысли. – Мой муж сумел отбить мне всю охоту.
– Честно говоря, я никогда не танцевал, – признался Эдуард. Что ещё он успел рассказать ей сегодня? Про своё разбитое сердце, про стихи, про то, что он неуклюжий и неловкий… Ив снова ему улыбнулась; отчего-то Эдуард подумал, что на самом деле она улыбается очень редко, просто сегодня такой день.
– Думаю, ещё будет возможность, – сказала она.
– Хотелось бы…, – Эдуард представил, как, одетый в белый парадный мундир, будет танцевать в сияющем зале, держа в объятиях партнёршу – да, это было бы очень неплохо. А партнёршей вполне могла стать и Ив – ей пришлось бы к лицу голубое бальное платье и россыпь бриллиантов по шее и груди. И они скользили бы по паркету, и звучала бы удивительно красивая музыка, и все бы сказали: прекрасная пара…
Он замечтался так, что прослушал слова Ив и очнулся только когда она тронула его за руку.
– Задумался?
– А… прости, – Эдуард потёр висок и повторил: – Прости. Замечтался. Представил, как можно было бы потанцевать.
– Романтично, – сказала Ив, – и вообще вечер замечательный, но мне пора.
Эдуард расплатился по счёту, и они вышли на улицу. Была яркая звёздная ночь, подморозило, и мостовую покрыл ледок; чтобы не упасть, Ив взяла Эдуарда под руку, а тот думал только об одном: что ноги рвутся повыписывать вензеля, и надо как-то не шлёпнуться. Он в красках представил себе майора Террана на завтрашнем построении – тот, не щадя лексики, рассуждал о делах воспитуемых.
«И что же ты, Газоян, напился, как свинья?»
«Так точно, напился», – отвечал Эдуард, глядя в пустоту.
«А потом пошёл провожать бабу?»
«Никак нет, господин майор, барышню». Терран ткнул его стеком в грудь.
«Даже так! Барышню! Слышите, вы, выкидыши природы, – обратился он к строю, – он пошёл с барышней. И что потом, Газоян?»
«Было скользко, господин майор, и я упал», – сказал Эдуард, желая провалиться куда-нибудь на экватор.
«Упал! Он упал! И уронил честь Гвардии, ибо что?»
«Гвардеец падает только мёртвым!» – рявкнули сорок глоток курса, и Эдуарду захотелось плакать.
– Всё в порядке? – спросила Ив.
Сергей завозился в кровати и перевернулся к Лене. До этого он демонстративно храпел, а теперь смотрел сердито и обиженно.
– Лён, два часа ночи. Я спать хочу вообще-то.
– Спи, – Лена улыбнулась и попыталась его поцеловать, но он отстранился. Ну да, Сергей не любил спать при свете, и даже слабенький ночник с Лениной стороны кровати его раздражал и лишал покоя.
– Ленка, блин! Ты с этой макулатурой весь вечер возишься! – брезгливо фыркнул он, будто Лена возилась в мусорном ящике.
– Серёж, это не макулатура, а черновики Божанского, – заметила она. – И между прочим, я ему многим обязана. И между прочим, если я всё разберу и подготовлю к печати, то издательство мне заплатит. И между прочим, немало.
О том, что они уже два месяца живут за счёт её зарплаты в «А-принте», Лена предпочла промолчать: не стоит наступать на больную мозоль, да к тому же тогда и скандала до утра не избежать. Сергей был отличным парнем, но поиски работы его успели измотать, и потому малейшей искры было достаточно для того, чтобы прозвучал взрыв.
– Ладно, – сказала Лена и улыбнулась так ласково, как только могла. – Спим.
Она отложила листки на тумбочку, щёлкнула кнопкой ночника и снова потянулась к Сергею – и на сей раз он не отстранился от поцелуя.
Артур Андреевич Божанский был легендой литературы. С семидесятых его читали все, и это не было журналистской метафорой: в романах и повестях Божанского был и лихо закрученный сюжет, и правильный русский язык, и искромётный юмор, и проблемы, действительно волновавшие каждого. «Материк Альбы» получил несколько престижных премий в области детской литературы, и был включён в школьную программу, «Арфу под яблоней» несколько раз экранизировали и у нас и на Западе, причём фильм принёс создателям «Оскара», а «Мальчик и рай» был любимой книгой Лены Княжичевой: на двенадцать лет мама подарила ей этот роман о Корчаке, и Лена пережила подлинный эмоциональный прорыв: её словно вынули из кокона, и она, посмотрев вокруг обновлённым зрением, увидела и жизнь, и любовь, и одиночество, и творение, и жертву.
С двенадцати она начала писать сама – рассказы, стихи, какие-то бытописательские заметки, писала почти постоянно' это было для неё сродни дыханию. Отец, глядя на кипу бумаг и тетрадей на столе, скептически ухмылялся: дескать, незачем тратить время на писанину, поучилась бы лучше стряпать да шить, а вот мама была не столь прямолинейна и отвела дочь в детскую библиотеку, где располагался литературный кружок. И если «Мальчик и рай» пробудил её ото сна, то занятия в кружке дали направление и отточили мастерство: статьи Лены стали появляться в детских газетах и журналах, а когда ей исполнилось семнадцать, то рассказ «Крестоносцы» опубликовали в «Юности», и судьба Лены была прописана окончательно: в литературу и только туда!
Однако, закончив Литинститут, она с удивлением обнаружила, что рынок перенасыщен молодыми и талантливыми, стать постоянным автором толстых журналов примерно так же легко, как слетать в космос на пинке, а в издательствах к ней относятся не слишком благосклонно. Писать с псевдоэлитной заумью ни о чём она не умела, кропать погонные метры текста про драконов и баронов на потребу массовой незатейливой публике не хотела, а кушать было надо – так Лена оказалась на должности корректора в «А-Принте», где тратила зрение на вычитку рукописей, а силы души – на язвительность по поводу хлыщеватых авторов, которым романы-опупеи про драконов и баронов приносили многотысячные тиражи и многотысячные же гонорары. Чем бы всё закончилось, предсказать нетрудно: Лена бы превратилась в ворчливую и всем недовольную старую деву, однако её судьба снова сделала поворот.
В «А-Принт» пришёл Божанский.
Раньше он сотрудничал с крупнейшим российским издательством «Книгомир», но отчего-то не поладил с новым владельцем – вероятнее всего, из-за гонораров и прав, пресса смущённо именовала разрыв Божанского и издательства «конфликтом интересов»; как бы то ни было, но в один прекрасный день Божанский – огромный, седой, громогласный – возник на пороге «А-Принта» и поинтересовался с места в карьер:
– А можно у вас роман напечатать?
Говорят, генерального от счастья едва не приобнял брат Кондрат – конечно, не каждый день среднее издательство вытягивает такой билет, как сам Артур Божанский. Живой классик получил все мыслимые и немыслимые условия договора – издание полного собрания в нескольких видах, подарочные варианты, избранное, и в качестве бонуса – ежеквартальный журнал под патронажем легенды. Именно туда, дрожа и робея, Лена отнесла свою повесть «Чудотворная».
И повесть Божанскому очень понравилась. Настолько, что карьера Лены сделала рывок из корректорской в отдел развития: редактор счёл, что перспективному автору престижного журнала негоже ломать глаза над чужой графоманией, и Лена стала менеджером по продвижению, начала носить чёрные юбки-карандаши и лодочки на высоченных каблуках, и хотя иной раз сама не могла объяснить, чем занимается, но её деятельность была намного ближе к литературе, чем раньше. Божанский здоровался с ней в коридорах, несколько раз они вместе обедали, и очередной рассказ Лены вышел в «Яблочной Арфе» в разделе «Постоянные авторы».
А потом…
Всё случилось на выходных. Лена с Сергеем валялись на диване, спасаясь от безумной жары 2010 в кондиционированном раю квартиры, и смотрели новости, когда на экране вдруг выплыл портрет Божанского, и изящная дикторша произнесла:
– Только что к нам поступила информация о том, что скоропостижно скончался известный писатель Артур Божанский.
Далее пошло перечисление титулов, регалий и самых знаменитых произведений, а Лена некоторое время молчала и слова не могла произнести. В свои шестьдесят пять Божанский отличался крепким здоровьем, аномальную жару, что подкашивала молодых, переносил со спокойным безразличием («Это вы ещё в Ташкенте не были, а я там и детство, и юность провёл»), да что там – Лена вообще не могла представить его мёртвым. Ещё вчера энергичный классик сообщил редактору о том, что через два месяца закончит роман, и это будет бомба. Всё это никак не вязалось со смертью, с подчёркнуто печальным голосом дикторши, с траурной лентой на портрете. Этого не могло быть.
И это было.
– Княжичева, ты же умная баба, – Кириленко сделал очередную затяжку и выпустил в потолок струю дыма. Куча окурков в пепельнице живо напоминала гору черепов на великом полотне. – Ты ведь умная баба?
Лена никогда не спорила с начальством, тем более в вопросах положительной оценки собственных способностей.
– Да, – сказала она и повторила: – Да, я умная баба.
– Тогда что тебе непонятно, раз ты такая умная?
– Почему я? – спросила Лена. Кириленко закатил глаза. Весь его вид говорил о том, насколько он не любит, когда его приказы обсуждаются, а не выполняются тройным аллюром, переходящим в галоп.
Редактор любил конный спорт. Сравнения шли из этой области.
– Видишь ли, ты общалась с Божанским. Он тебя отличал, причём в хорошем смысле. У тебя есть несомненный талант, тебя можно назвать его ученицей, ты была постоянным автором журнала…
– Почему «была»? – нахмурилась Лена.
– «Будешь ли» зависит от того, насколько хорошо ты всё сделаешь, – ответил Кириленко, как отрезал. – А ещё ты умная баба. И неболтливая. И это, наверное, главное.
Как обычно, всё упиралось в деньги. Слухи о последнем романе великого Божанского бродили по городу, уже начали звучать осторожные вопросы о том, увидит ли роман свет, а бездарный отпрыск знаменитого режиссёра изъявил желание на экранизацию вершины творчества любимого автора. На вспашке такой целины можно наварить огромное состояние – следовательно, дело за малым: в кратчайшие сроки проработать все черновики Божанского, провести корректорскую правку и выдать жаждущим искомое. Если роман не доведён до конца, то на Лену возлагалась задача его дописать на основании черновиков и дневниковых записей Божанского.
– А кому ещё это доверить? Неужели сама не понимаешь, что тут чем тише, тем лучше? Не Пейсателя же звать! – Кириленко с усилием утопил окурок в пепельнице и уже спокойнее добавил: – Сама понимаешь, роман нужен. Генеральный завтра объявит о том, что он выходит через два месяца, значит уже сегодня тебе надо приниматься за дело.
– Но это же… – Лена развела руками, впервые в жизни не находя подходящих к случаю слов.
– Что? Нехорошо? Неприлично? Княжичева, не будь такой дурой. Или тебе денег не надо?
Дурой Лена быть не хотела. Спорить с начальником – тоже. Она прекрасно знала его финальный аргумент: не хочешь, так пакуй вещи, а разбрасываться работой и карьерой в кризис по меньшей мере неумно. Так что Лена кивнула и получила неплохой аванс за работу, а также флешку с текстовыми файлами из ноутбука Божанского и коробку с бумагами.
Ив называла их отношения Субботним Романом.
Каждое утро в субботу Эдуард, наглаженный, выбритый, с идеальной стрижкой, уходил в увольнение, и дребезжащий вагон метро привозил его на окраину, к дому Ив. Он устраивался на лавочке у подъезда, и ровно в десять открывалась тяжёлая скрипучая дверь, и Ив выходила на улицу. В приталенном чёрном пальто и берете она походила на школьницу; Эдуард целовал её в щёку, она брала его под руку, и пара отправлялась на прогулку в Парк Согласия. В такой час осенние аллеи были ещё пусты, только дворники шаркали мётлами по влажному асфальту, да где-то в глубине сжигали опавшие буковые листья. Ноябрьская тишина казалась физически ощутимой величиной; Эдуард целовал Ив и думал о том, что мир ещё не родился, и они вдвоём застыли где-то в самом начале бытия.
Потом, в маленькой квартирке Ив, когда они лежали, обнявшись, на узкой кровати, похожей на койку в каюте корабля, Эдуард думал о том, что Ив ждёт от него трёх самых простых слов – и не знал, сможет ли сказать их кому-то вообще. Он вспоминал Ирэн: завершив акт их любви, та обычно вставала сразу и теряла к Эдуарду всяческий интерес; от этого он распалялся ещё больше – зная, что принадлежит она другому и через несколько минут уйдёт к нему, вспыхивал и всем сердцем желал воспламенить своим огнём и Ирэн: чтобы она увидела всю силу его любви, и осталась. Ив тихо дышала на его плече; может, это мне и надо? – думал Эдуард. – Я отслужу положенные два года и вернусь, получу муниципальное жильё, и мы с Ив поженимся. Надо только сказать ей три простых слова, которые она так хочет услышать… Но он молчал и делал вид, что спит, а Ив ни о чём не спрашивала.
Потом они обедали и шли куда-нибудь в кино или на выставку; Эдуард мало что понимал в современном искусстве и предпочитал отшучиваться, если Ив о чём-то спрашивала. Наступал вечер, и тот же вагон метро привозил их обратно: Эдуард целовал Ив у подъезда, и она скрывалась за дверью, а он отправлялся в казарму, насвистывая какой-то незатейливый мотивчик и вспоминая о том, как однажды они с Ирэн катались по каналам на маленьком прогулочном катере. Вспоминать было почти не больно: если Ив была лекарством, то по силе воздействия его можно было сравнить с морфием.
В субботу пошёл снег – и не жалкие белые крошки, которые тают, не долетая до асфальта, нет, это была настоящая метель. Вбежав в подъезд, Эдуард несколько минут отряхивался, как собака, вылезшая из воды. Когда он нажал на кнопку звонка в квартиру Ив, его словно что-то ударило: именно сегодня он должен сказать. Сегодня. Сейчас. И когда Ив открыла ему, то он произнёс с порога:
– Ты знаешь… Я тебя люблю.
И добавил:
– Привет.
Кириленко перевернул страничку, затем отложил рукопись и воззрился на Лену так, будто перед ним откуда ни возьмись появился анекдотический негр с двумя головами.
– Что это? – спросил он. Лена поняла, что шеф едва сдерживает ярость.
– Рукопись последнего романа Божанского, – сказала Лена. Кириленко стал опасного красного цвета: Лена испугалась, что редактора сейчас хватит удар.
– Княжичева, ты что, охренела? Какой Божанский?!