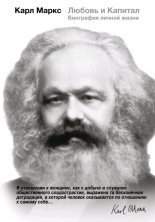Неадекват (сборник) Варго Александр
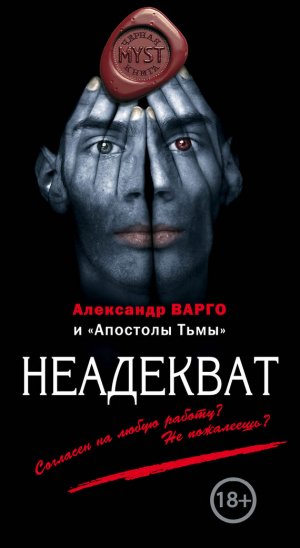
Александр Варго
Неадекват
2031 год.
Территория Московской провинции.
64-й район
Мако вышел из машины. Его невысокий рост компенсировался крепким телосложением, а глубокие залысины – длинной косичкой, как у шотландских воинов Средневековья.
К нему тут же метнулась нищенка. В худых, закопченных руках она держала укутанного в рванину ребенка.
– Эй, парень! Привет, парень! Как дела?
– Было все охрененно. Пока не увидел тебя, – бросил он, шагая по обочине. Попрошайка с младенцем в руках двинулась за ним.
На раскаленной от жары трассе полыхали сваленные в кучу покрышки. Мужчина внимательно смотрел вперед – сквозь черный вонючий дым просвечивалась убогая заправочная станция.
– Она пустая. Там нет ни хера, Мясники высосали все до капли, – сообщила неряшливо одетая женщина, проследив за взглядом мужчины. – Подкинь деньжат, а? Я куплю своему внуку молоко.
Она шагнула вперед, и Мако обдало вонью разложения. Он глянул на рыхлые черты лица ребенка, неестественную бледность кожи, и сплюнул.
– Ему не молоко, а гроб нужен. Купи себе нового.
– Парень, дай закинуться, – клянчила пожилая женщина, укутывая трупик мальчика грязным одеялом. – Бун-бун есть? Или чейси?[1] Хочешь, я у тебя отсосу? У тебя есть вода? Я подыхаю от жажды.
– Мне нужна женщина. Ее зовут Аделия. Она шлюха. Знаешь ее?
– Аделия, – пробубнила старуха, поджав губы. – Да х… ее знает. Сегодня Аделия, завтра еще какая-нибудь хуе… ля. Так что насчет воды? Я могу не только отсосать. Я еще…
– Заткнись, – оборвал ее Мако. Потеряв интерес к побирушке, он зашагал к заправке. Он верил, что удача должна повернуться к нему своим лицом (может, не слишком привлекательным) именно здесь.
– Я тебя раньше не видела тут, – продолжала бубнить нищенка, волочась за ним. – Лучше уходи. Этот район держат Мясники, если они увидят тебя, то убьют, а твои почки и сердце обменяют на бун-бун. У тебя хорошее сердце?
Мако не обратил внимания на слова старухи, которая по привычке продолжала укачивать разлагающегося ребенка.
Если что, он сможет дать отпор. Хоть мясникам, хоть вегетарианцам.
Как он и предполагал, заправка давно не работала. Шланги были вырваны с корнем и дохлыми черными змеями валялись у проржавевших колонок. Мако усмехнулся. Пережиток прошлого. Лет пятнадцать назад, перед тем как он сел в тюрьму, в этой стране только такие заправки и были.
Теперь действующие станции (которых можно сосчитать по пальцам) охраняются похлеще военных баз, на которых хранится ядерное оружие. С тех пор, как Россию расколола междоусобица, и она была разделена на провинции, превратившись в КРП[2], нефтяные запасы почти исчерпали себя.
Грызня велась и за питьевую воду, поскольку цены за этот необходимый для выживания человечества продукт, простой оксид водорода, достигли заоблачных высот. Мако еще помнил то время, когда он, будучи сопливым мальчишкой, мог спокойно включить кран, и оттуда лилась прекрасная, свежая вода. Теперь же вся вода, содержащаяся в водоемах, была непригодна для питья – от одного глотка можно было склеить ласты. Дожди в связи с резким изменением климата шли редко, но и эту воду пить тоже было невозможно.
Наступило время, о котором в прошлом веке писали пессимистически настроенные фантасты. Когда за небольшую бутылочку питьевой воды (или канистру бензина) резали глотки, а новорожденными детьми торговали прямо на улице. Единой централизованной власти в некогда громадном государстве не было – каждая провинция была поделена на районы, в которых бесчинствовали вооруженные группировки.
Неподалеку от заправки угрюмо чернел остов сожженной полицейской машины. Тут же, на усохшем дереве, было распято полуистлевшее тело комиссара полиции.
Он не случайно оказался в одном из самый опасных районов, территория которого контролировалась враждующими мотобандами. Мако была нужна эта шлюха Аделия, и, судя по добытой информации, она могла обитать тут.
Главное, чтобы она была жива. Потому что у него есть к ней пара вопросов.
Ему почудилось какое-то движение за спиной, и он резко обернулся. В заброшенном магазинчике, что стоял рядом с заправкой, кто-то был. Ступая тяжелыми ботинками по осколкам стекла, мужчина направился туда.
– Уходи отсюда! – надрывно прокричала ему вслед старуха. Мако не обернулся.
Старуха выматерилась. Посмотрев в раздутое лицо гниющего ребенка, она покачала головой – с таким «товаром» она ничего не заработает. Тем более здесь. Нищенка опустила руку, и тряпье развернулось зловонной простыней. Крошечный трупик беспомощно шлепнулся на грязный асфальт, напоминая сломанную куклу.
– Купи… – пробурчала старуха, аккуратно сворачивая тряпки. – Где я куплю свежего внучка? Разве что украсть?
Мако вошел в магазин. Там пахло мочой и чем-то горелым.
– Я видел тебя, – громко сказал он. – Если ты не выйдешь через пять секунд, я спалю этот отстойник вместе с тобой.
Из-под стойки вылезла чумазая женщина со спутанными волосами в мешковатом ветхом платье. На вид ей можно было дать и тридцать пять, и все шестьдесят.
– Не жгите меня, – хрипло проговорила она.
Мако вплотную приблизился к ней.
– Ты знаешь Аделию? Она шлюха. У нее татуировка на шее в виде ящерицы.
– Кто вы?
Мако, не меняя выражения лица, ударил ее по щеке. Грязнуля вскрикнула, отпрянув назад.
– Ты ее знаешь, – в его голосе послышалось удовлетворение.
– Мы не виделись много лет. Она… она не занимается больше этим.
– Если женщина шлюха, то, даже прекратив раздвигать ноги за деньги, она не перестанет быть ею. Внутри она останется обычной потаскухой, – сказал Мако. – Где она?
– Я не знаю, – пробормотала женщина, и Мако отвесил ей еще одну пощечину. На потрескавшихся губах бродяжки показалась кровь.
– Не бейте, – сказала она, из ее глаз потекли слезы, оставляя белые дорожки на давно не мытом лице.
– Отвечай.
Проститутка всхлипнула.
– Кто-то говорил, что она завязала. Кажется, она переехала в 9-й район.
Мако понимающе кивнул. 9-й район – почти что элита, что-то сродни ранее существовавшей Рублевке. В 2021 году в ходе государственного переворота действующая власть была свергнута, а коттеджи на Рублевке, принадлежащие чиновникам и прочим приближенным к ним толстосумам, разнесли по кирпичику, а многих из них, не успевших вылететь из тогдашней России на своих частных самолетах, повесили на фонарных столбах. А некоторых сожгли, как ведьм во времена инквизиции. В назидание остальным ненасытным коррупционерам. Правда, ожидаемой пользы это не принесло.
– Что еще знаешь о ней?
Запинаясь, женщина начала говорить, а Мако, проворно достав телефон, включил функцию диктофона.
– Ты убьешь ее? – спросила она, когда закончила говорить. Он смерил ее ничего не значащим взглядом.
– Я убью тебя, – мягко сказал он. – Терпеть не могу шлюх. Но прежде ты отсосешь у меня. Трахаться с тобой не буду – это все равно, что валяться в дерьме.
– Не надо, – замотала головой женщина, пятясь назад. – Пожалуйста. У меня есть вода. Ее можно пить, целая банка. Я отдам вам ее. Только не трогайте меня. Прошу.
Мако расстегнул ширинку.
– Воду я найду и без тебя. Иди сюда.
– Нет.
Он вынул из кармана просторных черных штанов кусачки.
– Я коллекционирую зубы шлюх. Знаешь, сколько я уже накопил? У меня с собой уже вторая коробочка. В каждую из них вмещается примерно шестьдесят штук.
– Я отдам вам зуб. Только не убивайте! – выкрикнула она.
Мако ухмыльнулся.
Позади раздался звон стекла. Ухмылка моментально испарилась с его щетинистого лица. Он отреагировал мгновенно, упав на пол. Тут же прозвучала короткая автоматная очередь, тело женщины надломилось, прошитое насквозь стальными жалами пуль. Нелепо взмахнув руками, проститутка отлетела к стойке и сползла на пол.
Мако достал нож, отползая в сторону. Через минуту в разграбленном магазинчике появился сутулый мужчина в длинном кожаном плаще, густо забрызганном грязью, полы которого были разлохмачены, словно его в последний момент вытащили из мясорубки. В его руках был пистолет-пулемет. Плечи, предплечья, грудь были покрыты пуленепробиваемыми пластинами. На голове красовался исцарапанный шлем, шею украшал серебряный кулон в форме двух скрещенных скальпелей.
Шаркая ногами, Мясник приблизился к лежащей женщине.
– Ого. Вроде не в нее целился, – с изумлением протянул он. Сзади бесшумно возник Мако. Бандит почувствовал неладное, но было уже поздно – лезвие ножа прошло точно сквозь пластины. Еще один точный удар. Мужчина захрипел, пистолет упал на изгаженный пол.
– Она…
Мако поднял голову. Шлюха была все еще жива.
– Не ходи к Аделии. Она убьет тебя.
– Пока, – бросил он с сожалением. Эх, а мог бы еще пару зубов в копилку положить. Но у него было негласное правило. Он забирал зубы только в том случае, если у него был физический контакт с проституткой. И он соблюдал правила этой игры. Собственно, можно было трахнуть и мертвую (замарашка уже закатила глаза, перестав дышать) но он не был некрофилом.
Мако обыскал мертвеца. Присвистнул, обнаружив в его кармане гранату.
Он вышел на улицу и замер.
Трое Мясников разделывались с его стареньким «Ягуаром». Один проколол все четыре колеса машины, второй крушил молотком стекла. Третий, всунув шланг в горловину бака, сливал бензин в канистру. Бандиты были одеты в точно такие же грязные плащи, в который был облачен убитый в магазине.
На дороге были беспорядочно припаркованы самодельные квадроциклы, четыре гибридно-ржавых мутанта, покрытых толстым слоем пыли. На одном из них на руле был установлен крупнокалиберный пулемет.
Увидев, во что превращается его машина, Мако сморщил лоб. Злобно ухнув, он метнул гранату, укрывшись за стеной магазина.
Взрыв расплескал знойный воздух, озарив на мгновенье все вокруг белой вспышкой. Когда Мако выглянул, сквозь рваные клочья дыма было видно, что двое из Мясников лежат, распластав конечности.
Третий, расколотивший окна его автомобиля, был ранен в плечо и ногу – он успел прыгнуть за «Ягуар», что и спасло ему жизнь. Замерев, Мясник присел на колено, пальцы потянулись к арбалету, висевшему на боку. Его лицо было замотано пропитавшимися гноем бинтами, сквозь узкую щель тлели прищуренные глаза. Парень гнил заживо. На впалой груди мерцал точно такой же кулон в виде скальпелей.
Мако подошел вплотную. Забинтованный поднял заряженный арбалет, и они одновременно выстрелили. Стрела прошила бицепс Мако. Бандита откинуло на асфальт, голова развалилась надвое, как тухлый кабачок.
– Ты все равно сдохнешь, – сварливо сказала нищенка. Все это время она пряталась за покореженной колонкой, с безумной улыбкой наблюдая за бойней. Когда все было закончено, она коршуном кинулась к трупам бандитов, выворачивая наружу карманы.
Мако подошел к машине, хмуря брови. Он вырвал из раны гарпун, словно это была незначительная заноза. По руке заструилась кровь.
Перевел взгляд на квадроциклы Мясников. До отсидки он имел опыт езды на чем-то подобном. Наверное, у него получится.
Мако сел на ближайший аппарат. Его взгляд случайно упал на мертвого мальчика, которого выбросила нищенка прямо на дорогу. К нему уже торопливо спешили облезлые крысы.
Конфедерация, лопни мои глаза. Несколько десятков независимых регионов, постоянно враждующих друг с другом, вот что представляет собой эта долбаная Конфедерация. При этом твари, влачащие свое жалкое существование в Провинциях, брызжа пеной, называли себя гражданами. Хотя сами давно превратились в безжалостных, смердящих крыс, как вот эти, рвущие на части мертвого ребенка, и готовы убить друг друга за глоток воды.
Дерьмо.
Он завел квадроцикл.
– Ты сдохнешь! – закудахтала нищенка, выгребая из карманов плаща забинтованного Мясника мелочь и упаковку бун-буна.
Вдали послышался гул. Он вибрировал, становясь громче с каждой секундой, словно зарождающийся ураган.
Мясники.
Эта встреча ему ни к чему. Ему нужна Аделия.
Четырехколесная переделка, подскакивая на обломках асфальта, унеслась прочь.
Квадроцикл пришлось бросить задолго до цели – иначе это вызвало бы подозрения. Мако было не привыкать. Закинув на спину спортивную сумку, он шел пешком.
– Коленька… Все будет хорошо, – шептал он.
Он быстро нашел обнесенный высоким забором участок, где должна была проживать интересующая его женщина.
У ворот было небольшое столпотворение – оказалось, кто-то застрелил секьюрити, следящего за объектовым режимом. Заметив, что с трассы выруливает бронированный полицейский автобус, Мако быстро скользнул внутрь. На полноватого мужчину с обширной лысиной и косичкой, облаченного в черную рубашку, никто не обратил внимания.
(Аделия).
Ади.
Она любила, когда он ее так называл.
И ему нравилось ее так называть. Крича, она извивалась под ним, требуя еще и еще, и Мако, измотанный до полуобморочного состояния, в эти секунды думал, что это не женщина, а самый настоящий дьявол, который каким-то образом исхитрился влезть в телесную оболочку Аделии.
Вскоре он стоял перед ее домом.
«Именно так я и представлял твое гнездышко».
Он внимательно посмотрел на ворота. Нынешние технологии позволяли встраивать камеры слежения так, что они были невидимы для человеческих глаз. Наверняка Аделия уже знает, что к ней пришел гость. Интересно, узнает ли она его спустя столько лет? Должна. Хотя годы, проведенные за решеткой, сильно изменили его.
Мако шагнул к воротам. На его лице отразилось недоумение – они были открыты. Ха! Даже в таких небедных районах каждый был сам за себя. Каждый жил так, словно этот день – последний, каждый был готов к внезапному нападению или шальной пуле. Так что открытые ворота при отсутствии хозяина – это сигнал.
Что-то не так.
(Он здесь. Тот, кто убил охранника на въезде).
От этой мысли Мако почему-то испытал приступ странного возбуждения.
Он бесшумно вошел в дом, окунувшись в приятную прохладу. На первом этаже с тихим шипением ездил автоматический уборщик, тщательно пылесося коврик у дивана. Со второго этажа доносилась какая-то возня.
– Ади… – прошептал Мако. Он расстегнул «молнию» сумки. На него слепо скалилась мумифицированная голова с дырой вместо носа.
– Вот мы и у цели, Коленька.
Полюбовавшись на высохшее лицо, он аккуратно закрыл сумку.
Наверху кто-то закричал. Мако узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи.
Надо спешить. Иначе все сделают за него.
По лестнице вниз важно прошествовал крупный пушистый кот, мазнув хвостом по его ноге.
Оказавшись наверху, Мако двинулся к спальне – звуки доносились оттуда. Он осторожно вошел внутрь, и сердце его подпрыгнуло, как мячик на резинке.
– Отойди, – скомандовал он толстяку с потной лысиной, который обрывал зубами липкую ленту. Ади, совершенно голая и такая божественно-прекрасная, была намертво прикручена скотчем к кровати. Ноги бесстыдно раздвинуты, и Мако стоило немалых усилий не смотреть туда.
(Всему свое время).
– Не лезь! – зарычал толстяк. – Ты не знаешь, что сделала эта тварь!!
– Догадываюсь, – спокойно кивнул Мако, вынимая нож. – Ади, она ведь такая. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать.
Женщина вздрогнула, услышав свое уменьшительно-ласкательное имя. Ее заплаканные глаза округлились.
(Узнала!)
– Она кинула меня. Я разорен, – тяжело задышал толстяк. – Банк забрал мой дом и бизнес. Я потерял все. И все из-за нее. Ты слышишь?!
– Ну да. Тебе просто не нужно было связываться с ней, – обронил Мако.
Взгляд чрезмерно располневшего мужчины метнулся к дробовику, прислоненному к шкафу. Слишком далеко. Он снова посмотрел на Мако, сжавшись от страха, – глаза надвигавшегося на него незнакомца в черной рубашке предрекали смерть.
– Не надо, – пролепетал он. Он засеменил к окну, но споткнулся о сваленное одеяло, и, взвизгнув, упал. Мако прыгнул на него.
Толстяк успел взвизгнуть еще один раз, но после третьего взмаха умолк.
В комнату вошел кот. Животное с интересом уставилось на дробовик, явно не понимая, как и для чего этот странный предмет оказался в его доме.
– Боже мой, Ади, – вздохнул Мако, поднимаясь на ноги. – Стоит тебя оставить на некоторое время, ты обязательно в говно влипнешь.
Женщина умоляюще глядела на него, нечленораздельно мыча.
– А, ну да.
Мако вытащил мокрый от слюны кляп из ее рта.
– Костя…
Он ухмыльнулся, демонстрируя отсутствие некоторых зубов:
– Я уже давно не Костя. Костя умер тогда, Ади. Когда я благодаря тебе оказался в тюрячке. И сидеть бы мне еще пять лет, если бы не бунт. Мне пришлось вырезать чип, который установили в моем теле для слежки за мной – так делают со всеми заключенными. Было очень больно, Ади, потому что чип был вживлен в шейный позвонок.
– Мне очень жаль.
Мако провел указательным пальцем по голому животу женщины. Он был упругим, без единой складочки жира, как у гимнастки.
– Ты почти не изменилась, Ади. И, наверное, не изменишься.
– Костя…
– Такие, как ты, не стареют.
Глаза Мако блеснули странным огоньком.
– У вас, шлюх, внутри какой-то волшебный тумблер. Он, наверное, регулирует время в ваших блядских телах, переключаясь туда-сюда. Вон, смотри на меня. Лысый, как этот жирдяй, зубов нет, пузо растет. А ведь мне всего сорок два.
Кот отошел от ружья, и, мягко ступая лапками, приблизился к кровати.
– Костя, освободи меня.
– Освобожу, – улыбнулся Мако. – Только чуть позже.
Не удержавшись, он добавил:
– Ты прекрасна. Как всегда.
Аделия всхлипнула.
– Ты меня пугаешь.
– Не надо меня бояться. У меня мало волос на башке и растет брюхо, но с моим дружочком, к счастью, все отлично.
Мако наклонился к ней и нежно поцеловал в мягкие губы.
– У тебя кровь на руке, – заторможенно сказала Аделия.
– Я знаю. Ничего страшного. У тебя есть вода?
– Да. На кухне, на столе целая упаковка.
Мако вышел из комнаты.
Она закусила губу. Похоже, ее бывший ухажер даже не собирается ее развязывать.
Аделия выдавила из себя жалкую улыбку, когда Мако вернулся, вытирая губы.
Он медленно снял рубашку, и она побледнела.
– Ты что собрался делать?
Рубашка полетела на пол, за ней последовала не слишком чистая майка. Глаза женщины завороженно остановились на мощной грудной клетке Мако. В самом центре, поблескивая, щерилась челюсть, украшенная гротескно-кинжальными зубами. Рисунок искрился, словно был нарисован ртутью.
– Это серебряная нить, – пояснил Мако, заметив, что женщина не отрывает взгляда от экзотической татуировки. – Специальная прошивка. Круто, да?
Он начал стаскивать с себя военные ботинки, потом брюки. По телу Аделии пробежала мелкая дрожь.
– Зачем ты пришел? – вырвалось у нее.
– Ты еще спрашиваешь? – удивился Мако. На нем остались только трусы, которые он, чуть помедлив, тоже снял. Затем подвинул к кровати свою сумку.
– Я скучал по тебе, – признался он, грузно плюхаясь рядом с женщиной. Понюхал ее взмокший от пота локон волос. – Всегда любил натуральный запах женщины.
Он начал ласково поглаживать все еще красивую, крепкую грудь Аделии.
– А ты молодец. Подтяжек не делала?
– Делала.
Рука Мако постепенно сместилась вниз, ласково гладя бархатистую кожу.
– Тебе нравится?
Аделия глубоко выдохнула.
– Знаю, нравится, – хрипло прошептал Мако, прижавшись к ее разгоряченному телу. – Ты ведь рада, что я тебя спас от этого толстяка?
– Да.
– Что ты ему сделала? – Мако навис над ней. – Обокрала? Хотя нет, это слишком мелко для тебя. Уговорила перевести на себя все счета?
Он вошел в нее, как торпеда, и Аделия вскрикнула от неожиданности.
– Не бойся меня, – услышала она сквозь серую пелену его хрипловатый голос. – Я не причиню тебе боли… Пока.
Он кончил очень быстро, и лицо Аделии исказила гримаса.
– Ты так ничему и не научился, – фыркнула она, отворачиваясь. – Я не успела.
– Дорогая, меня все устраивает. Не успела сейчас – успеешь потом, – философски заметил Мако. – Но зато я быстро восстанавливаюсь.
– Развяжи меня, – раздраженно потребовала Аделия.
– У тебя есть выпить? – осведомился мужчина.
– Нет. Я не пью алкоголь. Есть чейси и туту-лайт.
– Я не люблю ваши гребаные колеса, – скривился Мако. – Куда катится этот трижды трахнутый мир?
Он снова начал гладить женщину. Краем глаза Аделия видела, что «орудие» ее бывшего кавалера снова приведено в боевую готовность.
– Ты псих, – она тихонько застонала, когда он снова лег на нее. – Но я тебя хочу, сволочь.
– Я всегда вспоминал тебя, – пыхтел Мако, начиная ритмично двигать бедрами. На кровать тихо запрыгнул кот, и он заметил его.
– Что, извращенец, нравится подсматривать?
Кот молча изучал Мако, и тому показалось, что круглые глазища животного излучают неподдельное презрение.
– Пошел отсюда, – бросил он, и кот, фыркнув, тихонько отступил назад. Некоторое время он, замерев, наблюдал за яичками Мако, которые вздрагивали в такт движениям, потом, присев, неожиданно прыгнул, вытягивая вперед лапы.
Мако заорал. Опустив голову, он посмотрел между ног, и, к своему ужасу, увидел проклятого кота, который с азартом пытался поймать растопыренными когтями его яйца.
– Пошел! Пошел на хер отсюда! – бешено сверкая глазами, рявкнул Мако. – Твою мать, Ади!
Он спрыгнул с кровати и уже хотел схватить за шкирку животное, но кот ловко отпрянул и, зашипев, ринулся к двери.
Аделия засмеялась.
Мако с ненавистью посмотрел на нее.
– В вашем доме все психи, – процедил он. – И люди, и коты. И, уверен, даже тараканы.
Он пощупал свою мошонку. Вроде все на месте.
– О, черт, – на глазах Аделии выступили слезы. – У меня есть игрушка с шариками… Тпруся, наверное, решил, что твои яички очень похожи на них… Ха-ха-ха! И у меня нет тараканов! Черт, черт!
– Перестань ржать, шлюха, – побагровел Мако, но Аделия не могла остановиться. У нее началась самая настоящая истерика, и оборвалась она только тогда, когда Мако ударил ее в лицо. Массивный перстень рассек губу женщины, выбив ей зуб. Аделия закашлялась, потрясенно глядя на него.
– Выплевывай. Ну, давай, – сказал он, подставляя мозолистую ладонь. – Я коллекционирую зубы шлюх. Ну?
– Я… гык… проглоти… ла, – поперхнувшись, едва выговорила она.
– Тогда придется выбить еще. Я не собираюсь ждать, когда тебе захочется освободить кишечник, – сказал Мако. Он снова уселся на Аделию. – Тебе очень идет, когда на тебе кровь. А еще я люблю читать на ваших блядских лицах панику. Мне нравится, когда вы боитесь. Я давно искал тебя. Параллельно охотясь на шлюх.
– Кост…
– Я Мако! – зарычал он. – Видела?
Он с силой ткнул толстым пальцем в свою массивную грудь. – И сегодня я сожру тебя!
Аделия застыла в ужасе. Целую минуту они смотрели друг на друга.