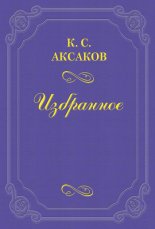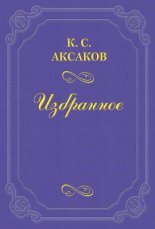Русский канон. Книги XX века Сухих Игорь

В первоначальном варианте романа соавторы вместе с героем объясняли эту тоску «пошлыми признаками влюбленности» (это определение вклинивается в исповедальный монолог Остапа). И потому оканчивалась книга главой «Адам сказал, что так нужно», в которой все метания героя завершались посылкой миллиона наркому финансов, появлением машины Козлевича с Зосей и финальной поездкой в загс: «…Супруги вышли из Отдела Записей.
– Мне тридцать три года, – сказал великий комбинатор грустно, – возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого не воскресил.
– Вы еще воскресите мертвого, – воскликнула Зося, смеясь.
– Нет, – сказал Остап, – не выйдет. Я всю жизнь пытался это сделать, но не смог. Придется переквалифицироваться в управдомы.
И он посмотрел на Зосю. На ней было шершавое пальтецо, короче платья, и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто, и на среднем пальце Остап увидел маленькое чернильное пятно, посаженное только что, когда Зося выводила свою фамилию в венчальной книге. Перед ним стояла жена».
Этот сентиментальный финал тоже неплох, но представляет другого героя, удовлетворяющегося своим маленьким счастьем с любимой девушкой. Да и что он стал бы делать, осев в Черноморске? Способы «врастания Бендера в социализм» остаются неясными.
Не только цензура (как принято считать), но и бог художественности уберег соавторов от подобного финала. Потеряв Зосю, ставшую не Бендер, а Синицкой-Фемиди, Остап с трудом возвращает свой миллион и пускается на очередную авантюру. В географию своих скитаний он хочет включить и загробный мир заграницы, то самое Рио-де-Жанейро, которое заменяет ему советские ДнепроГЭС и Турксиб.
Схватка с румынскими пограничниками и возвращение в СССР, который герой пытался покинуть – демонстрация того, что и в том мире этому скитальцу нет места.
Чуть измененная реплика, которая в первоначальном варианте свидетельствовала о примирении героя с жизнью, в окончательном варианте становится иронически безвыходной: «Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:
– Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы».
Замечено (А. Вентцелем), что этот зимний, ледяной финал уже подготовлен сравнением с Амундсеном в сцене получения миллиона в жаркий среднеазиатский день. Добавим, что в финале отыгрывается и любимая фраза героя из первого романа: лед тронулся.
На советский берег возвращается человек, которому не нашлось места ни там ни здесь, потерявший все, кроме чувства юмора.
Бендер, как уже отмечалось выше, приобрел власть над соавторами. Он не только пролезал почти в каждую главу, но и диктовал отношение к себе. Про это написал уже А. Луначарский в предисловии к американскому изданию романов, резко повысив статус главного героя за счет беспощадной оценки его окружения (в самих романах эта оценка, конечно, более мягкая и неоднозначная).
«Но в этом лилипутском мире есть свой Гулливер, свой большой человек – это Остап Бендер. Этот необыкновенно ловкий и смелый, находчивый, по-своему великодушный, обливающий насмешками, афоризмами, парадоксами все вокруг себя плут Бендер кажется единственно подлинным человеком среди этих микроскопических гадов. <…> В такой позиции оставляют в конце романа авторы своего героя, который вырос в их руках постепенно в слишком большую величину» («Ильф и Петров», 1931).
Бендер появляется в первой книге под прозвищем «Великий комбинатор» (глава V), которое проходит через весь роман, откликаясь в отстраненно-страшной сцене убийства: «Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. <…> “Сейчас же на автомобиль, – подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, – на вокзал. И на польскую границу”» (глава XL. «Сокровище»).
Но уже в конце той же пятой главы герой получает от Воробьянинова иную квалификацию: «А жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен». Уже в следующей главе более жесткое определение появляется и в авторской речи: «Ипполит Матвеевич <…> рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи.
Потом эти оценки больше не возвращаются, герой, наряду с великим комбинатором, именуется просто Остапом, Бендером, иногда главным концессионером или руководителем концессии (а оба персонажа – концессионерами).
В «Золотом теленке» презрительная квалификация Бендера сначала возвращается в авторской речи в сценах знакомства с Балагановым и автопробега: «В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение»; «Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге».
Но потом это определение опять исчезает, вытесняясь другим, восходящим к серьезному, драматическому сюжету (ближайшие его звенья – «Шаги командора» А. Блока и пушкинский «Каменный гость»). «Объявляю большой скоростной пробег Арбатов – Черноморск открытым, – торжественно сказал Остап. – Командором пробега назначаю себя».
Дальше, до самого конца романа характеристики Бендера чередуются: он предстает то командором, то великим комбинатором. «Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю…» – «– Лед тронулся! – в ужасе закричал великий комбинатор. – Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
Особенно любопытен стык в главе двадцатой. Она называется «Командор танцует танго», но в тексте: «Великий комбинатор танцевал танго».
Однажды, в последней главе, характеристики объединяются (не оговорка ли это?): «Запутавшись в шубе, великий командор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо».
Но дело не только в том, что соавторы в процессе работы признали и резко повысили статус своего героя. Весь текст дилогии, особенно второй ее части, написан будто бы с точки зрения Бендера. Насмешливо-ироническое отношение к жизни пропитывает и авторский текст.
Метод соавторской работы (ни одна фраза не будет включена в окончательный текст, пока ее не утвердили оба) спровоцировал молекулярный, «флоберовский», подход к написанному. (Недаром Флобер был одним из любимых авторов Ильфа.) Поэтому едва ли не каждая романная реплика (особенно Бендера) стремится стать репризой. А практически любое вроде бы нейтральное описание строится как самостоятельное «произведение».
В многочисленных отступлениях соавторы прибегают к панорамному изображению. Повествование воспаряет над фабулой. Мир видится как будто с птичьего полета. С легкостью преодолеваются границы между советским и заграничным, имперским прошлым и светлым будущим. Так построено не только кульминационное сравнение получившего миллион Бендера с достигшим полюса Амундсеном.
В начинающей роман иронической заставке сходной судьбой объединены советский пешеход-физкультурник, идущий из Владивостока в Москву по сибирскому тракту со знаменем «Перестроим быт текстильщиков», и идущий вокруг света европейский могикан пешеходного движения, толкающий перед собой бочку с надписью, восхваляющей непревзойденные качества автомобильного масла.
Еще в одном пейзаже воспоминания о прошлом «бывшего русского» легко вписываются в картину светлого будущего. «Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.
Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых» (глава VI. «Антилопа-Гну»).
Покажем на одном примере, как эти панорамные лирико-юмористические стихотворения в прозе встраиваются в структуру романа. Четырнадцатая глава «Первое свидание» о первой попытке Остапа получить миллион Корейко начинается со сцены дележки украденных у подпольного миллионера денег и усмирения взбунтовавшегося Паниковского: «– Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю. – Буду, – ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы».
И вдруг повествовательная прагматика сменяется совсем иной интонацией (аналоги этому стихотворению в прозе находят в написанном несколькими годами ранее романе Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара»): «Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной. В Черноморском порту легко поворачивались краны, спускали стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием Тракторостроя. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. На севере взошла Краснопутиловская звезда, а за нею зажглось великое множество звезд первой величины. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо.
И молодой человек, засидевшийся с любимой в рабочем клубе, торопливо зажигал электрифицированную карту пятилетки и шептал:
– Посмотри, вон красный огонек. Там будет Сибкомбайн. Мы поедем туда. Хочешь?
И любимая тихо смеялась, высвобождая руки».
Пятилетка и вечное, знакомое еще египтянам, небо, кометный огонь заводов, кошачья любовь кранов к ящикам с оборудованием и любовный шепот на производственную тему непринужденно соединяются в этом экзальтированно-лирическом пассаже.
Далее следует новый ракурс и интонационный слом: изображение укрупняется, в кадр возвращаются романные персонажи, напоминаются предшествующие фабульные эпизоды и намечаются новые, а лирика разбавляется очевидной иронией. «Ночь, ночь, ночь, как уже было сказано, лежала над всей страной. Стонал во сне монархист Хворобьев, которому привиделась огромная профсоюзная книжка. В поезде, на верхней полке, храпел инженер Талмудовский, кативший из Харькова в Ростов, куда манил его лучший оклад жалованья. Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, увозя на родину рецепт прекрасного пшеничного самогона. Ворочался на своем диване Васисуалий Лоханкин, потирая рукой пострадавшие места. Старый ребусник Синицкий зря жег электричество, сочиняя для журнала “Водопроводное дело” загадочную картинку: “Где председатель этого общего собрания рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции?” При этом он старался не шуметь, чтобы не разбудить Зосю. Полыхаев лежал в постели с Серной Михайловной. Прочие геркулесовцы спали тревожным сном в разных частях города. Александр Иванович Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно. Что делали Бендер, Балаганов и Паниковский – уже известно. И только о Козлевиче, водителе и собственнике “Антилопы-Гну”, ничего сейчас не будет сказано, хотя уже стряслась с ним беда чрезвычайно политичного свойства».
И только после этого, в третьем кадре, происходит окончательное возвращение к повествованию, мотивированное сменой времени суток: «Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко».
Без таких отступлений и рассуждений перед нами была бы иная книга. Тайну обаяния ДС/ЗТ надо искать не в политических высях, а, скорее, в лирической глубине, в совсем чеховских (горлышко разбитой бутылки) деталях, пейзажных описаниях, смешных фамилиях и попутных соображениях.
«Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку» – это еще «Двенадцать стульев» (глава IX. «Где ваши локоны?»).
А вот совсем набоковское описание (сравните начало «Дара», в котором грузовик привозит ослепительное зеркало): «По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета» (глава II. «Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта»).
А вот органическое, разреженное и разбавленной лирикой, использование приема «Невского проспекта»: улица в разное время суток как социальный срез действительности. «Июньское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую дребедень. В конце улицы, внизу, за крышами домов, пылало литое, тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался.
Был тот промежуток между пятью и шестью часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам, в городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке. В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина; но уже доносится далекий гром, это выгружаются из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах. Из фабричных труб грянет дым. А потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются троечным звоном мириады будильников (фирмы “Павел Буре” потише, треста точный механики позвончее) и замычат спросонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда» (глава IV. «Обыкновенный чемоданишко»).
Это написано не дворницкой метлой, а тонким перышком. Можно смаковать каждый эпитет, который – и цвет (оловянная роса), и слух (далекий гром), и психологическая проекция (подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются троечным звоном мириады будильников – это ведь про совслужащих, которым так не хочется вставать на работу).
То, что метафористы двадцатых годов, вроде Ю. Олеши, добывали тяжелым трудом – «импрессионистские» пейзажи, полные света и воздуха, – в ЗТ дается мимолетно, пробросом, в связи с решением иных задач. Может быть за это, а не только «за политику», оценил соавторов такой же адепт нового зрения В. Набоков. В кузнечиках, сияющем рельсе, глупой сове, молоке и сене он увидел что-то близкое собственной поэтике. (С. Гандлевский в эссе «Странные сближения» и вовсе уверяет, что «“Лолитой”, Набоков косился в сторону дилогии Ильфа и Петрова и кое-чем – и совсем немалым – воспользовался».)
Ближе к финалу меняется и интонация подобных отступлений. Наряду с юмором пейзаж приобретает меланхолические тона: время идет к осени, а история Бендера – к концу.
«В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили “умру, умру”. Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки» (глава XXXV. «Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник»).
В «Записных книжках» Сергея Довлатова, наследующих по прямой жанровой традиции Ильфа, есть обидное для соавторов суждение: «Существует понятие – “чувство юмора”. Однако есть и нечто противоположное чувству юмора. Ну, скажем – “чувство драмы”. Отсутствие чувства юмора – трагедия для писателя. Вернее, катастрофа. Но и отсутствие чувства драмы – такая же беда. Лишь Ильф с Петровым умудрились написать хорошие романы без тени драматизма».
В письме тот же автор повторяет любимую мысль с важным уточнением: «Если писатель лишен чувства юмора, то это – большое несчастье, но если он лишен чего-то обратного, скажем, чувства драмы, то это – еще большая трагедия. Все-таки, почти не нажимая педалей юмора, Толстой написал “Войну и мир”, а без драматизма никто ничего великого не создал. Чувство драмы было у Тэффи, у Аверченко, не говоря о Зощенко или Булгакове. Разве что одни лишь Ильф с Петровым обходились (и то не всегда) без этого чувства, создавая чудные романы» (Н. и Г. Владимовым, 15 мая 1986 г.).
Изложенное выше позволяет утверждать, что Довлатов «своих не познаша». По мере работы над чудными романами соавторы уходили от этой беды.
Эпилогом творчества Ильфпетрова, сочинившего не только два замечательных романа, но и чисто сатирические повести, и прямолинейные газетные фельетоны, и вполне благостные советские сценарии, оказываются записные книжки Ильфа, в которых привычный юмор – смешные фамилии и фразы, оговорки-опечатки – регулярно накрывает тень драмы.
«На площадке играют в теннис, из каменного винного сарая доносится джаз, там репетируют, небо облачно, и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде. – Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло. – Сквозь замерзшие, обросшие снегом плюшевые окна трамвая. Серый, адский свет. Загробная жизнь».
Мы молоды и верим в рай, – и гонимся и вслед и вдаль за слабо брежжущим виденьем…
Клэр, Машенька, ностальгия. (1930. «Вечер у Клэр» Г. Газданова)
Г. Адамович
- Там, где-нибудь, когда-нибудь,
- У склона гор, на берегу реки,
- Или за дребезжащею телегой,
- Бредя привычно под косым дождем
- Под низким, белым, бесконечным небом,
- Иль много позже, много, много дальше,
- Не знаю что, не понимаю как,
- Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно…
Нет текста без контекста (интертекста – сказали бы сегодня). Однако художественный смысл находится не вне, а внутри. Контекст необходим для первоначальной ориентации в культурном пространстве, для обозначения границ этого, многое напоминающего, но все-таки – в пределе – уникального мира.
После появления «Вечера у Клэр» критики дружно вспоминали Пруста, Бунина, Набокова, в дальней перспективе – Достоевского. Объективно ориентиры были намечены верно. «Вечер у Клэр», действительно, прихотливо движется между берегами русского автопсихологического романа и западного романа потока сознания. Но валентность, объясняющая сила этих параллелей, оказывается различной.
Имя Пруста в разговоре о Газданове необходимо скорее для контраста. Автор «Поисков утраченного времени» бесконечно растягивает каждое уходящее мгновение. В его прозе жизненная мышь обычно рождает событийную гору. В «Вечере у Клэр», напротив, исторические горы превращаются в событийных мышей. Смерти, катастрофы, революция и гражданская война в мире газдановского романа оказались соизмеримы с юношеской любовью, отношениями с учителями, созерцанием повисшего на тонкой ниточке в осеннем лесу паучка.
Прустовские описания измеряются тысячами страниц – томами. Толстому для «Четырех эпох развития» (в автобиографической трилогии осуществлены только три части) понадобилось четыреста страниц. Газдановское жизнеописание уложилось в сотню с небольшим. (Кстати, через много лет Газданов признался, что Пруста ко времени написания первого романа еще не читал.)
Достоевский для газдановской прозы – также слабая валентность. Он подвернулся критикам под руку лишь для того, чтобы подчеркнуть верность молодого автора классическим традициям и его интерес к глубинам души человеческой. На самом деле газдановский герой-протагонист напоминает скорее не «подпольного», а сокровенного человека.
В большей степени к месту оказался Бунин. В ранней рецензии Г. Адамовича (1930) моделью для понимания Газданова послужила писавшаяся почти одновременно с «Клэр» «Жизнь Арсеньева».
«Как бунинский Арсеньев, он (Газданов. – И. С.) пренебрегает фабулой и внешним действием и рассказывает только о своей жизни, не стараясь никакими искусственными приемами вызвать интерес читателя и считая, что жизнь интереснее всякого вымысла».
Пренебрежение фабулой у авторов «Арсеньева» и «Вечера у Клэр», однако, имеет существенно различную природу.
Бунин дает историю становления героя, будущего писателя, в плотной линейно-биографической вязи и связи. Внешне и «Вечер у Клэр» представляет собой монографический роман в форме рассказа от первого лица.
Начинаясь встречей с героиней в Париже заглавным вечером (единственная временная инверсия), повествование вдруг отступает далеко назад («мне было года три»), надолго задерживается на отце, потом перебрасывается к его смерти и долгой болезни героя, в связи с которой дается портрет матери. Затем следует ряд сцен в кадетском училище, сопровождаемый мотивировкой: «В первый раз я расстался надолго с матерью в тот год, когда стал кадетом». После них идет рассказ о гимназии («Но все же ранние годы моего учения были самыми прозрачными, самыми счастливыми годами моей жизни») и первой встрече с Клэр. Роман заканчивается эпизодами гражданской войны и прощанием с родиной на уплывающем в сторону Константинополя пароходе.
Биография персонажа внешне выстраивается по привычной фабульной линейке: детство – семья; отрочество – кадетский корпус, гимназия, первая любовь; юность – гражданская война, эмиграция. И главные хронотопы газдановского романа укладываются в классический треугольник русского эмигранта первого поколения: Петербург – Крым – Париж.
Линейный пересказ, однако, не передает своеобразия газдановской прозы. Событийный ряд все время трансформируется в прихотливую кардиограмму, подчиняется прихотливой пунктирной логике памяти.
Если Бунин размывает фабулу потоком многочисленных, со вкусом поданных подробностей внешнего мира, то Газданов превращает ее в поток сознания центрального персонажа, в котором внутреннее всегда значит больше, чем внешнее.
При этом не сразу и вспомнишь, как его зовут. Имя персонажа мелькнет лишь мимоходом, где-то в середине романа: «На шум пришел отец, посмотрел на меня укоризненно и сказал: – Коля никогда не ходи в кабинет без моего разрешения». Фамилия появится еще через десятки страниц: «Я попросил бы вас, кадет Соседов не размахивать на ходу так сильно хвостом». – «Вы, Соседов, в Бога верите?». Такими случайными поминаниями все и ограничится.
Бунинскую книгу позднее назвали первым русским феноменологическим романом. «Жизнь Арсеньева» – это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое «восприятие восприятия»). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно, в одном едином контексте… Прошлое заново переживается в момент писания, и потому в «романе» Бунина мы находим не мертвое «повествовательное время» традиционных романов, а живое время повествователя, схваченное и зафиксированное (и оживающее каждый раз снова перед читателем) – во всей его неотразимой непосредственности» (Ю. Мальцев).
В этом – структурном – смысле «Вечер у Клэр», пожалуй, даже более феноменологичен, чем «Жизнь Арсеньева». Биографическое время традиционных романов оказывается здесь глубоко периферийным, отступает перед повествовательным здесь-и-сейчас.
Разгадка книги – в фигуре главного героя. Он – не социальный тип или характер, а тип психологический. Газдановские детство – отрочество – юность становятся исследованием не внешней, окружающей героя реальности, а феноменологии его сознания, его точки зрения, взгляда на мир. Другие персонажи «Вечера у Клэр» даны лишь в процессе их осознания центральным персонажем. Они – шахматные фигурки на доске непонятной и непонятой реальности.
Доминанта газдановского персонажа – в преобладании внутреннего над внешним. «Я был слишком равнодушен к внешним событиям; мое глухое, внутреннее существование оставалось для меня исполненным несравненно большей значительности».
Поэтому для него книги становятся большими событиями, чем реальные потрясения, и он никак не может ощутить подлинность своего существования.
Первым рубежом его жизни становится родная смерть.
«Та минута, когда я, неловко вися на руках дяди, заглянул в гроб и увидел черную бороду, усы и закрытые глаза отца, была самой страшной минутой моей жизни. Гудели высокие церковные своды, шуршали платья теток, и вдруг я увидал нечеловеческое, окаменевшее лицо моей матери. В ту же секунду я вдруг понял все: ледяное чувство смерти охватило меня, и я ощутил болезненное исступление, сразу увидев где-то в бесконечной дали мою собственную кончину – такую же судьбу, как судьба моего отца».
Так же когда-то ужасался смерти матери толстовский Николенька Иртеньев, страшным криком встречая свое отрочество. Но это потрясение утешалось, поглощалось обычной домашней жизнью: отец, брат, тетушки, гувернеры и учителя. Газдановского героя быстро выбрасывает на беспощадные холодные сквозняки истории.
Его отрочеством становится кадетский корпус. Но и здесь, в самые прозрачные годы жизни, он несет с собой призрак того пронзительного чувства, которое он испытал, склонившись над гробом отца. «И в глубине моего сознания ни на минуту не прекращалась глухая, безмолвная борьба, в которой я сам почти не играл никакой роли. Я часто терял себя: я не был чем-то раз навсегда определенным; я изменялся, становясь то больше, то меньше; и, может быть, такая неверность своего собственного призрака, не позволявшая мне разделиться однажды и навек и стать двумя различными существами, – позволяла мне в реальной моей жизни быть более разнообразным, нежели это казалось возможным. Эти первые, прозрачные годы моей гимназической жизни отягчались лишь изредка душевными кризисами, от которых я так страдал и в которых все же находил мучительное удовольствие. Я жил счастливо – если счастливо может жить человек, за плечами которого стелется в воздухе неотступная тень. Смерть никогда не была далека от меня, и пропасти, в которые повергало меня воображение, казались ее владениями».
Цепочка смертей на внешней поверхности жизни – старшей сестры, отца, другой сестры – трансформируется в глубине сознания в странный апокалипсический пейзаж. «И мне представилось огромное пространство земли, ровное, как пустыня, и видимое до конца. Далекий край этого пространства внезапно отделяется глубокой трещиной и бесшумно падает в пропасть, увлекая за собой все, что на нем находилось. Наступает тишина. Потом беззвучно откалывается второй слой, за ним третий; и вот мне уже остается лишь несколько шагов до края; и, наконец, мои ноги уходят в пылающий песок; в медленном песчаном облаке я тяжело лечу туда, вниз, куда уже упали все остальные. Так близко, над головой, горит желтый свет, и солнце, как громадный фонарь, освещает черную воду неподвижного озера и оранжевую мертвую землю».
«Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли…» (Цветаева).
Одинокий мечтатель, романтик, видящий и чувствующий внутренний мир лучше живой жизни, – характер распространенный. Столкновение трепетной, поэтической души с ужасом небытия – ситуация универсальная. Однако здесь многое решает поправка на историю: странным остраненным взглядом увидена небывалая, уникальная в человеческой истории эпоха «оптовых смертей».
«Написанный от первого лица, роман-воспоминание в свободной повествовательной манере дает живой портрет молодого поколения эпохи гражданской войны. Сегодня, пожалуй, можно сказать, что в русской зарубежной литературе это одно из лучших произведений о гражданской войне» (Ст. Никоненко).
Портрет молодого поколения, кажется, нужно искать где-то в другом месте. Газдановский герой, как уже замечено, – не «типический представитель». И гражданская война в романе какая-то странная – совсем не похожая не только на войну из учебников, но и на ее бабелевский, толстовский («третьего Толстого», автора «Хождения по мукам»), шолоховский или фадеевский образ.
«Уходили добровольцы На гражданскую войну…»
Здесь на войну уходит не убежденный идейный борец, а мальчишка-идеалист, импульсивно встающий на сторону неправых, но побеждаемых.
Главные слова о русской истории и современности Газданов предоставляет произнести дяде Виталию, старому пессимисту с даром угадывания, скептику и романтику, рыцарю чести (давшему пощечину командиру полка за его отказ драться на дуэли и пять лет просидевшему в крепости), философу и эрудиту, безвестно закупоренному в провинциальном Кисловодске.
В представлении о русской истории как смене умных и добродетельных монархов дядя видит сусальную мифологию. «Впрочем, – продолжает он, – ты все равно окажешься в дураках, – даже если будешь знать настоящую историю».
Современное состояние России представляется ему в столь же безнадежных тонах. «Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича. – Конец Смутного времени, – пробормотал я. – Да, конец Смутного времени… Белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные – это те, что растут. – Хорошо, допустим, что это так, – сказал я; глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение, – но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых? – Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть? – Хотя бы, – сказал я, хотя думал совсем другое. – Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже, а если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы. – И, кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге. – Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных – если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии – если автор будет на стороне красных. – Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые. – Это гимназический сентиментализм, – терпеливо сказал Виталий».
Биологический и одновременно безнадежно агностический подход к истории дяди сталкивается с романтическими представлениями племянника. «Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию».
Такой ракурс изображения гражданской войны оказывается совершенно неожиданным. Разбитые снарядами станции, ежедневная смерть на фронте и тыловой разгул увидены не трагическим взглядом участника с какой-то стороны баррикады и даже не взглядом человека, мучительно ищущего третью правду и спокойный угол (как шолоховский герой), но – постороннего, психологического инопланетянина, по-прежнему существующего в мертвом пространстве сознания, хотя физически его тело перемещается в бронепоезде по полям оставляемого Врангелем острова Крым.
Для газдановского героя характерны чрезвычайная острота чувства, внимание к подробностям – и общая его замороженность, отстраненность; жажда смысла – и конечное ощущение его отсутствия. «Хорошо, – сказал я. – Но какой же смысл в этих постоянных ошибках?.. – Смысл? – удивился Виталий. – Смысла, действительно, нет, да он и не нужен. – Этого не может быть. Это закон целесообразности. – Нет, мой милый, смысл – это фикция, и целесообразность – тоже фикция».
По-юношески защищая смысл и целесообразность в споре со скептиком-дядей, герой в дальнейшем фактически признает его правоту. «Было много невероятного в искусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пулеметов: они двигались по полям южной России, ездили верхом, мчались на поездах, гибли, раздавленные колесами отступающей артиллерии, умирали и шевелились, умирая, и тщетно пытались наполнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то своим, не божественным смыслом».
Бессильному колебанию на поверхности событий можно противопоставить лишь чувство постоянного отъезда, стоический взгляд на мир, лишенный видимого смысла, но, может быть, имманентно его в себе скрывающий.
«Но когда вокруг свищут пули, Когда волны ломают борта, Я учу их (читателей. – И. С.), как не бояться, Не бояться и делать, что надо» (Н. Гумилев. «Мои читатели»).
Газдановский герой мог бы быть одним из гумилевских читателей.
Как ни странно, существуя в своей третьей, юношеской, жизни в самых катастрофических обстоятельствах, он все время живет с ощущением внутренней нормы. Потому он с равным трезвым взглядом описывает эпизоды беспримерной трусости и столь же невероятной, часто бессмысленной, военной отваги. Он спокойно признается, что не умеет разговаривать с мужиками и так далек от народа, что его порой воспринимают как русского иностранца. Ни красное, ни белое дело не вызывают у него повышенных эмоций. Его участие в войне – не идеологический жест, а продолжение психологического эксперимента над собой.
«Впрочем, и в эту новую жизнь я принес с собой давние мои привычки и странности; и подобно тому, как дома и в гимназии значительные события нередко оставляли меня равнодушным, а мелочи, которым, казалось бы, не следовало придавать значения, были для меня особенно важны, – так и во время гражданской войны бои и убитые и раненые прошли для меня почти бесследно, а запомнились навсегда только некоторые ощущения и мысли, часто очень далекие от обычных мыслей о войне».
«Самым лучшим» его военным воспоминанием оказывается одинокое дежурство на наблюдательном пункте в лесу на вершине дерева, сопровождаемое воем снарядов и созерцанием прыгающей по деревьям смешной белки. «Шумели листья от ветра, внизу стрекотал неизвестно откуда взявшийся кузнечик и вдруг умолкал, словно ему зажимали рот ладонью. Было так хорошо и прозрачно, и все звуки доходили до меня так ясно, и в маленьком озере, которое мне было видно сверху, так сверкала и рябилась вода, что я забыл о необходимости следить за вспышками и движением неприятельской кавалерии, о присутствии которой нам сообщила разведка, и о том, что в России происходит гражданская война, а я в этой войне участвую».
Газдановская война завершается отплытием парохода в неизвестность на фоне пылающего города.
«Мимо деревни один за другим прошли четыре поезда по направлению к Феодосии. Через несколько часов путешествия мы тоже были уже там; был вечер, и нам отвели квартиру в пустом магазине, голые полки которого служили нам постелью. Стекла магазина были разбиты, в пустых складах раздавалось гулкое эхо наших разговоров, и казалось, рядом с нами говорят и спорят другие люди, наши двойники, – и в их словах есть несомненная и печальная значительность, которой не было у нас самих; но эхо возвышало наши голоса, делало фразы более протяжными; и, слушая его, мы начинали понимать, что произошло нечто непоправимое. Мы с ясностью услышали то, чего не узнали бы, если бы не было эха. Мы видели, что мы уедем; но мы понимали это только как непосредственную перспективу, и наше воображение не уходило дальше представления о море и корабле; а эхо доносилось до нас новое и непривычное, точно раздавшееся из тех стран, в которых мы еще не были, но которые теперь нам суждено узнать. Когда я стоял на борту парохода и смотрел на горящую Феодосию – в городе был пожар, – я не думал о том, что покидаю мою страну, и не чувствовал этого до тех пор, пока не вспомнил о Клэр. – Клэр, – сказал я про себя и тотчас увидел ее в меховом облаке ее шубы; меня отделяли от моей страны и страны Клэр – вода и огонь; и Клэр скрылась за огненными стенами».
В этом фрагменте хорошо виден механизм газдановской поэтизации или, если угодно, символизации. В рамках одного ритмического периода бытовые детали разгромленного города, который оставляет белая армия (голые полки, эхо в пустых магазинах) превращаются в символический пейзаж.
«Долго еще потом берега России преследовали пароход: сыпался фосфорический песок на море, прыгали в воде дельфины, глухо вращались винты и скрипели борта корабля; и внизу, в трюме, слышалось всхлипывающее лепетание женщин и шум зерна, которым было гружено судно. Все дальше и слабее виднелся пожар Феодосии, все чище и звучнее становился шум машин; и потом, впервые очнувшись, я заметил, что нет уже России и что мы плывем в море, окруженные синей ночной водой, под которой мелькают спины дельфинов, и небом, которое так близко к нам, как никогда».
Стихии огня и воды стеной отделяют героя от родины. Как новый Ной, он оказывается в пустом неописанном мире между землей и небом.
Намеченное в начале романа композиционное кольцо («Я думал о Клэр, о вечерах, которые я проводил у нее, и постепенно стал вспоминать все, что им предшествовало…») остается в финале незамкнутым. Корабль оказывается в океане. Герой остается на корабле между тоской о покинутой навсегда России и мыслью о прекрасной женщине, к которой он так и не посмел прикоснуться.
Экспозиционную встречу в этом плане можно интерпретировать не как реальность, но как этот прекрасный сон на пароходе, плывущем в неизвестность в поисках невидимого Града.
Проходя через смерть и кровь, герой остается мальчишкой-гимназистом, видящим мир в преображенном свете памяти и превращающим любовь к прекрасной француженке в мировоззрение, философию, смысл жизни.
Герой (его так и не привыкнешь называть по имени-фамилии) знакомится с девушкой еще в гимназические годы. Она появляется из его сновидения.
«Я закрыл глаза и увидел оранжевую мглу, пересеченную зелеными молниями. Должно быть, я проспал несколько минут, потому что ничего не слышал. Вдруг я почувствовал холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча. Чистый женский голос сказал надо мной: – Товарищ гимнаст, не спите, пожалуйста. – Я открыл глаза и увидел Клэр, имени которой я тогда не знал. – Я не сплю, – ответил я. – Вы меня знаете? – продолжала Клэр. – Нет, вчера вечером я увидел вас в первый раз. Как ваше имя? – Клэр. – А, вы француженка, – сказал я, обрадовавшись неизвестно почему. <…> У нее были длинные розовые ногти, очень белые руки, литое, твердое тело и длинные ноги с высокими коленями. <…> Голос ее содержал в себе секрет мгновенного очарования, потому что он всегда казался уже знакомым; мне и казалось, что я его где-то уже слыхал и успел забыть и вспомнить».
Клэр – женщина, сотканная из грез, Прекрасная дама и Незнакомка, Манон Леско, Психея, Вечная Женственность…
История любви героя состоит из простых, элементарных действий: несколько встреч – расставание после обиды на мать, нечаянно по-французски выразившей дочери свое неодобрение этой странной дружбой – встреча через некоторое время и весть о замужестве героини – неожиданное предложение и столь же немотивированный отказ («– Идемте ко мне, – сказала она резко. В тумане передо мной, на довольно большом расстоянии, я видел ее неподвижное лицо. Я не двинулся с места. Лицо ее приблизилось и стало гневным. – Вы сошли с ума или вы больны? – Нет, нет, – сказал я. – Что с вами? – Я не знаю, Клэр».) – разрыв, во время которого война, потеря близких и родины не отодвигают в сторону мысль об этой женщине.
«В течение десяти лет, разделивших две мои встречи с Клэр, нигде и никогда я не мог этого забыть. То я жалел, что не умер, то представлял себя возлюбленным Клэр. Бродягой, ночуя под открытым небом варварских азиатских стран, я все вспоминал ее гневное лицо, и, спустя много лет, ночью я просыпался от бесконечного сожаления, причину которого не сразу понимал – и только потом догадывался, что этой причиной было воспоминание о Клэр. Я вновь видел ее – сквозь снег, и метель, и безмолвный грохот величайшего потрясения в моей жизни».
Встреча в Париже через десятилетие оказывается искуплением и оправданием прошедшей жизни.
Газданов не случайно берет эпиграфом к роману фразу пушкинской героини из ее письма к Онегину. В его романе мужское и женское меняются местами. Главный герой оказывается робким, сентиментальным, мечтательным, отрешенным от обыденности. Решительной, ироничной и практичной предстает в ключевых эпизодах как раз прекрасная француженка.
В конкретном изображении чувства Газданов тоже плывет против течения. От сдержанной точности, характерной для литературы девятнадцатого века (Тургенев, Чехов), он делает шаг не вперед, в век двадцатый, к физиологической откровенности Бунина или, тем паче, позднего Набокова, а скорее отступает в начало девятнадцатого века к умолчаниям, условности, «акварельности» Пушкина или даже Карамзина.
«Я вошел. Мы выпили чай в молчании. Мне было тяжело, я подошел к Клэр и сказал: – Клэр, не надо на меня сердиться. Я ждал встречи с вами десять лет. И я ничего у вас не прошу. – Я хотел прибавить, что такое долгое ожидание дает право на просьбу о самом простом, самом маленьком снисхождении; но глаза Клэр из серых стали почти черными; я с ужасом увидел – так как слишком долго этого ждал и перестал на это надеяться, – что Клэр подошла ко мне вплотную и ее грудь коснулась моего двубортного застегнутого пиджака; она обняла меня, лицо ее приблизилось; ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня; и Клэр сказала: “Comment ne compreniez vous pas?..” <“Как, вы не понимали?..” (фр.) – Перев. автора.>, – и судорога прошла по ее телу. Туманные глаза Клэр, обладавшие даром стольких превращений, то жестокие, то бесстыдные, то смеющиеся, – мутные ее глаза я долго видел перед собой; и когда она заснула, я повернулся лицом к стене и прежняя печаль посетила меня; печаль была в воздухе, и прозрачные ее волны проплывали над белым телом Клэр, вдоль ее ног и груди; и печаль выходила изо рта Клэр невидимым дыханием».
Так выглядит ключевая сцена соединения любимых. Предметные подробности заменяются метафорической вязью, конкретное изображение – лейтмотивной деталью («туманные глаза Клэр, обладавшие даром стольких превращений»: серые, почти черные, жестокие, бесстыдные, смеющиеся, мутные), физиология – поэзией.
Газданова, как уже упоминалось, в тридцатые годы чаще всего ставили в один ряд с Набоковым. Какое-то время они воспринимались как литературные соперники. Эта параллель, действительно, представляется самой очевидной и самой сильной.
Дневные и ночные дороги двух писателей оказались, однако, в итоге так далеки, что говорить о сходстве и здесь можно лишь для обозначения различий.
Газданов четырьмя годами моложе Набокова. Первый набоковский роман «Машенька» (1926) теми же четырьмя годами старше «Вечера у Клэр». Это четырехлетие, минимальная, в общем, граница, оказалось, однако, пропастью между эпохами и поколениями, абсолютным разрывом.
Между текстами есть очевидное фабульное сходство. Привычный любовный треугольник приобретает в обоих романах необычный вид: соперником героя в отношениях с женщиной оказывается не другой (хотя у обеих героинь к моменту повторной встречи-невстречи уже есть мужья), а собственное прошлое.
Но разрешаются конфликты принципиально по-разному.
Набоковский роман – история в тургеневском духе на современном материале. Для Ганина любовь к девушке, ставшей женой другого, неотрывна от прошлого, от родного пейзажа, от России. Его отказ от новой встречи в финале объясняется неразрывностью героини и родного ландшафта. «Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу – и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что его роман с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, – эти четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который уже сам стал воспоминаньем. И кроме этого образа, другой Машеньки нет и быть не может» («Машенька», гл. XVII).
Клэр и родина, напротив, разведены в пространстве сознания газдановского героя. Оставляя в финале романа Россию за стеной воды и огня, герой грезит о встрече с женщиной, которая заменяет ему все. «И я стал мечтать, как я встречу Клэр в Париже, где она родилась и куда она, несомненно, вернется. Я увидел Францию, страну Клэр, и Париж, и площадь Согласия <…> Она всегда существовала во мне; я часто воображал там Клэр и себя – и туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни, точно натыкаясь на неизмеримую воздушную стену – воздушную, но столь же непреодолимую, как та огненная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные сигналы России. <…> Тысячи воображаемых положений и разговоров роились у меня в голове, обрываясь и сменяясь другими; но самой прекрасной мыслью была та, что Клэр, от которой я ушел зимней ночью, Клэр, чья тень заслоняет меня, и когда я думаю о ней, все вокруг меня звучит тише и заглушеннее, – что эта Клэр будет принадлежать мне. И опять недостижимое ее тело, еще более невозможное, чем всегда, являлось передо мной на корме парохода, покрытой спящими людьми, оружием и мешками. Но вот небо заволоклось облаками, звезды сделались не видны; и мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные пропасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол – и звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр…»
В финалах романов герои движутся в прямо противоположных направлениях. Ганин изживает прошлое, оставляет его за спиной, чтобы открыться неизвестному будущему, символизируемому морем: «…и с приятным волненьем подумал о том, что без всяких виз проберется через границу, – а там Франция, Прованс, а дальше – море». Газдановский герой, плывя по разделяющему его с родиной морю, возвращается в прекрасное прошлое своей любви к Клэр и грезит о новой встрече. Но звук колокола, кажется, предупреждает о другом: колокольным звоном сопровождались похороны отца.
Эпиграфы романов (оба – из «Евгения Онегина») точно акцентируют их ключевые мотивы.
«…Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь…» («Машенька»). Все, что следует за этим, увидено словно издалека. Прежние романы по мере развития фабулы отступают перед яркими, праздничными картинками настоящего. «Солнце поднималось все выше, равномерно озарялся город и улица оживала, теряла свое странное теневое очарование. Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью, – и тележки, что катили на базар, и тонкие, еще сморщенные листики, и разноцветные рекламы, которые человек в фартуке клеил по окату будки, – это и было тайным поворотом, пробуждением его» (гл. XVII). Воспоминание о прежней любви растворяется в ностальгической дымке.
«Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой» («Вечер у Клэр»). В свете эпиграфа парижская встреча с Клэр предстает как сбывшееся – и вечное – сновидение. Герой замыкается в нем, и приметы настоящего оказываются лишь деталями этого безразмерного, безвременного, бесконечного сна. «Оглянувшись на Сену в последний раз, я поднимался к себе в комнату и ложился спать и тотчас погружался в глубокий мрак; в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву».
История одной жизни становится повествованием о необычайной, вечной, сбывшейся и все же несбывшейся любви.
«– Но во всякой любви есть печаль, – вспоминал я, – печаль завершения и приближения смерти любви, если она бывает счастливой, и печаль невозможности и потери того, что нам никогда не принадлежало, – если любовь остается тщетной. <…> Теперь я жалел о том, что я уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда; и что пройдет еще много времени, пока я создам себе иной ее образ и он опять станет в ином смысле столь же недостижимым для меня, сколь недостижимым было до сих пор это тело, эти волосы, эти светло-синие облака».
В перспективе написанного и прожитого потом, Набоков и Газданов словно поменялись местами.
Газданова несло по жизни – от парижских улиц, которые он хорошо изучил за рулем автомобиля, через отряды французского Сопротивления до немецких студий радио «Свобода». И своего героя он пытался укоренить то в английских салонах («История одного путешествия»), то в парижских притонах («Ночные дороги»), то вживлял его в фабулу детективного романа («Призрак Александра Вольфа»). Но он всюду так и оставался чужим, чуждым, неприкаянным и одиноким.
Ностальгия газдановского героя обращена на прошлое вообще. Она преследует его подобно пушкинской хандре – «как тень иль верная жена». Становясь прошлым, каждое мгновение уравнивается с другими, опоры в этом бесконечном путешествии, скольжении-вальсировании нет, его концом может стать только смерть.
Формулой этого мироощущения является замечательный риторический вопрос, феноменологический период-пируэт, роман в романе из «Ночных дорог» (1939—1941). «В силу какого невероятного стечения обстоятельств мои юношеские блуждания – зима, Россия, огромное красное солнце над снегом, Кавказ, Босфор, Диккенс, Гауптман, Эдгар По, Офелия, Медный Всадник, Леди Гамильтон, трехдюймовая пушка, в панораме которой прошло столько городских стен и рощ, где стояли неприятельские батареи, и, наконец, ужасное месиво человеческих лиц – тот полк, который шел на наш бронепоезд в безумной кавалерийской атаке, – месиво этих лиц, которое я вижу перед собой вот уже много лет; Шекспир, Великий Инквизитор, смерть князя Андрея, Будапешт и мосты над Дунаем, Вена, Севастополь, Ницца, пожары в Галате, выстрелы, море, города и беззвучно струящееся время – это невозвратное и безмолвное движение, которое я уловил в последний раз именно тогда, в кафе, на бульварах, под музыку случайного оркестра, глядя на туманное в ту минуту и неповторимо прекрасное лицо Алисы, – в силу какого невероятного стечения обстоятельств все это множество чужих и великолепных существований, весь этот бесконечный мир, в котором я прожил столько далеких и чудесных жизней, свелся к тому, что я очутился здесь, в Париже, за рулем автомобиля, в безнадежном сплетении улиц, на мостовых враждебного города, среди проституток и пьяниц, мутно возникающих передо мной сквозь легкий и всюду преследующий меня запах тления?»
Чувствующий, мыслящий, страдающий человек оказывается песчинкой на дороге никуда. «Мне все чаще и чаще начинало казаться, что та беззвучная симфония мира, которая сопровождала мою жизнь, нечто трудноопределимое, но всегда существующее и меняющееся, огромная и сложная система понятий, представлений, образов, двигающаяся сквозь воображаемые пространства, – что она звучала все слабее и слабее и вот-вот должна была умолкнуть. Я ощущал, думая об этом, почти физическое ожидание того трагического и неизвестного молчания, которое должно прийти на смену этому громадному и медленно умиравшему движению».
Набоков, как тысячи раз замечали и писали, никогда не заводил дома, потому что имел его. У его героя в прошлом всегда есть неподвижная точка, сияющий мир-миф, бессмертная действительность русского прошлого, которую он лелеет и по которой ностальгирует. «Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, – он же сам был в России, переживал воспоминанье свое как действительность. Временем для него был ход воспоминанья…»
Набоков старше Газданова не на четыре года, а на миф о России. Это и определило их разные судьбы.
Для одного миф стал якорем, миром и судьбой, для другого – лишь зыбкой грезой, томительным воспоминанием, «игрушкой шаткою тоскующей мечты».
Эту разницу четко осознавал и сам автор «Вечера у Клэр». В безнадежной и беспощадной статье «О молодой эмигрантской литературе» (1939) он особо выделил только Сирина: «Но он оказался возможен только в силу особенности, чрезвычайно редкого вида его дарования – писателя, существующего вне среды, вне страны, вне остального мира. Но и то, конечно, в его искусственном мире есть тот психологический point de depart (исходный пункт. – И. С.), которого нет у других, и который другими не может быть ни принят, ни усвоен, так как является ценностью только этого замкнутого круга творчества. И к молодой эмигрантской литературе Сирин не имеет никакого отношения».
Остальным авторам своего поколения было отказано – со ссылкой на Толстого – в моральном знании предмета, в исходном пункте, в собственной теме, без которой русская литература не существует. «Страшные события, которых нынешние литературные поколения были свидетелями или участниками, разрушили все гармонические схемы, которые были так важны, все эти “мировоззрения”, “миросозерцания”, “мироощущения” и нанесли им непоправимый удар. И то, в чем были уверены предыдущие поколения, и что не могло вызывать никаких сомнений, – сметено как будто бы окончательно. У нас нет нынче тех социально-психологических устоев, которые были в свое время у любого сотрудника какой-нибудь вологодской либеральной газеты (если таковая существовала); и с этой точки зрения он, сотрудник, был богаче и счастливее его потомков, живущих в культурном – сравнительно – Париже. <…> Если предположить, что за границей были бы люди, способные стать гениальными писателями, то следовало бы, продолжая эту мысль, прийти к выводу, что им нечего было бы сказать; им помешала бы писать «честность с самим собой».
Однако, осознавая произошедшее как мировоззренческую катастрофу (которая, впрочем, не уникальна: «Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю», – признавался дядя Виталий), герой не превращается в циника любого сорта – беспросветного, равнодушного, торжествующего. Ему присуще имманентное чувство нормы – в отношении к женщине, к другим, к миру вообще. В этом мироощущении герой «Вечера у Клэр» совпадал с автопсихологическими персонажами Набокова и шел против течения современной ему прозы, изображавшей чаще всего ненормальность, безнадежность, утрату ориентиров – «распад атома» (Г. Иванов).
Повествовательные манеры Набокова и Газданова опять-таки схожи в первом приближении: в пафосе воскрешения, эстетизме, ощущении прозы как словесного искусства, возвышающего, преодолевающего даже самый грубый, неподъемный материал реальности.
«Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир в угоду женщине… Боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти, он прежний путь свой воссоздавал осторожно, бережно, возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед» («Машенька», гл. IV).
«Я думал о Клэр, о вечерах, которые я проводил у нее, и постепенно стал вспоминать все, что им предшествовало; и невозможность понять и выразить все это была мне тягостна. В тот вечер мне казалось более очевидно, чем всегда, что никакими усилиями я не могу вдруг охватить и почувствовать ту бесконечную последовательность мыслей, впечатлений и ощущений, совокупность которых возникает в моей памяти как ряд теней, отраженных в смутном и жидком зеркале позднего воображения» («Вечер у Клэр»).
Путеводные нити в лабиринте памяти оказываются, однако, принципиально разными. Газдановский персонаж, сожалея о невозможности выразить все сразу, завидует волшебному и мгновенному существованию музыки. Набоковский герой ставит во главу угла забытую мелочь, живописную деталь.
Проза Набокова (как, скажем, и Олеши) – упражнение для глаза, опыт нового видения мира. Ее фундамент – предмет, ее строительный материал – существительное, ее прообраз – живопись, ее метафора – зеркало.
«Лавки еще спали за решетками, дома освещены были только сверху, но нельзя было представить себе, что это закат, а не раннее утро. Из-за того, что тени ложились в другую сторону, создавались странные сочетания, неожиданные для глаза, хорошо привыкшего к вечерним теням, но редко видящего тени рассветные. Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале» («Машенька», глава XVII).
Газдановское смутное и жидкое зеркало у Набокова обязательно окажется блестящим и ярким.
Проза Газданова – проверка для уха, поиск новой гармонии. Ее цель – оттенки и свойства, ее структурные элементы – уходящая в бесконечность цепочка прилагательных и придаточных предложений, ее аналогия – музыка, ее метафорой (не столь очевидной, как у Набокова) можно считать божественную силу звука дрожащей пилы, которая на последней странице романа провоцирует чисто прустовский обвал воспоминаний.
«Мы долго плыли по Черному морю; было довольно холодно, я сидел, закутавшись в шинель, и думал о японских гаванях, о пляжах Борнео и Суматры, и пейзаж ровного песчаного берега, на котором росли высокие пальмы, не выходил у меня из головы. Много позже мне пришлось слышать музыку этих островов, протяжную и вибрирующую, как звук задрожавшей пилы, который я запомнил еще с того времени, когда мне было всего три года; и тогда в приливе внезапного счастья я ощутил бесконечно сложное и сладостное чувство, отразившее в себе Индийский океан, и пальмы, и женщин оливкового цвета, и сверкающее тропическое солнце, и сырые заросли южных растений, скрывающие змеиные головы с маленькими глазами; желтый туман возникал над этой тропической зеленью и волшебно клубился и исчезал – и опять долгий звон дрожащей пилы, пролетев тысячи и тысячи верст, переносил меня в Петербург с замерзшей водой, которую божественная сила звука опять превращала в далекий ландшафт островов Индийского океана; и Индийский океан, как в детстве в рассказах отца, раскрывал передо мной неизведанную жизнь, поднимающуюся над горячим песком и проносящуюся, как ветер, над пальмами».
В газдановской прозе прежде всего значимы не пластично нарисованная картина или «вкусная» деталь, а расплывающийся, как на старой фотографии, контур, ускользающая интонация повествования, тот самый звук.
«Стихи мои, бегом, бегом…» (Пастернак).
«Вечер у Клэр» похож на такие стихи.
Роман Газданова подчиняется принципу единства и тесноты стихового ряда. Проза несется бегом, на сплошной ритмической волне – без деления на главы и остановок на точках. Редкие фонарики абзацев (порой от одного до другого две-три страницы) – лишь неизбежная дань традиции. Кажется, если бы не требования грамматики, автор вообще написал бы все одним куском – без всяких знаков препинания (мы ведь не ставим их во внутренней речи).
«Затем разговор вернулся к Дон-Жуану, потом, неизвестно как, перешел к подвижникам, к протопопу Аввакуму, но, дойдя до искушения святого Антония, я остановился, так как вспомнил, что подобные разговоры не очень занимают Клэр; она предпочитала другие темы – о театре, о музыке; но больше всего она любила анекдоты, которых знала множество». В этом сжатом пересказе фрагмента заглавного вечера у Клэр – одна из формул газдановской прозы. При линейности фабулы ее сюжетное движение похоже на прихотливые танцевальные фигуры, и неизвестно где можно оказаться в следующее мгновение.
Любимая стилистическая фигура в прозе Газданова – период с бесконечными перечислениями, прихотливыми, но ритмически безупречными рядами синонимов и придаточных предложений, сомнамбулическим повторами, смешением пространств и времен.
«Давно прошли те сложнейшие сплетения самых разнообразных и навеки переставших существовать причин, – потому что ничья память не сохранила их, – которые зимой того года заставили меня очутиться на бронепоезде и ехать ночами на юг; но это путешествие все еще продолжается во мне, и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней койке моего купе и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство, и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми парусами в небытие, опять закружится снег и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни. И, может быть, то, что я всегда недолго жалел о людях и странах, которые покидал, – может быть, это чувство лишь кратковременного сожаления было таким призрачным потому, что все, что я видел и любил, – солдаты, офицеры, женщины, снег и война, – все это уже никогда не оставит меня – до тех пор, пока не наступит время моего последнего, смертельного путешествия, медленного падения в черную глубину, в миллион раз более длительного, чем мое земное существование, такого долгого, что, пока я буду падать, я буду забывать это все, что видел, и помнил, и чувствовал, и любил; и, когда я забуду все, что я любил, тогда я умру».
Даже финал кажется не конечной остановкой, последней точкой а временной остановкой дыхания, ритмической паузой, после которой все понесется куда-то дальше или пойдет по второму кругу.
«Вечер у Клэр» – словно фильм, пущенный на большей, чем положено, скорости. Взгляд успевает схватить лишь общую картину и крупно выделенные детали. Движения людей приобретают смешной мультипликационный характер: они выходят из дверей, смешно перебирая ногами, прощаются, падают на землю, не успевая понять, что убиты. Красным яблоком падает за горизонт солнце. Мчатся куда-то лошади и поезда.
И беспощадно-тихо шелестит в проекторе кинолента.
«Колька, верти назад!»
Но остановить ничего невозможно. Вплоть до того последнего падения в черную глубину, на дне которой – неподвижная озерная вода и оранжевая мертвая земля.
Пронзительный шорох беззвучно уходящего времени, звук ностальгии – вот главная нота газдановской прозы.
У прозрачной стены. (1931. «Портрет»; 1935. «Город Эн» Л. Добычина)
А. Введенский. 1931
- Лежит в столовой на столе
- Труп мира в виде крем-брюле.
- Кругом воняет разложеньем.
- Иные дураки сидят
- Тут занимаясь умноженьем.
- Другие принимают яд. <…>
- Движенье, теплота и гордость
- Потеряли твердость.
«Ты читал книгу “Чехов”? – краснея, наконец, спросила она». – «Я много читаю. Два раза уже прочел “Достоевского” Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного». – «Как демон из книги “М. Лермонтов” я был – один. Горько было мне это».
Имена в кавычках – не опечатка, а продуманная метафора, плодотворная эстетическая идея.
Настоящий писатель становится для последующих поколений читателей не реальным человеком, а знаком художественной системы, текстом, книгой, материализующейся в многотомном академическом собрании, монументальном однотомнике-кирпиче (всего «Пушкина» или «Гоголя» под одним переплетом любили издавать в сороковые годы, эта мода возвращается сегодня), россыпи «золотых», «классических», «школьных», «домашних» библиотек, с подверстанными к ней биографиями – от максимально достоверных, «научных», до откровенно скандальных, эпатажных – исследованиями, инсценировками, просто культурными пересудами.
Когда скрытые кавычки вокруг фамилии не появляются, имя так и не становится книгой. Тогда редкие переиздания сопровождаются извиняющимися предисловиями специалистов: да, не «Булгаков», но все-таки… «Булгаков для бедных».
Писателя как книгу придумал Л. Добычин в романе «Город Эн», герой которого – мальчишка-провинциал, неистовый книгочей, живущий в текстах с большей страстью, чем в собственном детстве и юности. Он не только сравнивает себя с демоном (тут он не очень оригинален), но и превращает изруганный гоголевский город в Эдем. «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов мерзавцы. Я посмеялся над этим» (гл. 20). – «Город был очень красив и как будто знаком мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький» (гл. 31).
А что можно прочесть в книге «Л. Добычин»? И есть ли такая книга?
Леонид Иванович Добычин (1894—1936) жил недолго, трудно и несчастливо. Родился в небольшой деревушке неподалеку от Резекне (земляк Ю. Тынянова), рос и учился в Двинске (который был Динанбургом, стал Даугавпилсом, из пределов Российской империи переместился в СССР, а потом в независимую Латвию), много лет тянул мелкочиновничью канцелярскую лямку в Брянске, издавался и с 1934 года пытался жить в Ленинграде, вскоре оказался одной из первых жертв борьбы с литературным формализмом.
После публикации знаменитой статьи «Сумбур вместо музыки» (28 января 1936 года) на собрании ленинградских писателей Добычин оказался одной из главных мишеней. «Профиль добычинской прозы – это профиль смерти», – объявит с трибуны Дома писателей Н. Берковский, в будущем – интеллигентный и тонкий историк литературы, тогда – бесшабашный и яростный рапповский критик.
После этого литературного суда Добычин отправит посылку с вещами матери в Брянск, оставит рукописи знакомому и 28 марта 1936 года исчезнет из своей коммуналки навсегда. Последние сведения о нем сохранились в донесении осведомителя НКВД: «револьвера у него нет и он попробует покончить с собой более примитивным образом».
Дальше – тишина, предположения и слухи, занимавшие лишь немногих ленинградских знакомых. Три маленькие книжки оказались прочно забыты почти на тридцать лет. В библиографии Добычина между отчетами о собрании тридцать шестого года («Формализм и натурализм – враги советской литературы») и маленькой заметкой в «Литературной энциклопедии» (1964) с неточно указанными датой и местом рождения нет ничего.
Да и позднее только В. Каверин упорно напоминал в мемуарах, что был такой писатель, и даже перепечатал полностью внутри своего текста два добычинских.
Практически все, написанное Добычиным, – шестнадцать рассказов сборника «Портрет» и роман «Город Эн» – вновь появилось в серии «Забытая книга» лишь в 1989 году. Потом было еще несколько архивных публикаций, увенчавшихся подготовленным В. С. Бахтиным «Полным собранием сочинений и писем» (СПб: Журнал «Звезда», 1999).
Рецензий только на это издание собралось около полутора десятков, больше чем всех прижизненных отзывов. Добычинскую прозу теперь можно прочесть и на английском, французском, немецком, итальянском. В Даугавпилсе, на зарубежной родине писателя, с 1991 года регулярно проводятся «Добычинские чтения». Из этих материалов можно составить увесистый том.
Книга «Л. Добычин» сложилась, состоялась.
Каждый из нас в конце концов попадет на какую-то полочку, любил говорить не то Толстой, не то Лесков. Добычин в конце концов оказался на полке настоящих писателей (так называлось предисловие Вик. Ерофеева в серии «Забытая книга») в полку второй прозы (так называлась посвященная его столетию конференция, проведенная в Москве; ее материалы изданы в Италии).
Однако его место на этой полке и в этом полку – предмет оживленных дискуссий.
Критики-современники после выхода «Портрета» увидели в нем «позорную книгу» (О. Резник). «16 рассказов этой книги представляют, собственно говоря, разговоры ни о чем. Купола, попы, дьяконы, церковная благодать, изуверство, увечные герои и утопленники наводняют книгу. Рядом с ними, под их влиятельным шефством, пребывают “идеи” и люди. Конечно же, речь идет об обывателях, мещанах, остатках и объедках мелкобуржуазного мира, но по Добычину мир заполнен исключительно зловонием, копотью и смрадом, составляющими печать эпохи…» (анонимный отзыв из бюллетеня «Книга – строителям социализма»).
Современные двинские краеведы находят в «Городе Эн» энциклопедию провинциальной жизни начала века: реальные имена, конкретные адреса, точные даты. Добычина уже включали в контекст кинематографа, примитива, детской темы, экзистенциализма и атеизма («Проводник атеизма» – тема доклада и статьи священника-старовера Даугавпилса).
Попытки перейти от темы к тексту и более четко описать поэтику добычинской прозы ведут к парадоксу, согласно отмеченному разделенными во времени и пространстве квалифицированными читателями-исследователями: легче всего определить, чего в этой прозе нет (ср.: «разговоры ни о чем»).
«Первое, что замечаешь при чтении добычинских рассказов, – это отсутствие действия. И еще: его истории не поддаются пересказу. Отсутствует какая-либо (видимая) цепь, состоящая из “почему”, “каким образом” и “к чему”» (Э. Маркштейн).
«Персонажи существуют как бы вне сюжета, они с легкостью могут сойти один за другого, поскольку изначально не скрепляют собой художественное пространство, которое, проявляясь почти мистично, оказывается совершенно неуправляемым, бесконтрольным» (И. Мазилкина).
«Как уже было отмечено, герои во многом уподоблены друг другу. Так, например, почти единообразны их портреты, где набор деталей существует как бы независимо друг от друга и от целого. Причем детали, даже самые мелкие, живут, как и многое в художественном мире рассказа, по закону анонимности, дополненному еще и принципом своеобразной автономии» (А. Неминущий).
«Такое повествование может длиться бесконечно, увязая во все новых и новых подробностях» (Вик. Ерофеев).
«Принцип “отсутствия автора” доведен в произведениях Добычина до предела. Это тот антипсихологизм, который как бы превращает писателя в простого регистратора фактов. Жизнь начинает говорить сама за себя – автор превращается в человека-невидимку» (В. Каверин).
Наконец, итоговое ошарашивающее суждение: «Модель мира в романе Добычина есть гротескный каталог фактов <…>, где опущены фабула, образы, оценочная система…» (Д. Угрешич).
Понятая таким образом добычинская проза становится похожа на персонажа, описанного Д. Хармсом в «Голубой тетради № 10»: «Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно».
У Добычина, оказывается, отсутствуют практически все элементы «нормальной прозы»: действия, сюжета нет; персонажи тавтологичны, анонимны, автономны и антипсихологичны; пространство бесконтрольно, неуправляемо, заполнено случайными подробностями; и сам автор превратился в человека-невидимку.
«Ничего у него не было! Так что непонятно, о ком идет речь».
В поисках ответа на вопрос, что же в этой прозе все-таки есть, поищем на книжных полках что-то похожее на добычинскую прозу, хотя бы по контрасту: как точку писательского самоопределения и отталкивания.
Многовалентность, разнообразные параллели с предшественниками и современниками – непременное свойство всякого классика, в том числе и странного классика «второй прозы».
В связи с Л. Добычиным уже припоминали Бальзака, Андрея Белого, Джойса, Достоевского, Гоголя, Вагинова, Пруста, Салтыкова-Щедрина, Ф. Сологуба, Толстого, Тынянова, Флобера, А. Франса, и еще полдюжины авторов.
Но главной для понимания добычинской прозы оказывается книга «Чехов».
«Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. – Это, – пожимая плечами, сказал я, – который телеграфистов продергивает?
Он принес мне в училище “Степь”, и я тут же раскрыл ее, я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал» («Город Эн», гл. 32).
Чеховский мир (как и гоголевский) – область притяжения для героя романа. Чеховская поэтика – точка отталкивания для Добычина-рассказчика.
Современники Чехова, как известно, часто упрекали писателя за случайность тем и деталей, отсутствие последовательно рассказанной истории (фабулы) и четко обозначенной авторской позиции.
Живое читательское чувство такого рода хорошо передала позднее В. Вульф, включив его, однако, в иной ценностный контекст, поменяв плюс на минус. «Ощущение не простоты, а замешательства – вот наше первое впечатление от Чехова. О чем это и почему он сделал из этого рассказ? – спрашиваем мы, читая рассказ за рассказом… Рассказ кончается. Но конец ли это, скажем мы? У нас, скорее, чувство, будто мы проскочили сигнал остановки, или как если бы мелодия вдруг резко оборвалась без ожидаемых нами заключительных аккордов. Эти рассказы не завершены, скажем мы, и будем анализировать их, исходя их представления, что рассказ должен быть завершен так, как мы привыкли… Нужно долго ломать себе голову, чтобы обнаружить смысл этих странных рассказов» («Русская точка зрения», 1925).
Теоретическим выходом из читательского замешательства были концепция случайностности чеховского предметного мира, мысль о бесфабульности действия, несостоявшемся событии как основе сюжета, обоснование рассказа как русского, чеховского жанра, противопоставленного европейской новелле.
Таким представал Чехов при взгляде назад – в сопоставлении с его предшественниками и современниками. Взгляд вперед, на добычинские тексты, существенно меняет картину.
Окончив рассказ «Савкина», Добычин предупредит М. Слонимского, одного из редких своих адресатов и сочувствователей: «Савкину я пошлю вам двенадцатого. Заглавия у нее нет, а Захватывающей Фабулы еще меньше, чем в Ерыгине и в истории о Кукине, которая была напечатана в Современнике» (2 мая 1925 года).