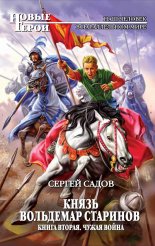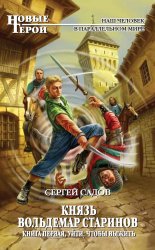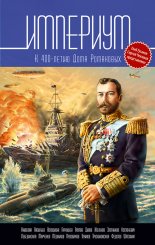Сивилла Шрайбер Флора
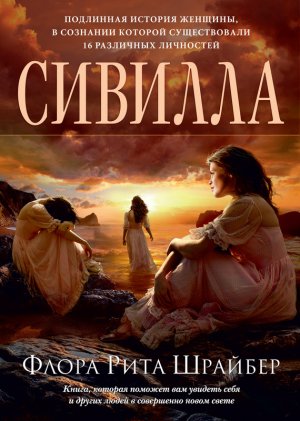
Уиллард Дорсетт не знал, что это не белые башмачки заставляли Сивиллу кричать. Он не знал, что в доме Дорсеттов крючок для застегивания ботинок используется не по назначению. Скрытые от Уилларда, скрытые от всего мира за задернутыми шторами, эти садистские пытки оставались никому не известными.
Эти пытки, конечно, никак не были связаны с поступками Сивиллы. Когда Хэтти Дорсетт действительно хотела наказать за что-то дочь, для этого существовали иные средства. Например, Хэтти шлепала дочь и бросала ее наземь. Или же швыряла Сивиллу через всю комнату (причем однажды сделала это с такой яростью, что ребенок вывихнул плечо). Или могла нанести Сивилле удар по шее ребром ладони, и однажды удар оказался таким сильным, что повредил гортань Сивиллы.
Горячий утюг, поставленный на ладонь ребенка, вызвал серьезный ожог. Шпилька вворачивалась в пальцы Сивиллы. Дверца шкафа прихлопывала руку Сивиллы. Фиолетовый шарф затягивался вокруг шеи Сивиллы, пока та не начинала задыхаться. Тот же шарф затягивал ее запястья до тех пор, пока рука не синела и не начинала неметь. «С твоей кровью что-то не в порядке, — объявляла Хэтти. — Так она станет лучше».
Сивилла сидела, привязанная кухонными полотенцами к витой ножке пианино, пока ее мать играла Баха, Бетховена, Шопена. Привязывание это иногда совершалось без всякой преамбулы в виде каких-то других пыток. Но иногда Хэтти заполняла кишечник или мочевой пузырь ребенка холодной водой. Пользуясь педалью, Хэтти извлекала из инструмента максимально громкий звук. Вибрация в голове и реверберация в переполненном мочевом пузыре или кишечнике доставляли физические и эмоциональные страдания. Не в силах выдержать это, Сивилла почти всегда давала возможность появиться одному из других своих «я».
Лицо и особенно глаза Сивиллы завязывались полотенцем, и эта игра «в слепого» служила наказанием за то, что девочка осмелилась задать какой-то вопрос, на который мать отвечала: «Это ясно всякому, кроме слепого. А что такое быть слепым, я тебе покажу». Результатом стало то, что Сивилла боялась слепоты, а позже, когда у нее начали появляться расстройства зрения, она была этим страшно перепугана.
Бывало, Хэтти показывала Сивилле, что такое быть мертвым: засовывала девочку в сундук на чердаке и закрывала крышку или заталкивала в горло Сивиллы мокрую тряпку и вкладывала в ноздри вату — пока ребенок не терял сознания. Когда Хэтти пригрозила Сивилле, что сунет ее руки в мясорубку и перемелет ей пальцы, Сивилла опасалась, что это вполне реальная угроза. Ее мать грозила ей многим и позже реализовывала свои угрозы.
Случалось однако, что мишенью овладевавшего Хэтти безумия становилась не Сивилла, а фарфор, белье, пианино или книги. В такие моменты Хэтти Дорсетт, которая до того, как Сивилла начала ходить в школу, проводила с ней практически двадцать четыре часа в сутки, не осознавала присутствия ребенка. Полностью погруженная в себя и явно фиксировавшая свои фантазии на покойном отце, Хэтти часами сидела, поглаживая и нюхая стеганую домашнюю куртку, принадлежавшую ему когда-то. Остальное время она держала куртку запертой в каком-то ящике.
Иногда она бралась мыть и протирать хэвилендский фарфор, которым практически не пользовались, так что он не нуждался ни в мытье, ни в протирании. Она многократно разбирала и вновь складывала белье. Она садилась за прекрасно орнаментированное пианино фирмы «Смит и Барнс», стоявшее слева от окна в довольно темном углу гостиной, и часами играла Шопена и Бетховена. Она заводила фонограф и ставила пластинки, причем все они непременно проигрывались от начала до конца. Было бы ересью и нарушением всех ее законов пытаться, к примеру, прослушать четвертую часть симфонии без прослушивания первых трех.
Хэтти любила также расхаживать по комнатам, читая наизусть отрывки из «Евангелины», «Деревенского кузнеца», «Айвенго» и других поэм и романов. Какая-нибудь строчка или фраза могла насмешить ее, и тогда она начинала хохотать. Сивилла спрашивала, что в этом забавного, но Хэтти продолжала цитирование, предназначенное лишь для нее самой, и ни для кого больше.
Если Сивилла спрашивала, например: «Мама, а какие пуговички пришить кукле на платье?», то Хэтти могла ответить: «Мои хэвилендские тарелки точно такие же, как у мамы. В один прекрасный день я получу и мамины, поскольку они подходят к моим. Я просто обожаю узор на этих тарелках».
Стены этой домашней тюрьмы начали сдвигаться в годы младенчества Сивиллы. Одиннадцатимесячная Сивилла, пристегнутая к высокому стульчику в кухне, играла с резиновым котенком и резиновым цыпленком. Пока Хэтти развлекалась игрой на пианино в гостиной, Сивилла уронила вначале котенка, а потом и цыпленка. Когда обе игрушки упали на пол, Сивилла начала вертеться, чтобы высвободиться и достать их. Не добившись успеха, она заплакала. Однако Хэтти продолжала играть и петь, отказавшись развязать «кандалы» младенца. Чем громче был плач, тем громче играл тюремщик, чтобы заглушить посторонние звуки.
Когда узница высокого стульчика подросла и научилась ползать, она впервые сумела отомстить матери. Однажды утром, играя на покрытом пестрым линолеумом полу террасы, Сивилла увидела, как Хэтти вышла из дома и направилась в магазин. Тогда Сивилла добралась до гостиной и до пианино и разбросала по всей комнате ноты, принадлежавшие Хэтти. Вернувшись и обнаружив, что Сивилла спокойно сидит на террасе, Хэтти так и не сумела обнаружить связь между Сивиллой и разбросанными нотами.
У девочки были и другие средства защиты. Когда мать сбила с ног учившуюся ходить Сивиллу, та отказалась учиться; она садилась на пол и передвигалась, отталкиваясь руками. Очень рано — в десять месяцев — произнеся свою первую фразу: «Папа, закрой дверь амбара», Сивилла очень поздно — только в два с половиной года — стала ходить.
В эти первые годы жизни сопротивляться матери было легче, поскольку даже в тюрьме были друзья. Не мать, а бабушка ухаживала за Сивиллой в течение первых шести недель ее жизни: Хэтти, страдавшая от послеродовой депрессии, не могла заботиться о ребенке. Бабушка Дорсетт помогала Уилларду ухаживать за Сивиллой и позже, когда девочка заболела воспалением среднего уха. Хэтти, которая слышать не могла детского плача, наотрез отказалась выполнить материнский долг. Ухо «прорвало», когда ребенок лежал на плече Уилларда и больное ухо было направлено в сторону горячей печки. Бабушка опять ушла со сцены, на которую вновь вышла мать, а ребенок связал избавление от боли со своим отцом.
Когда Сивилле было два с половиной года, любовь вернулась в образе Присциллы, служанки, которая позже ухаживала за девочкой, в то время как Хэтти посвящала свое время бабушке Дорсетт, перенесшей удар. Больше Присциллы Сивилла любила только бабушку. Как-то раз Сивилла сказала Присцилле: «Я люблю тебя». Хэтти, которая услышала эти слова, сказала: «Ну, маму ты ведь тоже любишь, верно?»
Повернувшись к Хэтти, которая стояла, протирая какое-то изделие из хэвилендского фарфора, Сивилла обвила руками ее шею и ответила: «Да». Хэтти оттолкнула Сивиллу и произнесла: «О, ты слишком большая, чтобы так делать».
Заметив, что миссис Дорсетт поступила с ребенком «круто», Присцилла раскрыла Сивилле свои объятия. Сивилла подбежала к ней и схватила Присциллу за руку. Присцилла сказала, что Сивилла могла бы помогать ей, что Сивилла умеет вытирать пыль и что полдник они могли бы готовить вместе. У Сивиллы была Присцилла, и она чувствовала, что мать ей не нужна.
Когда Сивилла стала старше, этим интерлюдиям с бабушкой и Присциллой пришел конец и мать твердо взяла власть в свои руки. Сцена для постоянных репрессий была обставлена, а Сивилла получила указания никому ничего не рассказывать, не плакать, если не хочет быть наказанной, и держать все при себе. Сивилла научилась не отбиваться, поскольку, отбиваясь, она навлекала на себя дальнейшие репрессии.
И тем не менее в ней сохранился интерес к новым впечатлениям, к творчеству, к созиданию. Часто это творчество, как в случае с изображением цыплят с красными лапами и зелеными хвостами, тоже приводило к столкновениям между матерью и ребенком.
Как-то раз, когда Сивилле было четыре года, она наклеила вырезанную из журнала картинку на фольгу и украсила ее красной рождественской мишурой. Довольная сделанным, она побежала в кухню, чтобы показать свое произведение матери.
— Мне кажется, я велела тебе не бегать по дому, — сказала Хэтти, ставя сковородку на конфорку.
— Извини, — сказала Сивилла.
— Вот так-то лучше, — заметила Хэтти.
— Посмотри, мама! — Сивилла с гордостью протянула ей дело своих рук.
— У меня нет сейчас времени на это. Я занята. Ты что, не видишь, что я занята?
— Смотри, что я сделала. Это украшение для нашей рождественской елки.
— Да это всего лишь картинка из журнала и немножко фольги, — фыркнула Хэтти.
— Мне кажется, оно красивое, — сказала Сивилла, — и я собираюсь повесить его на елку.
— Я занята, — повторила Хэтти.
Тогда Сивилла повесила сделанное ею украшение на елку, стоявшую возле пианино в углу гостиной. Она посмотрела на то, к чему ее мать отнеслась с пренебрежением, и вновь испытала гордость за сделанное.
— Мама, сходи погляди, — позвала она, вернувшись в кухню.
— У меня нет времени.
— Ну сходи.
Внезапно Хэтти бросила свое занятие и, уставившись на Сивиллу, спросила:
— Не вздумала ли ты повесить это на елку после того, что я сказала?
Сивилле отчаянно хотелось снять украшение с елки до того, как мать увидит его. Но мать уже взывала от елки:
— Иди сюда сию же минуту и сними эту дрянь.
Сивилла стояла неподвижно.
— Ты меня слышишь? — Хэтти стояла возле самой елки.
— Я скоро сниму его, — пообещала Сивилла.
— Не смей мне говорить «скоро», — проскрежетала Хэтти.
Сивилла оказалась в западне. Если она послушается, ей придется подойти к елке, где стоит Хэтти, готовая ударить ее. Если Сивилла не послушается, ее накажут за непослушание. Решившись на первое, Сивилла быстро сдернула с елки украшение и, сделав обманное движение, рванулась к двери. Хэтти устремилась за дочерью. Сивилла бежала быстрее. Вопли матери «не смей бегать по дому!» звенели по всем углам. Сивилла не знала, продолжать ли ей бежать или остановиться. Если она остановится, мать побьет ее за рождественское украшение. Если она будет бежать, мать побьет ее за то, что она бегала. Ловушка захлопнулась.
Остановившись, Сивилла получила быстрый резкий удар по правой щеке.
В общем, были плохие дни, но были и дни хорошие, например тот, когда в гости приехали Флуды. Когда Флуды — Пирл, Рут, Элвин и их мать — уезжали на своих санях, Сивилла махала им рукой на прощанье, стоя на крыльце. Сани исчезли из виду, и Сивилла, повернувшись, пошла в дом. Сегодня днем она была счастлива, играя на полу террасы с Рут и Пирл, которые были старше ее. Ей было всего три с половиной года, но они играли с ней и научили ее многим вещам. Пирл научила куклу Сивиллы Бетти Лу ходить.
Продолжая держать Бетти Лу в руках, Сивилла вошла на террасу. Вслед за ней явилась Хэтти и сказала:
— Положи куда-нибудь куклу. Я хочу снять с тебя свитер.
Но Сивилла не хотела класть куклу. Сегодня выдался чудесный денек, и она многому научилась. Она узнала, как сделать, чтобы Бетти Лу ходила.
— Я хочу тебе показать, как ходит Бетти Лу, — сказала Сивилла матери.
— У меня нет времени, — взорвалась Хэтти. — Я должна приготовить ужин для папы. Давай сию минуту клади куклу. Мне нужно снять с тебя свитер.
Пока мать снимала с нее свитер, Сивилла бормотала:
— Мне нравится Пирл. Она веселая.
Сивилла увязалась за матерью в кухню, все еще пытаясь поделиться событиями прошедшего дня. Мать начала готовить ужин. Пока она доставала из буфета какие-то кастрюльки и сковородки, голубой свитер, небрежно наброшенный на крючок, свалился на пол.
— Не успеешь от тебя отвернуться, сразу что-то происходит, — сказала мать. — Зачем ты уронила свитер? Почему ты не ведешь себя как следует? Почему ты обязательно должна быть плохой, плохой, плохой девочкой?
Мать подняла свитер и повертела его в руках, внимательно исследуя.
— Он грязный, — объявила наконец она тоном врача, ставящего серьезный диагноз. — Мать вечно должна тебя обстирывать. Ты грязнуля.
Сивилла почувствовала, как костяшки пальцев матери вновь и вновь сильно ударяют ее по голове. Потом мать толкнула ее в небольшое красное кресло. Это было то кресло, в котором она сидела, когда бабушка спустилась вниз, чтобы поговорить с ними, а мать сказала: «Бабушка, не садись, пожалуйста, рядом с Сивиллой. Она наказана». И бабушка не села рядом.
Маленькое красное кресло стояло перед напольными часами. Сивилла еще не умела определять время, но видела, где находятся большая и маленькая стрелки. Как раз сейчас большая стрелка была на цифре двенадцать, а маленькая на цифре пять.
— Сейчас ровно пять часов, — сказала мать.
«Такой был чудесный день, — думала Сивилла, сидя в маленьком красном кресле и не смея двигаться, — а ей обязательно нужно было прийти и все испортить. Мне было так интересно, только жаль, что Элвин не мог играть на полу с девочками и со мной, потому что мы играли в куклы, а он — мальчик. Он был отдельно от всех. Ужасно быть отдельно от всех».
Мать была так добра к Флудам. Она дала им очень много всего: еду для миссис Флуд, рукавички для Пирл, рейтузы для Элвина. Мать подарила им две игры, в которые Сивилла ни разу не играла, даже и не пробовала играть. Это было ничего, потому что ей нравились Флуды.
Сивилла взглянула на часы. Теперь маленькая стрелка стояла на цифре шесть. Она сообщила об этом матери.
— Я тебя не спрашивала, — резко ответила мать. — За это ты просидишь еще пять минут, грязная девчонка. Ты испачкала свитер, и рот у тебя грязный.
— А что я такого сделала? — спросила Сивилла.
— Ты прекрасно знаешь, что ты сделала, — ответила мать. — Мне приходится наказывать тебя, чтобы исправить.
Сивилле не хотелось думать о себе, сидя в маленьком красном кресле и глядя на часы. Но она часто думала о себе. Всякий раз, когда такое случалось, ей удавалось как-то отвлечься.
— И почему ты обязательно всегда должна быть плохой, плохой, плохой девчонкой? — спросила мать.
Это «ты» смутило Сивиллу. Слово «плохая» заставило ее удивиться. Она не считала, что сделала в этот день что-нибудь плохое.
Сивилла никому не рассказала про этот день с голубым свитером, но воспоминания о нем, засевшие у нее в горле, всегда заставляли горло болеть.
Никому не рассказывала Сивилла и про стеклянные разноцветные бусы, которые висели на нитке, как радуга. Эти бусы, сделанные в Голландии и очень старые, подарила Хэтти ее мать. Хэтти отдала их Сивилле, которой очень нравилось перебирать их, засовывать в рот и лизать. Как-то раз, когда она занималась этим, нитка лопнула и бусины раскатились по ковру гостиной. Сивилла, которой тогда было три года, старалась поскорее собрать их, пока не заметила мать. Но не успела Сивилла подобрать все бусины, как Хэтти схватила ее за шиворот и засунула одну из бусин ей в нос. Сивилла думала, что задохнется. Хэтти попыталась вынуть бусину, но та застряла. Хэтти перепугалась.
— Ну-ка пойдем к доктору Куинонесу, — сказала она.
Доктор Куинонес извлек бусину. Когда мать с дочерью уже собирались уходить, доктор спросил:
— Миссис Дорсетт, как попала туда эта бусина?
— Ой, вы же знаете, какими бывают дети, — ответила Хэтти Дорсетт. — Они без конца суют себе что-нибудь в нос или в ухо.
Вечером Хэтти рассказала Уилларду о том, как беспечно поступила Сивилла с этой бусиной.
— Мы должны научить ее быть более осторожной, — сказала мать отцу. — Научить ее… обвинить ее… упросить ее… дотащить ее… снова и снова… и стихи готовы.
Уиллард согласился с тем, что следует научить дочь быть более осторожной. Сивилла, ничего не сказавшая доктору Куинонесу, ничего не сказала и отцу.
Другой инцидент, воспоминания о котором Сивилла оставила при себе, произошел в хранилище для пшеницы в один из дождливых дней, когда ей было четыре с половиной года. Хэтти отвела туда Сивиллу поиграть.
Когда Сивилла вместе с матерью взобралась по приставной лестнице из столярной мастерской Уилларда в хранилище, находившееся наверху, Хэтти сказала: «Я люблю тебя, Пегги». Потом мать сунула девочку в зерно и ушла, уперев лестницу в потолок.
Тонущая в зерне Сивилла чувствовала, что задыхается, и уже решила, что сейчас умрет. Некоторое время она вообще ничего не чувствовала.
— Ты здесь, Сивилла?
Она узнала голос отца. Потом Уиллард очутился рядом с ней в хранилище. Он наклонился, осторожно поднял и отнес вниз, в мастерскую, где их поджидала мать.
— Как Сивилла сумела забраться в хранилище? — спросил Уиллард жену. — Она могла захлебнуться в зерне.
— Должно быть, это сделал Флойд, — сымпровизировала Хэтти. — Он такой безобразник. Этот город стал бы чище без него. И церковь обошлась бы без него. Нужно будет избавиться от этого хулигана.
Уиллард пошел поговорить с Флойдом, а Сивилла и Хэтти вернулись в дом. Когда Уиллард вернулся, он сказал дочери и жене, что Флойд заявил: «Нет, я этого не делал. За кого вы меня принимаете?»
— Флойд лгун, — презрительно объявила ее мать.
Уиллард, не зная, кому верить, стал расспрашивать Сивиллу о том, как она попала в зернохранилище. Сивилла, перехватив взгляд матери, помалкивала.
— Мне не хочется, чтобы ты опять попала туда, — объяснил Уиллард дочери. — Хорошо, что из-за дождя я вернулся домой раньше. Хорошо, что я заглянул в мастерскую. Мне показалось, что лестница стоит как-то не так, и я поднялся наверх посмотреть, что там происходит.
Как Сивилла не рассказывала про крючок для застегивания башмаков и про бусы, так она не рассказала и про зернохранилище.
Ничего не рассказала Сивилла и в тот вечер, когда ей было всего два года и отец спросил: «Откуда у тебя синяк под глазом?» Сивилла отказалась говорить. Она не сказала отцу, что мать пнула ногой кубики, с которыми она играла, ударила ребенка в глаз и своими жесткими костяшками ткнула в рот, где как раз рос новый зуб.
Таковы были события, в своей совокупности формирующие бесконечную цепь издевательств, на которых строилась пыточная камера детства Сивиллы. Воспоминания о них вернулись и терзали Сивиллу в тот день, который так счастливо начался мечтами в аптеке.
Однако пробуждавшиеся воспоминания о пытках иногда можно было на время оставить. Поступив в первый класс, Сивилла полюбила школу, завела там друзей, и через несколько дней после возвращения в Уиллоу-Корнерс ее мать по окончании занятий отправилась с визитом в дом ее одноклассницы и подруги Лори Томпсон.
Мать Лори, открытая, добродушная женщина, встретила Лори и Сивиллу, как только они вошли в дом. Крепко обняв Лори и приветливо улыбнувшись Сивилле, миссис Томпсон провела детей в кухню. Там их ждали молоко и свежеиспеченный яблочный пирог.
В доме Томпсонов все было таким мирным и спокойным. Но семилетняя Сивилла была уверена, что, как только она уйдет, миссис Томпсон начнет творить с Лори ужасные вещи, которые творят все матери.
Предположение, что ее образ жизни является нормой, не улучшало ее положения и не уменьшало той бессильной, не находящей выражения ярости, которая пряталась в Сивилле с младенчества. Ярость вспыхивала, когда вместо материнской груди появлялся ненавистный жесткий резиновый наконечник клизмы и когда тюремщик игнорировал крики одиннадцатимесячной узницы, прикованной к креслу. Однако самая страшная ярость, накапливающаяся, но подавляемая, рождалась вместе с растущим пониманием того, что выхода, исхода из этой камеры пыток нет. Чем интенсивней становилась эта ярость, тем сильнее она подавлялась. Чем сильнее она подавлялась, тем сильнее становилось чувство собственного бессилия; чем сильнее было чувство бессилия, тем больше была ярость. Это был бесконечный цикл накапливания безысходного гнева.
Мать терзала и пугала Сивиллу, а Сивилла ничего не могла поделать. И что, наверное, еще хуже, Сивилла не осмеливалась позволить кому-нибудь другому сделать что-нибудь.
Сивилла любила свою бабушку, но та не вмешалась, когда мать сказала: «Бабушка, не садись рядом с Сивиллой. Она наказана». Бабушка не вмешалась, когда мать толкнула Сивиллу, спускавшуюся по лестнице. Бабушка спросила, что случилось, и мать ответила: «Ты же знаешь, какие дети неуклюжие. Она споткнулась на лестнице». Гнев, который Сивилла испытывала по отношению к бабушке, был сдержанным.
Отец тоже не вмешивался. Неужели он не понимал, что означают крючок для застегивания башмаков, вывихнутое плечо, поврежденная гортань, обожженная рука, бусина в носу, зернохранилище, синяки под глазами, распухшие губы? Нет, ее отец отказывался понимать все это.
Когда Сивилла плакала или когда шторы были подняты, мать всегда говорила: «А что, если кто-нибудь придет?» Поэтому подавляемый гнев распространялся и на соседей, которые никогда не приходили. На дедушку Дорсетта, который жил наверху и, казалось, понятия не имел о том, что происходило внизу. На доктора Куинонеса, который вновь и вновь отмечал, что у ребенка Дорсеттов случаются травмы, но не пытался выяснить причину этого явления. А позже Сивилла подавляла гнев на учителей, которые время от времени интересовались, все ли у нее в порядке, но не пытались ничего выяснить по-настоящему. Сивилла особенно любила Марту Брехт, учительницу седьмого класса, с которой можно было поговорить. Но и в этой учительнице Сивилла разочаровалась, так как та хотя, видимо, и сознавала, что мать у Сивиллы странная, а может быть, даже безумная, но тоже не вмешивалась. Эта сага имела свое продолжение в колледже, где даже мисс Апдайк, которая вроде бы многое понимала, приложила руку к тому, что Сивиллу отослали в дом пыток.
Разочарованная теми, кто не приходил спасти ее, Сивилла вместе с тем никогда не обвиняла исполнителя пыток. Виноваты были крючок для застегивания ботинок, наконечник клизмы и другие орудия пыток. Палач же, благодаря своему статусу матери, которую следовало не только беспрекословно слушаться, но также любить и почитать, был не виноват. Почти два десятилетия спустя, когда Хэтти, лежавшая на смертном одре в Канзас-Сити, заметила: «Мне, конечно, не стоило быть с тобой такой раздражительной, когда ты была ребенком», — Сивилле показалось грешным даже вспоминать об этой эвфемистической «раздражительности».
Чувства Сивиллы к матери всегда осложнялись тем, что поведение Хэтти было парадоксальным. Та же мать, которая терзала, оскорбляла и пытала свою дочь, могла любовно вырезать яркие картинки из журналов и приклеивать их к нижней части дверцы буфета, чтобы Сивилле было удобно разглядывать их. За завтраком та же мать могла положить на дно тарелки с кашей «сюрприз» — курагу, инжир, финик — лакомства, которые девочка особенно любила. Чтобы поощрить к еде Сивиллу, у которой был плохой аппетит, мать затевала игру: предлагала Сивилле угадать, что находится на дне тарелки, а потом съесть все дочиста и выяснить, правильно ли она угадала. Хэтти позаботилась о том, чтобы купить ребенку тарелки, украшенные картинками, столовый прибор, на котором были выгравированы инициалы Сивиллы, и стул, более высокий, чем остальные стулья. В доме было полным-полно игрушек и сколько угодно хорошей еды, за которую, как говорила Хэтти, голодающие дети Китая отдали бы все, что имеют.
Когда Сивилла, которой тогда было четыре года, набралась смелости ответить: «Если хочешь, можешь послать им еду», Хэтти напомнила дочери: «Ты должна быть благодарна за столь многое: прекрасный дом, оба родителя, — (это назойливо повторяемое „оба“ неизменно раздражало Сивиллу), — и тебе уделяют больше внимания, чем любому другому ребенку в городе».
Вновь и вновь, и в детском, и в подростковом возрасте Сивилла выслушивала бесконечные вариации на тему «Ты должна быть благодарна за столь многое» с последующим: «Ты не ценишь ничего, что я для тебя делаю; ты даже не можешь улыбнуться за столом в знак благодарности». Сивилла в таких случаях должна была говорить: «Ты лучшая в мире мать, и я постараюсь исправиться».
Эта «лучшая в мире мать» говорила: «Когда ты опаздываешь из школы, я так беспокоюсь, вдруг тебя убили». Эта «лучшая мать» не разрешала Сивилле плавать, ездить на велосипеде, кататься на коньках. «Если ты поедешь на велосипеде, я буду представлять, что ты лежишь на мостовой, залитая кровью. Если ты пойдешь кататься на коньках, то можешь провалиться под лед и утонуть».
Хэтти Дорсетт сформулировала строгие правила, касающиеся образцового воспитания детей. Нельзя бить ребенка, провозглашала она, если можно избежать этого, и ни при каких обстоятельствах нельзя бить ребенка по лицу или по голове. Хэтти, виртуозно отрицавшая реальность, деформируя ее так, чтобы она вписывалась в ее фантазии, утверждала это вполне убежденно. Именно фокусы, вытворяемые ее психикой, позволяли ей отделять то, что происходило на самом деле, от того, что она воображала. Отделять действие от его идеального представления.
Хэтти любила наряжать дочку и показывать ее знакомым. Стремясь продемонстрировать необычайно рано развивающиеся способности девочки, мать приглашала ее читать гостям книжки и декламировать стихи. Если Сивилла делала ошибку, Хэтти воспринимала это как личную неудачу. Сивилла думала: «Как будто ошиблась мать, а не я».
«Дорогая моя Сивилла, — написала мать в памятном альбоме, посвященном окончанию начальной школы, — живи ради тех, кто любит тебя, ради тех, кто воистину знает тебя. Ради небес, которые улыбаются тебе, ради добра, которое ты можешь сотворить. Твоя любящая мама».
Однако любящая мама в жизни Сивиллы не была похожа на ту женщину, которая организовывала конструктивные игры с тарелкой каши, опасалась, что девочка утонет, и демонстрировала ее способности знакомым. Любящая мать Сивиллы обитала в воображаемом мире, сотворенном Сивиллой, мире, в котором она находила спасение, недоступное ей в реальной жизни.
Любящая мать выдуманного мира жила в Монтане. В этом штате, в котором Сивилла никогда не была, но который представляла своей родиной, у нее было множество братьев и сестер, с которыми она играла.
Мать из Монтаны не прятала кукол Сивиллы в буфет, когда Сивилла хотела поиграть с ними. Не набивала Сивиллу до отказа пищей, извлекая ее потом с помощью клизм и слабительных. Мать из Монтаны не привязывала Сивиллу к ножке пианино, не била ее и не обжигала. Мать из Монтаны не говорила, что Сивилла странная и что только белокурые дети бывают хорошенькими. Мать из Монтаны не наказывала Сивиллу за слезы, не говорила ей, что нельзя никому верить, что нельзя слишком много учиться, что нельзя выходить замуж и сажать себе на шею кучу детей. Эта добрая мать из фантазий разрешала Сивилле плакать, когда была причина для слез, и не смеялась, когда не было причин для смеха.
В присутствии матери из Монтаны Сивилла могла играть на пианино все, что угодно. Эту мать не раздражал шум, и Сивилле не приходилось пытаться бесшумно высморкаться или прокашляться. При матери из Монтаны Сивилле разрешалось чихать.
Мать из Монтаны не говорила: «Ты никогда не вырастешь хорошей девочкой, если с малых лет плохая», не доводила Сивиллу до головных болей своими несправедливыми поступками. Мать из Монтаны никогда не говорила: «Никто тебя не любит, кроме матери», доказывая эту любовь причинением боли. Место, где жила эта мать, было не просто зданием; это был в полном смысле слова дом, где Сивилла могла трогать все, что угодно, и не должна была каждый раз после мытья рук дочиста отскребать раковину. Здесь Сивилле не нужно было постоянно искать какие-то подходы к матери, пытаться изменить ее, пытаться завоевать если не ее любовь, то хотя бы благосклонность. Мать из Монтаны была теплой и любящей, всегда целовала Сивиллу, обнимала ее. С ней Сивилла чувствовала себя желанной.
В доме матери из Монтаны Сивилле никогда не говорили: «Твои подруги тебе не чета», утверждая одновременно: «Ты ничего не умеешь делать, ты ни на что не способна. Никогда тебе не стать такой, как мой отец. Мой отец был героем Гражданской войны, мэром города, одаренным музыкантом. Он был всем. Моя дочь и его внучка не должна быть такой, как ты. Господи, и зачем ты мне такая?»
16. Источник ярости Хэтти
Поведение Хэтти Дорсетт, как оно представлялось по материалам анализа дочери, выглядело для доктора Уилбур чисто шизофреническим. Более того, доктор была убеждена, что эта шизофреничная мать и являлась стержневым корнем, предопределившим диссоциацию Сивиллы на множество «я». Именно поэтому было существенно важно уяснить причины этой шизофрении и понять, что сделало Хэтти такой, какой она стала. В рассказах Сивиллы о ежегодных (до ее девятилетнего возраста) двухнедельных визитах в большой белый дом в Элдервилле, штат Иллинойс, где родилась и провела детские годы Хэтти Андерсон-Дорсетт, доктор смогла найти некоторые подсказки.
Просторный дом Андерсонов населяло семейство, в котором было тринадцать детей: четыре мальчика и девять девочек. Уинстон Андерсон, отец семейства, уважаемый в городе человек и домашний тиран, требовал от своего потомства не только общего послушания и повиновения, но и строго индивидуальных знаков внимания. Эйлин, мать семейства, вынужденная разрываться между множеством детей, не могла уделить достаточного времени ни одному из них. Детям явно не хватало заботы.
Хэтти, высокая стройная девушка с вьющимися рыжеватыми волосами и серо-голубыми глазами, у которой в табеле об окончании средней школы красовалось много оценок «отлично», которая писала стихи, способности которой высоко ценили учителя музыки, поддерживая ее мечту поступить в консерваторию и стать профессиональной пианисткой, потерпела крушение своих надежд, когда ей было двенадцать лет. В этом возрасте отец забрал ее из седьмого класса школы и поставил работать в своем музыкальном магазине. Ей пришлось заменить в магазине одну из старших сестер, которая вышла замуж и уехала. Никаких экономических причин для того, чтобы бросать учебу, никаких существенных аргументов, обосновывающих необходимость отказаться от мечты, не было.
«Самый сообразительный ребенок в классе. Одна из лучших учениц, каких я видела в жизни, — сказала учительница седьмого класса. — Просто преступление забирать ее из школы».
«Необычайный музыкальный талант, — сказала монахиня, обучавшая Хэтти игре на фортепиано. — Она пошла бы далеко, если бы ей дали такую возможность».
Однако такой возможности ей не дали, и обстоятельства, при которых ее лишили этой возможности, были живы в памяти Хэтти. Это произошло однажды вечером, когда Уинстон в своей утепленной домашней куртке сидел в своем особом кресле и курил свою особую сигару. «Завтра ты не пойдешь в школу, — объявил он Хэтти, сверля ее своими угольно-черными глазами. — Теперь ты будешь работать в магазине».
Никто никогда не спорил с отцом, и Хэтти даже не пыталась ему возразить. Она просто начала хохотать. Этот отвратительный хохот продолжал разноситься по всему дому даже после того, как она ушла в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Дождавшись, пока вся семья уснула, она прокралась в гостиную и, отыскав фиолетовую стеганую куртку отца в стенном шкафу, отрезала у нее рукава. Когда на следующий день начались допросы, она заявила о своей невиновности, вышла из дома и прошагала четыре квартала до музыкального магазина. Уинстон приобрел себе новую куртку, точно такую же, как старая.
В круг обязанностей Хэтти в магазине входила демонстрация пианино. Импровизируя музыку, то есть исполняя ее без нот, она улучшила маркетинговые показатели предприятия отца. Когда изредка в магазин являлся с жалобой покупатель, сумевший выявить в инструменте недостаток, Хэтти с невозмутимым видом возражала: «Я же играла при вас». Если в магазине никого не было, она просто играла и играла. По вторникам после работы она отправлялась в монастырь на очередной урок музыки.
Мечта Хэтти рухнула, а сама Хэтти заболела хореей, заболеванием, выражавшимся в тиках и подергиваниях. Имелись и невротические проявления. Невроз оказался столь жестоким, что члены семьи вынуждены были снимать обувь перед тем, как подниматься по лестнице, чтобы не расстраивать Хэтти. А тарелки на столе приходилось ставить на фланелевые салфетки, поскольку Хэтти не переносила их звона. Хотя эти уступки делались не всегда — как из-за отсутствия взаимной заботы, так и из-за низкого культурного уровня, — их все же старались делать регулярно в течение всего острого периода заболевания.
Мстя за утраченную мечту не открытым неповиновением или прямой конфронтацией, а мелким жульничеством и каверзами, Хэтти стала в семье enfante terrible[8]. Одна из ее постоянных шуток была связана с обязанностью пригонять коров с пастбища, находившегося на окраине Элдервилля. Волочась нога за ногу домой, она по пути заходила навестить подруг, заставляя коров и все семейство Андерсонов ждать ее.
Другая шутка была рассчитана конкретно на Уинстона, который руководил хором методистской церкви и поручил Хэтти раздувать мехи церковного органа. Как-то в воскресенье Хэтти сбежала из церкви перед последним гимном, оставив органные мехи бездыханными, а своего отца — посрамленным. Блестяще выглядевший в своем длиннополом сюртуке, Уинстон Андерсон вскинул дирижерскую палочку, и хор приготовился исполнять гимн. Его угольно-черные глаза метали молнии, когда выяснилось, что орган может издать лишь шипение.
Хэтти вновь удалось отомстить, когда ее отцу перевалило за пятьдесят и начали сказываться последствия ранения, полученного им на войне. Осколок, вошедший в плечо в годы Гражданской войны и своевременно не удаленный, послужил причиной нарушения кровообращения, отчего у отца стали опухать ноги, причем настолько сильно, что поднимать его приходилось вдвоем. Когда он стал попивать, чтобы облегчить боли, жена и дети так возмутились, что алкоголю не стало больше места в доме. Но если Уинстону все-таки удавалось раздобыть выпивку, семейство поручало Хэтти провести расследование. Обнаружив ряд бутылок на полках за пианино, доморощенный детектив с триумфом вопрошал: «А куда еще мог бы музыкант спрятать бутылку?» — радуясь тому, что удалось насолить отцу, насолившему в свое время ей.
Парадокс гнева Хэтти состоял в том, что при жизни отца и после его смерти она скрывала обиду на него, заменяя ее идеализацией, обожествлением и патологической привязанностью, что было очевидно, когда она ласкала его поношенную куртку.
Однако сквозь защитную броню гиперкомпенсирующей памяти время от времени кое-что проникало, и Хэтти иногда говорила, что в ее «неприятностях» виноват отец. Хотя она никогда не уточняла, в чем заключались эти «неприятности», все, кто знал ее, понимали, что у нее есть какая-то проблема. Эти «неприятности» кратко иллюстрировались фотографией из журнала «Макколл», которую Хэтти вырезала и сохранила вместе с другими памятками в своем обширном наборе альбомов. На фотографии красовалась привлекательная женщина, стоявшая возле ограды. Подпись гласила: «Нет, ее не особенно любили. Она это чувствовала».
Нелюбимая Хэтти Андерсон-Дорсетт была не способна любить. Не испытавшая заботливости, она сама стала незаботливой. Изолированная одиночка в большом семействе, позже она сделала изолированным своего единственного ребенка. Ее гнев — результат разрушенной мечты о музыкальной карьере — косвенно передался по наследству в следующее поколение, избрав своей мишенью Сивиллу.
Эмоциональное наследство, полученное Сивиллой от Уинстона Андерсона, умершего еще до ее рождения, но фигурировавшего в ее жизни в качестве мифологического персонажа, было, таким образом, трехслойным. Реципиентка подавленной ярости Хэтти по отношению к Уинстону, не способная соответствовать его идеализированному образу, Сивилла была одновременно жертвой поклонения отцу Хэтти и подавленного конфликта, возникавшего из-за одновременной идеализации и порицания отца со стороны Хэтти. Именно этим конфликтом объясняются поучения Хэтти относительно того, что мужчины ничего не стоят.
Другие компоненты семейного синдрома Андерсонов тоже носили инструментальный характер; отношения Уинстон — Хэтти были частным случаем более общего семейного невроза.
Эйлин, мать, о которой Хэтти говорила как о «чудесной, прекрасной женщине», не демонстрировала каких-то конкретных эмоциональных проблем, за исключением, возможно, пассивности, с которой она позволяла мужу тиранить семью. Однако проблема эта должна была вызвать эмоциональные проблемы у всех ее сыновей, которые, в свою очередь, передали их по наследству своим сыновьям. (Один из внуков Уинстона и Эйлин Андерсон покончил самоубийством.)
Четыре из дочерей Андерсонов, включая Хэтти и ее старшую сестру Эдит, тиранившую всех остальных девочек в семье, были капризны и агрессивны. Четыре из остальных девочек были слишком хрупкими, слишком тихими, слишком безвольными, и все четверо вышли замуж за тиранов. У Фэй, самой младшей из сестер, семейный невроз выразился в том, что она набрала девяносто килограмм весу.
Хэтти и Эдит были очень похожи фигурой, внешностью и характером. В последующие годы у них отмечались одинаковые симптомы: сильные головные боли, очень высокое кровяное давление, артрит и то, что туманно называли «нервозностью». У Хэтти нервозность ярко проявилась в результате глубоких переживаний по поводу того, что ее забрали из школы. Неизвестно, стала ли Эдит шизофреничкой и была ли Хэтти шизофреничкой на данной стадии. То, что Хэтти стала шизофреничкой к сорока годам — ко времени рождения Сивиллы, — было несомненно.
У сыновей Эдит отмечались различные психосоматические заболевания, включая язву желудка и астму. Дочь ее страдала от непонятных недомоганий, а потом вдруг превратилась в религиозную фанатичку, присоединилась к группе целителей посредством веры и гордо заявила о своем выздоровлении. Однако дочь этой религиозной фанатички страдала редким заболеванием крови и всю свою жизнь была наполовину инвалидом. У дочери одного из сыновей Эдит отмечались почти все признаки тех же эмоциональных и психических расстройств, которые проявлялись у Хэтти, хотя и не в столь ярко выраженном виде.
Еще более важным с точки зрения развития заболевания Сивиллы представляется то, что у двух членов семьи — Генри Андерсона, самого младшего брата Хэтти, и Лилиан Грин, внучки Эдит, — отмечалось расщепление или, по крайней мере, раздвоение личности.
Генри зачастую неожиданно покидал дом, куда-то исчезал и не мог вернуться из-за амнезии, в результате которой не помнил ни своего адреса, ни своего имени. Однажды во время такого инцидента он заболел пневмонией. Он находился в бредовом состоянии, когда его подобрал работник Армии спасения. Обнаружив во время досмотра идентификационную карточку, этот человек вернул Генри в Элдервилль.
Лилиан, которая вышла замуж и имела троих детей, часто без предупреждения уходила из семьи. После ряда таких эпизодов ее муж нанял детектива, чтобы тот следил за ней и возвращал домой.
Примеры Генри и Лилиан давали определенные основания для того, чтобы объяснить расстройство Сивиллы генетической предрасположенностью. Однако доктор Уилбур оставалась убеждена в том, что корни проблемы, созданной ее матерью, лежали не в генах, а в окружающей обстановке в годы детства.
Дом Андерсонов в Элдервилле внешне никак не производил впечатления инкубатора неврозов. Именно в Элдервилле, который Сивилла посещала каждое лето, она получала передышку, чистую как стерильный бинт, от злобной тирании и постоянных извращений Хэтти. Здесь казалось, что границы выдуманного мира Сивиллы расширяются, включая в себя саму реальность. Реальность трансформировалась таким образом, что сосуществовала параллельно с рядом аспектов выдуманного мира.
Здесь тетушки и дядюшки обнимали и целовали Сивиллу, подбрасывали ее высоко в воздух, внимательно слушали, как она поет или читает стихи, и считали, что она делает все это просто чудесно.
Ни один визит не проходил без того, чтобы Сивилла не отправилась в кинотеатр, где ее тетушка Фэй играла на пианино в ту эпоху, которая предшествовала появлению звукового кино. Сидя в пустом кинотеатре возле тетушки, за пианино с нажатым модератором, когда клавиши не издают звуков, Сивилла могла воображать, что сама аккомпанирует кинофильмам. Оставаясь на сеанс, Сивилла любовалась на тетушку, воображая, что это ее мать.
Пока не наступала пора возвращаться в Уиллоу-Корнерс, Сивилла и не осознавала, как сильно ей хочется остаться в Элдервилле. Однажды она обратилась к тетушке Фэй: «А вы не оставите меня у себя?» Поглаживая волосы девочки и расправляя ее челку, Фэй ответила: «Твоя фамилия Дорсетт. Твое место вместе с Дорсеттами. Ты снова приедешь сюда на следующее лето».
Лишь дважды за эти девять прекрасных летних каникул в Элдервилле происходили события, заставлявшие поколебаться иллюзорный вымышленный мир.
В одно из воскресений июля 1927 года Сивилла и ее кузина Лулу находились в кухне дома Андерсонов, помогая тете Фэй мыть посуду после обеда. Тетя Фэй, которая видела Лулу постоянно, а Сивиллу — только две недели в год, уделяла последней больше внимания, чем Лулу. Когда тетя Фэй вышла, чтобы отнести чай бабушке Андерсон, Лулу и Сивилла молча продолжали делать свое дело. Однако Сивилла, которая протирала серебряные суповые ложки, не могла оторвать глаз от красивых радужных переливов на хрустальном блюде для пикулей, которое протирала Лулу. Внезапно эта радуга пролетела через всю кухню — это Лулу метнула блюдо в стеклянную дверь между кухней и столовой. В панике, последовавшей за звоном стекла, в голове у Сивиллы загудело, и комната закружилась вокруг нее.
Разбитая дверь распахнулась, и в нее вбежали дядюшки и тетушки, явившиеся на звук бьющегося стекла и уставившиеся на блюдо. Вернее, на осколки, лежавшие на полу столовой.
Взрослые посмотрели на детей; дети посмотрели на них. «Кто это сделал?» — было написано на осуждающих лицах взрослых, которые переводили взгляды от осколков стекла на полу к испуганным лицам детей. Когда глухое молчание стало невыносимым, Лулу объявила:
— Это сделала Сивилла!
— Это ты его разбила, — раздался обвиняющий голос Хэтти, обращенный к Сивилле.
— Слушай-ка, Хэтти, — вмешалась Фэй. — Это всего лишь маленький ребенок. Она не хотела сделать ничего плохого.
— Ничего плохого? Господи, Фэй, неужели ты не понимаешь, что она не уронила его? Она швырнула его назло. И как у меня мог родиться такой ребенок?
Сивилла стояла с сухими глазами, а Лулу расплакалась.
— Это Сивилла сделала, — вставляла Лулу в промежутках между рыданиями. — Это сделала Сивилла.
Тогда дочь Хэтти подошла к окну столовой и застучала кулачками по стеклу, умоляя:
— Выпустите меня. Ну пожалуйста, выпустите меня. Я этого не делала. Это она. Она врет. Выпустите меня. Пожалуйста. Пожалуйста! — Сивилла превратилась в Пегги Лу.
— Отправляйся в свою комнату, — приказала Хэтти. — Сиди на стуле в углу, пока я тебя не позову.
(Сивилла забыла про инцидент с разбитым блюдом, зато Пегги Лу не только запомнила его, но и неоднократно восстанавливала и отыгрывала. В Нью-Йорке между октябрем 1954 и октябрем 1955 года, в первый год анализа, Пегги Лу, разбившая стекло в офисе доктора Уилбур, в тот же промежуток времени разбила на две тысячи долларов старинного хрусталя в магазинах на Пятой авеню. Всякий раз, когда что-то разбивалось, на сцене появлялась Сивилла, обращавшаяся к продавцу: «Мне ужасно жаль, что так получилось. Я заплачу за это».)
Другой нарушивший идиллию Элдервилля эпизод имел место в том же июле 1927 года. Хэтти находилась во дворе и смеялась своим особенным смехом. Услышав знакомые звуки, Сивилла встала из-за кухонного стола, быстро шагнула к окну и увидела, что мать стоит одна возле конюшни. Вновь раздался тот же смех.
Сивилла заметила, что ее кузен Джой и дядя Джерри находятся метрах в двух от матери. Они несли какой-то ящик, который Сивилла до этого видела на кухонном столе. Тетя Фэй тоже подошла к окну и встала возле Сивиллы. Устыдившись немотивированного, странного, страшноватого смеха своей матери, особенно потому, что он раздавался в присутствии родственников, от которых Хэтти обычно скрывала свое поведение, Сивилла вздрогнула и отвернулась.
— Давай-ка, Сивилла, пойдем и сыграем дуэтом, — тихо предложила Фэй.
— Потом, — ответила Сивилла, не в силах отойти от окна.
Потом Сивилла услышала, как ее тетя Фэй кричит из окна Джою и Джерри, чтобы они что-то сказали Хэтти. Со двора раздался крик Джоя:
— Оставь ее в покое, Фэй.
Сивилла знала, что Хэтти — любимая тетушка Джоя и что он старается защитить ее.
Какой-то гроб, подумала Сивилла, глядя на ящик, который поднимали Джой и Джерри. Он был меньше, чем те гробы, которые она раньше видела в салоне похоронных принадлежностей в родном Уиллоу-Корнерсе… Эту мысль завершила уже Марсия: «Этот ящик достаточно велик, чтобы туда поместилась мама».
Стоя очень тихо, Марсия продолжала размышлять: «Ящики растут так же, как деревья и люди. Этот ящик тоже подрастет, и его хватит для мамы». Тут Марсия почувствовала, что ей следовало бы выйти и не позволить Джою и Джерри поставить ящик на телегу, что она должна побеспокоиться за мать и что не беспокоится она потому, что хочет смерти матери!
Марсия, конечно, не могла знать, что пожелания смерти матери часто появляются у маленьких девочек, у которых первое чувство обычно пробуждается к отцу. Марсия не знала, что желание это возникает оттого, что маленькие девочки обнаруживают в матерях соперниц в борьбе за обладание чувствами отцов.
Однако когда Хэтти, которая обычно вела себя в Элдервилле нормально, захохотала так, как делала это в Уиллоу-Корнерсе, желание ее дочери, подпитанное новой озлобленностью, усилилось.
Из-за отчетливо выраженного чувства вины за это желание Марсия изгнала его из своих мыслей и вернула тело Сивилле, которая не знала про маленький ящичек Марсии, способный расти.
17. Уиллард
В своих размышлениях по поводу случая Дорсетт доктор Уилбур вновь и вновь оценивала факты этого странного повествования о ребенке, над которым издевались, которого угнетали, лишали нормального детства, доведя его таким образом до психоневроза, возникшего по самой парадоксальной из всех возможных причин — ради того, чтобы выжить. Однако все собранные факты исходили из одного-единственного источника — от Сивиллы и ее других «я». Доктор Уилбур сознавала, что для подтверждения правильности ее выводов необходимы иные свидетельства.
Мать умерла. Кроме самой пациентки единственным свидетелем, который мог бы подтвердить результаты трехлетнего анализа, был отец. Поэтому в апреле 1957 года, после того как доктор еще раз бегло исследовала все имеющиеся данные об отношениях матери с дочерью, она решила обратиться к Уилларду Дорсетту. Сивилла попросила его приехать в Нью-Йорк.
И доктор Уилбур и Сивилла были бы более спокойны за идею приглашения семидесятичетырехлетнего Уилларда Дорсетта в Нью-Йорк из Детройта, где он жил, удачно женившись во второй раз и продолжая работать, если бы речь шла не о суде человеческих эмоций, а о суде присяжных. Уиллард Дорсетт, чьи отношения и с дочерью и с доктором стали напряженными, мог, как они понимали, и не захотеть приезжать.
Уиллард уже дал понять, что считает тридцатичетырехлетнюю Сивиллу достаточно взрослой и больше не нуждающейся в его поддержке, хотя, когда после двух лет пребывания в Нью-Йорке у нее кончились деньги, он согласился оплачивать ее расходы, чтобы она могла продолжить лечение. (Несмотря на то что она начала сеансы психоанализа без его ведома, через год она сообщила ему о них.)
Доктор была склонна считать эту материальную поддержку выплатой долга, долга отца перед дочерью, которая путем анализа в буквальном смысле слова боролась за то, чтобы стать единым целым. Поддерживал он ее неохотно, от случая к случаю. Однако на данном этапе жизни у нее не было банковского счета, не было постоянной работы, а единственным источником существования являлся доход от редких продаж собственных картин, спорадического репетиторства и время от времени работы на неполную ставку инструктором трудотерапии в Уэстчестерской больнице. Обязанности Уилларда Дорсетта перед Сивиллой были также долгом отца, растранжирившего деньги дочери. Он продал пианино Сивиллы, мебель из ее спальни и несколько ее картин, не посоветовавшись с ней и не передав ей деньги, вырученные от продажи. Он даже заставил ее оплатить половину расходов, связанных с похоронами матери. Эта точка зрения доктора еще более укрепилась, когда однажды Уиллард забыл послать Сивилле ее ежемесячный чек — поступок еще более удручающий, если вспомнить, что такой эпизод уже имел место в тот период, когда Сивилла училась. То, что отец не послал ей деньги, в сочетании с категорическим запретом брать в долг, усвоенным с детства, вынудило ее жить пять недель на апельсинах и печенье — по две штуки в день.
И нынешний, и прошлый эпизоды заставили Сивиллу почувствовать, что отец что-то делает для нее либо под внешним давлением, либо из чувства долга, но не потому, что искренне заботится о ней. Заметив ее подавленность, доктор Уилбур написала Уилларду Дорсетту, что его упущение причинило дочери страдание, которое она переносит довольно тяжело. Он ответил, что, будучи занятым человеком, не всегда может уследить за всякими мелочами. Не обеспокоило его и то, что доктор в настоящее время не получала платы за лечение. Вики прокомментировала его отношение так: «Доктор Уилбур — богатый врач с Парк-авеню. Перебьется».
Уиллард Дорсетт образца 1957 года, написавший, что он слишком занят для того, чтобы беспокоиться о дочери, был явно тем же самым человеком, который в ходе анализа представал прикованным к своей чертежной доске, окруженным и изолированным звуками своих сверлильных станков. Эта изолированность, судя по всему, полностью подтверждалась следующим диалогом, возникшим в ходе анализа.
— Вики, — спросила доктор, — неужели мистер Дорсетт никогда не замечал жестокости миссис Дорсетт по отношению к Сивилле?
— Он мог спросить Сивиллу: «Что у тебя случилось с рукой?» — или еще с чем-нибудь, что было у нее повреждено, — ответила Вики, — а потом пожать плечами и просто уйти.
Еще до того, как прошел достаточный срок для ответа на послание Сивиллы, она обнаружила в своем почтовом ящике письмо от отца. Боясь читать его в одиночестве, поскольку некоторые из его писем заставляли ее становиться кем-нибудь другим, как это определяла доктор, или «выключаться», как это определяла она сама, Сивилла дождалась прихода Тедди Ривз.
В письме говорилось:
Дорогая Сивилла,
Фрида только что напомнила мне, что пора написать тебе письмо. Фрида становится все больше похожа на нас, Дорсеттов. Несколько раз она говорила мне, что довольна жизнью. Если бы меня спросили, я сказал бы, что она довольна тем, что живет самостоятельным человеком. Я рад видеть ее счастливой. Вчера мы получили твое поздравительное письмо. Мы всегда рады получить от тебя весточку. Надеюсь, этот семестр будет у тебя не слишком тяжелым и не слишком загруженным. Надеюсь, на экзаменах у тебя все будет о’кей. Ха!
Работа у меня идет нормально. Погода стоит холодная. Хорошо каждую неделю проводить пару дней дома. Но я рад, что достаточно крепок для того, чтобы работать и зарабатывать себе на жизнь. Похоже, в будущем году работы будет еще больше. Фриде тоже нравится ее работа. Социальное страхование поднялось до семи процентов, так что теперь я получаю больше. Мне платят по сто четыре доллара в месяц. Это очень помогает. Я доволен, что в свое время подписался на социальное страхование. Это было давным-давно. Я теперь старею. Перестал смотреть по телевизору «Лэсси» и ложусь пораньше в постель. Вставать приходится рано. Новостей никаких нет. Так что до свидания.
Твой папа Уиллард
Сивилла почувствовала не досаду, а скорее снисходительное понимание занятости отца собой и Фридой и неприятное осознание того, что его описание пенсии по социальному страхованию как дара судьбы, спасающего его от нищеты, является способом напомнить ей о том, что он не Рокфеллер. Отец был владельцем собственного дома, владельцем еще трех объектов недвижимости, имел солидный банковский счет и неплохой доход, подкрепляемый зарплатой Фриды, — и при этом хотел заставить Сивиллу поверить в то, что гроши, которые он получает по социальному страхованию, имеют существенное значение.
Она кисло усмехнулась и новой для него подписи «Уиллард». Всегда державшийся отстраненно, отчужденно, отец вдруг прибег к этакой неформальности, к своеобразному приятельскому жесту дружбы и близости.
На этот раз Сивилла сумела остаться собой. То, что она смогла это сделать после неполных трех с половиной лет психоанализа, говорило о ее растущей зрелости, о ее способности адекватно воспринимать ситуацию, которая в прошлом приводила к диссоциации.
Вслед за своим носом, похожим на большой клюв хищной совы, Фрида Дорсетт влетела в мастерскую мужа, расположенную в подвале их большого комфортабельного дома в пригороде Детройта. Жена без слов протянула мужу письмо и ушла, слегка постукивая каблуками-шпильками.
Десятью минутами позже каблуки вновь застучали в мастерской, и, перекрывая шум сверлильного станка, Фрида прочирикала стаккато:
— Это письмо. Оно от нее? — Узкие губы Фриды чуть-чуть скривились, а торс почти незаметно задрожал. — Вижу, что оно расстроило тебя.
Уиллард пожал плечами:
— Мы поговорим об этом завтра.
— Что она там пишет? — Это чириканье прозвучало еще громче.
Фрида Дорсетт не любила женщин и не делала исключения для дочери мужа, тем более что Сивилла представляла собой угрозу. За этот год брака с Уиллардом Фрида, которой было пятьдесят семь лет, впервые в жизни испытала настоящее счастье и теперь не собиралась подвергать его испытаниям — реальным или воображаемым — со стороны его дочери.
Не в меру усердные родители Фриды выдали ее замуж в четырнадцать лет за мужчину, которому был тридцать один год. Уже в шестнадцать она родила сына. Карл Обермайер, ее первый муж, был движущей и ведущей силой церкви Уилларда, но струн ее души он не затронул, и она была разочарована и браком, и рождением ребенка. После того как Карл умер от сердечного приступа в возрасте тридцати восьми лет, Фрида имела ряд связей с мужчинами, стала бухгалтером и научилась содержать себя и сына. Она всегда подчеркивала, что ее интеллект превышает ее образовательный уровень, и после смерти мужа стала читать и учиться, постоянно занимаясь самообразованием.
Сделавшая себя, она сумела также «сделать» Уилларда — некоторые говорили, что из-за денег, некоторые считали, что по любви. Познакомились они в Сан-Франциско в 1949 году, но не вступали в брак до 1956 года. Когда он переехал в Детройт, Фрида тоже приехала туда, сняла квартиру рядом с ним, готовила ему еду, заботилась о его белье и ухаживала за ним, когда он плохо чувствовал себя. Уиллард, который из Сан-Франциско сообщал Сивилле, что не собирается жениться и не женится на Фриде, хотя та и является хорошим другом, написал Сивилле в Нью-Йорк о том, что его намерения изменились. «Думаю, — пояснил он, — мне необходимо жениться на Фриде, потому что она постоянно находится у меня в квартире и со стороны это плохо выглядит».
Продолжая стоять на своем, Фрида с напускной застенчивостью посоветовала:
— Уиллард, Сивилла — больная девушка. А ты все еще бодрый и здоровый мужчина. В первую очередь ты должен подумать о себе. — Фрида взяла Уилларда за руку и слегка сжала ее. — Обещай мне, что ты не позволишь ей помешать нашему счастью.
— Нашему счастью… — медленно и задумчиво повторил Уиллард. Встав с кресла, он прошелся по комнате. — Но я люблю свою дочь и всегда старался быть для нее хорошим отцом.
— Временами мне кажется, что ты слишком старался, — решительно ответила Фрида, — а вот она недостаточно старалась быть хорошей дочерью.
— Она гениальна, Фрида, она яркая, одаренная девушка, — убежденно ответил он, — независимо от всего остального, что с ней происходит.