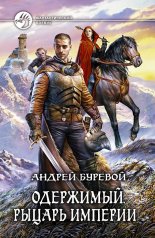Ведущий в погибель Попова Надежда

– Понимаю… Вот что, майстер Гессе, – подытожила Адельхайда со вздохом. – Сейчас мы ничего не придумаем – вот так, с наскока. Давайте придерживаться прежнего плана, а пока я советую вам отдохнуть. Вы не спали всю ночь, и это утро явно не прибавило вам сил. Ну, а после… Вы надеетесь что-то выловить в Ульме? У вас на это будет дня два, попытайтесь. Если что-то наклюнется, и вы сочтете, что ваше присутствие здесь необходимо и далее – но на самом деле необходимо! – на мое приглашение вы напишете ответ. В шифре, разумеется. Я буду знать, какова ситуация, и подлажу свои действия под ваши. Если же за это время вы ничего не найдете – станем двигаться и дальше по намеченному пути. Это принимается?
Курт ответил не сразу, понимая правоту собеседницы и уже устав злиться на себя за то, что ничего не может противопоставить ее словам и действиям.
– Как вы сказали об Александере… – отозвался он, наконец. – У меня ведь тоже нет выбора, так?
«Моргенрот» Курт покинул, пребывая во власти головной боли, однако раздражало не то, что мозг раскалывался надвое, а то, что боль была той самой, до сих пор ни разу за время этого расследования им не ощущенной. Так резко, остро, словно от пыточного крюка, лоб над переносицей ломило лишь тогда, когда разум пытался осмыслить то, что уловил неосознанно, когда он что-то упускал из виду, не придав этому значения или позабыв. Ксвоей гостинице Курт брел медленно, перебирая в памяти все сказанное, увиденное и услышанное, но всё не мог понять, к чему приложить мысль.
Он встал, как вкопанный, спустя минуту и развернулся, оттолкнув с дороги одного из прохожих и едва не споткнувшись о другого, устремившись по улицам бегом, во второй раз за время этого дознания пожалев об отсутствии помощника. Людские толпы к этому послеобеденному часу стали гуще и крикливее, и сейчас как никогда прежде захотелось выкатить на запруженную празднующими площадь пушку, зарядить ее стальной сечкой и гаркнуть в эту вопящую и хохочущую орду, расчистив себе дорогу и водворив тишину…
К главным воротам Курт почти подлетел, вознеся благодарственные моления, когда среди пасмурных и совершенно не праздничных физиономий солдат увидел знакомое лицо – того самого, что рассказал о смерти Бамбергера две ночи назад.
– Снова на воротах? – спросил он после приветствия, и страж неопределенно повел плечами:
– Да я почти всегда тут, на улицах редко… Майстер Гессе, – понизил голос солдат, – а верно говорят, что дом барона фон Вегерхофа разгромили этой ночью?
– Верно, – отозвался Курт хмуро. – Убили всю челядь и любовницу.
– Штриг, говорят…
– Верно говорят… Что-то в прошлый раз и ты не представился, и у меня как-то из головы вылетело, и не сложилось; как звать?
– Вилли, майстер Гессе.
– Вилли… – повторил он и, бросив взгляд вокруг, шагнул в сторону, потянув стража за собой. – Вообще говоря, именно потому я сейчас здесь – из-за стрига… Парни, мне нужна помощь.
– Вы нашли, где он прячется? – побелев, почти прошептал солдат, и Курт вздохнул:
– Если бы… Боюсь, все хуже. Или лучше, как знать… Не могу сказать тебе, как именно, но – я узнал, что стриг мог уйти из Ульма. Возможно, это не так, а возможно, я и не ошибаюсь; мне надо это проверить. От этого будут зависеть мои действия впредь.
– Понимаю… – растерянно проронил страж и неловко пожал плечами: – Но чем мы-то можем помочь?
– Мне надо узнать кое-что у привратной стражи, которая была на посту минувшей ночью и утром – до этой смены. Это, я так понимаю, немало народу, а я один, у меня это займет целый день, да к тому же – я не знаю всех вас в лицо и по именам…
– Понимаю, – повторил солдат, – но… Я бы с радостью помог; вы ведь хотели б, чтобы я поговорил, верно?.. вот только я лишь два часа как заступил, и если сейчас уйду с поста – мне не поздоровится.
– Вали на меня, – отозвался Курт, не замедлив. – Скажи – я велел; после того, как сегодня я прилюдно нахамил одному из ратманов, и он это съел, никто не удивится ни тому, что я вздумал здесь распоряжаться, ни тому, что ты подчинился. Можно даже не лгать о том, что именно я просил выяснить – им это все равно ничего не скажет; да и сомневаюсь, что кто-то вообще будет спрашивать – всем здесь наплевать на мое расследование. И не думаю, что твое отсутствие заметят; а твои товарищи тебя не выдадут, верно? Наверняка прикроют не в первый раз – всякое ведь случалось за время службы… Брось, – отмахнулся он нетерпеливо, когда страж поджал губы. – Что же я – не человек? Все понимаю.
– Турнут меня со службы, майстер Гессе… – тоскливо вздохнул страж, глядя поверх его головы на бойницу надвратной башни, и, наконец, решительно махнул рукой: – А, черт с ним. Если это вам поможет изловить того кровососа…
– Не уверен – предупреждаю откровенно. Вполне вероятно, сегодня мы узнаем, что его и впрямь больше нет в городе.
– Это тоже немало, – кивнул солдат, – пусть хотя бы так. Узнать, что бояться больше нечего – тоже хорошо. Хоть какая-то уверенность – хоть в чем-нибудь… Что надо спросить, майстер Гессе?
– Грузы на воротах досматриваются, – начал Курт, отступив еще на два шага в сторону. – Любые; от этого зависит ввозная пошлина – так?.. Мне надо знать, не провозили ли этим утром то, что вскрывать запретили – что-нибудь длинномерное вроде ящика локтей пяти в длину или гроба…
– Уж точно нет, – решительно оборвал его страж. – Понимаю, к чему клоните; но поверьте, майстер Гессе, если б через ворота кто-то вез гробы – наши парни не посмотрели бы, что заколочено; отрывая рыдающую родню от крышки, вскрыли бы и убедились, что там чисто труп, что не тварь. В этом – можете даже не сомневаться.
– Знаешь, если из города он ушел, я и сам не верю в то, что ушел таким образом. Он… Они твари гордые. Надменные. Мы для них никто, и вот так корячиться, чтобы провести нас, позорно прятаться в деревянном ящике – это лишь крайний случай, не настолько высоко они нас ставят. Да и – для этого надо довериться другому смертному, а это опасно… И все же спроси. И скажи – пусть передадут всем, чтобы впредь следили; ведь не обязательно должен быть гроб – просто что-то довольно вместительное, что не позволяют вскрыть.
– Есть ведь и речные выходы, – заметил солдат, и Курт кивнул:
– Есть. Но там спрятаться еще сложнее, еще опаснее – ну как перевернется его вместилище? Куда ему выплывать тогда ясным днем? А ночью уйти вплавь… Такой, как он, не станет мокнуть и пачкаться, скрываясь от людишек. Есть способ проще, каковым он, если и впрямь покинул Ульм, наверняка и воспользовался. Скорее всего, просто вышел из ворот ночью – своими ногами.
– Ночью ворота на запоре, майстер Гессе, – обиженно возразил страж. – И никто никому их не отопрет – даже за мзду, если вы на это намекаете. Имперский город, дело серьезное; чем потом откликнется такое двурушничество – Богу одному ведомо, а мы проверять не собираемся. И так, знаете, Ульм в прошлом с землей сравнивали – кто знает, для чего вот такие ночами шастать будут? В этом отношении все серьезно, поверьте на слово. Понимаю, вы можете поспорить, дежурства на воротах – дело прибыльное, все знают, но это днем, по мелочи с какого торгаша срубить; ночью – все строго. А теперь уж тем паче, майстер Гессе. Наши все на ушах стоят.
– Но меня вы впустили, – заметил он, и тот кивнул:
– Впустили. Потому что – Знак и Печать.
– А если грамота, подтверждающая важную должность? Если бумаги с особыми полномочиями?.. Спроси и об этом. Не было ли этой ночью спешных «гонцов» от совета или кого-то в таком роде. Однако и на такое он вряд ли пойдет – уж больно сложно. Не это мое основное подозрение. Мне, Вилли, надо знать вот что: не случалось ли у кого из стоящих на воротах провалов в памяти этой ночью.
Солдат нахмурился, даже отступив на шаг назад, глядя на собеседника непонимающе и настороженно, и отозвался не сразу.
– Это в каком смысле? – переспросил он, наконец, и Курт шагнул за ним следом, пояснив по-прежнему тихо, все так же поглядывая, не обращает ли кто излишне пристального внимания на их беседу:
– В самом дословном, Вилли. Видишь ли… – он помедлил, подбирая слова, и понизил голос еще больше: – Видишь ли, это одна из их способностей. Эти ребята, кто постарше и посильней, могут попросту приказать любому человеку сделать то, что они хотят. Между нами; так он вошел в дом барона этой ночью – снаружи, через дверь, через стену взял под контроль слугу, и тот отпер им двери.
– О, Господи… – проронил солдат едва слышно. – Так стало быть, все это напрасно – запоры на дверях, ставни, замки; все зря? Ничто не спасет?
– Если он захочет – войдет, – подтвердил Курт со вздохом. – Мы в Конгрегации этих тварей изучили неплохо, и поверь в то, что я говорю. Это так. Обыкновенно они не напрягаются, ловят народ на улицах, но бывает и такое. Посему – если он покинул Ульм, если вышел, то вышел так же, как вошел в дом барона. Приказав его выпустить. Того, что делал под таким внушением, человек может и не помнить; не обязательно – но может, это зависит от того, насколько силен стриг и насколько глубоко он подчиняет. Это мне и надо выяснить, Вилли. Быть может, кто-то из твоих товарищей помнит, как отпирал ворота, как выпускал кого-то, не желая сам этого делать, и теперь молчит об этом, потому что уверен, что никто его не поймет. Но я – пойму. Или, возможно, пара-другая минут попросту выпала из памяти – у одного из них или, быть может, у всей смены разом, как знать. Если кто-то из стражей этой ночью внезапно обнаружил себя растерянным, забывшим, что делал только что, не помнившим, куда ушла часть времени – мне надо знать это. Если такое произошло, стало быть, он и впрямь вышел из города.
– Вот бы дай-то Бог, а… – с тоскливой надеждой проронил солдат и, повстречав его взгляд, смутился. – Понимаю, вам это не на руку, майстер Гессе, если он уйдет… простите, но не порадоваться не смогу. Понимаю еще, что, раз ушел от нас – придет куда-то еще, и там начнут люди умирать, и не по-христиански как-то выходит – дескать, не меня едят, и ладно; Бамбергер потому и погиб – потому что не так мыслил… Но у меня дети здесь. Семья. Не смогу не вздохнуть, если ваша мысль подтвердится. Уж простите.
– Я понимаю, – сочувствующе кивнул Курт. – Это нормально.
– А если его тут больше нет… Вы что же – за ним? Куда же? Как выяснить?
– Рано пока об этом, Вилли; не знаю. Одно точно – куда он, туда и я, пока не возьму гада за яйца… Так что же – могу я на тебя рассчитывать?
– Конечно, майстер Гессе, какие вопросы; вот только одна проблема: те, кто сменился, сейчас по всему городу разбрелись. Кто-то дома, кто-то нет… Один я набегаюсь. Сколько времени уйдет, чтобы достать каждого, кто на воротах стоял… Ничего, если я приятелям расскажу, в чем ваша мысль, и их привлеку к этому делу?
– Ничего, – дозволил Курт. – Даже неплохо. Быстрей управимся.
Солдат скептически покривился в ответ, но лишь спустя два с половиной часа Курт понял, насколько страж оказался прав. Пройти от одного края города до другого и прежде было нелегко, а сегодня, казалось, эта задача была вовсе невозможной: к вечеру празднующих все прибавлялось, они становились все разнузданней и возбужденней, толпы – все гуще и плотнее, и что начнется к ночи, когда и без того изрядно подогретые граждане свободного города дойдут до кондиции, страшно было и вообразить.
Предоставив солдату отлов основной массы соратников, уже сменившихся с дежурства, Курт обошел все ворота города, включая, вопреки собственным выводам, и речные, выяснив, что за время их смены никаких подозрительных ящиков, мешков и тюков вывезено не было. Навестив по пути несколько домов и съемных комнат, он побеседовал с доставшимися на его долю стражами, пребывающими на отдыхе после ночного бдения, не выяснив ничего, что могло бы привлечь внимание, и к главным воротам Ульма возвратился уже к вечеру, когда солнце цеплялось кромкой диска за холмы на западе.
Похождения солдата увенчались большим успехом – это Курт понял, уже издали увидев кучку стражей, собравшихся у ворот, слушающих своего соратника с неослабным вниманием.
Ночная стража западных ворот незадолго до наступления утра, когда сон одолевает всего более, а тишина и безлюдье воцаряются даже в этом городе, внезапно утратила ощущение времени. Стражей было трое, прочие спали в караульном помещении при надвратной башне; еще минуту назад, по их словам, все сидели кружком, в сотый раз рассказывая устаревшие байки и анекдоты, дабы изгнать сон и развеять скуку, и вдруг каждый из них обнаружил себя в нескольких шагах в стороне, не помнящим, как прервал разговор и для чего отошел от круга света и тепла, создаваемого факелами. Некоторое время каждый прятал от других глаза, полагая, что это странное оцепенение коснулось лишь его; к утру, открывшись-таки друг другу и обсудив произошедшее, стражи рассудили, что о диковинном событии лучше всего будет умолчать.
– Так значит, нет больше штрига в Ульме, майстер Гессе? – с надеждой подытожил Вилли, и Курт лишь молча вздохнул.
Александер оказался прав, права оказалась Адельхайда – Арвид не солгал, говоря, что покидает город. И, как знать, быть может, если бы не убийство его птенца, он ушел бы из Ульма уже той ночью…
– И все же не расслабляйтесь, – отозвался Курт, наконец, не веря себе самому. – Мало ли что.
До гостиницы он добирался уже по сумеркам, с усталым раздражением уворачиваясь от празднующих горожан, с ужасающим мастерством изготовленных соломенных чучел и попросту палок, разряженных в ленты и листья. Ни одного поздравления с наступившим днем Пасхи Курт так и не услышал, зато пожелания со счастливым Днем дурака сыпались со всех сторон, в конце концов создав чувство, что сегодня майстер инквизитор отмечает свой день рождения, и ощущение собственной глупости именно в этот день было весьма уместно.
Уснуть он себе просто приказал. Этот полезный талант был открыт им в себе задолго до уроков Хауэра – когда единственным возможным способом уйти с улиц, спрятаться от окружающего мира были сны, когда усталость и уныние граничили с отчаянием, а жизненный путь виделся не иначе как короткой темной улочкой с тупиком впереди, – маленький Курт научился уходить от реальности по собственному произволению. Надо было лишь расслабиться, закрыть глаза и дышать – медленно, глубоко, стараясь не думать ни о чем, включая собственное желание уснуть. Пробуждался он также в четко назначенное себе время, длился ли сон минуты или же часы. Но если от неприятностей детства можно было уйти довольно легко, то проблемы взрослой жизни доставали его и там, в дальних краях по ту сторону сознания, и от такого сна Курт вставал разбитым, лишь чуть менее усталым и злым на весь белый свет и себя самого. Разум пытался постичь хоть что-то и там, в видениях, производя смутные решения и делая туманные выводы, а посему в последнее время таким сомнительным отдохновением Курт старался не злоупотреблять, предпочитая потратить время на работу. Однако бывали дни или ночи, когда выбора не оставалось: работать было невозможно либо же не над чем, и такой отдых был все же куда плодотворнее бесцельного блуждания по комнате из угла в угол.
Глава 19
Совершившиеся в Светлую среду похороны привлекли не меньше зрителей, чем произошедшее накануне выступление глотателя огня; на фон Вегерхофа таращились, точно на диковинку, перешептываясь и указывая пальцами на тело Эрики. У выхода из церкви подле стрига вновь возникла фигура Штюбинга; ратман стоял спиной, и лица его Курт не видел, зато глаза фон Вегерхофа были различимы явственно и четко. На мгновение подумалось, что тот не сдержится и выкинет какую-нибудь глупость, однако, судя по тому, как толстяк застыл на месте, когда стриг уже удалился, тот обошелся словесным порицанием.
Фон Вегерхофа Курт навестил к вечеру, появившись в его обиталище впервые с того воскресного утра. Прохожие косились на крышу дома, стопорясь и переговариваясь, и ненадолго он приостановился тоже, глядя на столб темного дыма, поднимающийся из трубы. Дверь отпер слуга с лицом настороженным и бледным; да и вся новая прислуга, спешно переведенная в городской дом из замка, была испуганной, притихшей и словно бы вовсе безгласной, ощущающей себя явно не в своей тарелке. Требование майстера инквизитора убираться прочь слуга воспринял со смятением, попытавшись несмело возразить и явно не представляя, что ему делать, и для того, чтобы избавиться от его докучливой услужливости, пришлось приложить некоторые усилия и толику жесткости.
Фон Вегерхоф обнаружился в занимающей половину второго этажа огромной трапезной, сегодня неестественно пустой и гулкой; в обеденной зале перед полыхающим вовсю очагом покоилась груда сваленных как попало вещей. Приблизившись, Курт разглядел ворох платьев, юбок и лент; в очаге, чадя, прогорала пара легких кожаных башмачков. Стриг сидел на полу, упершись в колено подбородком, и смотрел в огонь, даже не обернувшись на своего гостя. За эти дни фон Вегерхоф похудел еще больше и словно бы высох; и без того бледное лицо заострилось и побелело, а отражающийся в прозрачных глазах огонь делал его вовсе похожим на призрак.
– Мог бы и встретить, – укоризненно выговорил Курт, остановясь рядом. – Твои новые холуи невоспитанны до неприличия. Прекословить инквизитору… Мрак.
Тот не ответил, лишь едва заметно поведя плечом, и, широко размахнувшись, бросил в очаг шелестящее шелком платье, свернутое в сиротливый комок.
– Новости, – уже серьезно сообщил Курт, отступив от пламени на шаг назад. – Мне пришло приглашение от Адельхайды.
– Да, – наконец, разомкнул губы стриг. – Мне тоже.
– Дело продолжается, – как можно мягче нпомнил он. – Надо ехать на эту пирушку. Арвида в городе нет, и здесь мы ничего не разыщем. Я завтра еду.
– Езжай, – отозвался фон Вегерхоф тускло, и в огонь полетело еще одно платье, блеснув серебряным шитьем. – Я буду там послезавтра.
– Выбирайся из этой мути, Александер, – настоятельно потребовал Курт. – Это никуда не годится. Приходи в себя, ради всего святого; вспомни, наконец, кто ты такой и что должен делать. Очнись. Надо ехать.
– Являться вовремя – de mauvais ton[138], Гессе, – бесцветно улыбнулся стриг, не отрывая взгляда от очага. – Если прибывать на подобные встречи в назначенный час, могут счесть, Dieu prserve, что я человек ответственный и обязательный, а это скучно… Я появлюсь послезавтра.
– Если не появишься, – предупредил Курт, отступая к двери, – я вернусь. И притащу за шиворот.
– J’aimerais voir[139], – откликнулся фон Вегерхоф и, выдернув из пестрого вороха тонкую, как паутинка, нижнюю рубашку, отправил ее следом за платьем.
Свою комнату Курт предпочел за собою не оставлять, съехав из гостиницы на явную радость своим соседям и ее владельцу – когда торговец Вассерманн после новости о нападении на дом фон Вегерхофа спешно покинул Ульм, хозяин стал одарять своего неудобного постояльца укоряюще-печальными взглядами, посматривая на оставшихся клиентов с благодарностью, надеждой и тоской. Шагнув на улицу и закрыв входную дверь, Курт живо вообразил, как там, за его спиной, все присутствующие в трапезном зальчике разом вскочили на скамьи и столы, разразившись радостными гиками и вскинув над головами шапки, и откупорили лучшие вина.
Ульм вообще словно бы закатил грандиозные проводы своему мучителю – остатки празднующих все еще шатались по улицам вперемешку с уже приступившими к всевозможным работам горожанами, и даже привратная стража выглядела изрядно повеселевшей, и напутствия, направленные вслед майстеру инквизитору, были довольно-сострадающие и искренне радостные. «Он может вернуться в любую ночь», – предупредил Курт напоследок, успев увидеть, как оживленные лица осунулись, и в глазах солдат вновь собрались тучи.
Верить ли себе самому, он не знал, и путь до замка полувдовствующей баронессы фон Герстенмайер преодолевал по большей части шагом, опустив руки с поводьями и глядя на медленно ползущую под копыта дорогу рассеянно и отстраненно, размышляя над тем, что назойливо лезло в голову все эти дни. Арвид покинул город на своих двоих, затратив часть ночи на произведенное им нападение на дом фон Вегерхофа; означает ли это, что следом за ним ехала целая телега, груженная гробами или ящиками для льда, или еще каким-то вместилищем, которое должно было дать ему укрытие от солнца? Выпустили ли подчиненные им стражи целый караван, в котором, кроме птенцов, была еще и пара простых смертных, долженствующих обеспечить дневную охрану? Или же убежище на ближайший день находится поблизости, и он действительно связан с кем-то из окрестных «фонов», как и было упомянуто в той в высшей степени странной записке?..
До замка Курт добрался, так ни в чем и не определившись, решив для себя, что этот вопрос пока будет покоиться на дальней полке среди множества других, столь же неясных и трудноразрешимых.
Родовое гнездо фон Герстенмайер высилось на голом, как локоть, холме, окруженное внушительной стеной; отсутствие барона не сказалось ни на наружном показном состоянии имения, ни на внутреннем, как стало ясно, когда майстера инквизитора пропустили сквозь внешнее кольцо укреплений. Замок ограждался двойной стеной, выстроенной еще во времена оны, однако и по сию пору пребывающей в полном порядке. На металлических деталях ворот не намечалось ни следа ржавчины, на деревянных – ни единой трещины; внутренний двор блистал чистотой, свойственной не всякой городской площади, своими размерами и выверенностью и в самом деле напоминая небольшой город. Замки, виденные Куртом до сих пор, отличались редкостной безалаберностью в устроении и поддержании оного, здесь же царил порядок и согласованность в каждом деянии каждого самого мелкого существа, включая, кажется, двух щенков, с редкостной для их возраста невозмутимостью возлежащих у колодца. Дворня не шастала – вышагивала, обыкновенных для столь населенного обиталища выкриков и постороннего шума не было, да и вообще все это строение напоминало не жилой замок, а военный лагерь, ожидающий, к тому же, с минуты на минуту высочайшей инспекции. «Милая старушка», отладившая и блюдущая сию систему, кажется, существовала лишь в обществе собственной племянницы; оказаться же хоть на миг на месте одного из здешней прислуги Курт не захотел бы ни за какие сокровища в мире.
Центральная башня с округлыми тяжелыми боками стояла поодаль, мрачная и непритязательная, окруженная еще обнаженными деревьями, кустами и свежевскопанными, взрыхленными холмиками и полосками земли, где в будущем наверняка прорастет нечто малонужное, но приятное глазу, вроде роз или садовых лилий; голый сад тянулся вдаль, теряясь из виду и обступая со всех сторон центральную башню и двухэтажный каменный дом, в разверстых подвальных дверях которого по временам исчезали и появлялись сосредоточенные, собранные бойцы этого переднего края благопристойности и традиций.
Несносно дорогостоящая гостиница, покинутая сегодня, с ее услужливыми работниками, теперь показалась забегаловкой для бедноты и спившихся игроков – того, как из-под него выдернули коня, Курт почти не заметил, как не сумел и сообразить, каким образом его вещи перекочевали с седла в руки одного из челядинцев. На лице молодого, быть может, младше него самого, парня не отобразилось ни единого чувства из тех, что, несомненно, вызвал вид новоприбывшего в сравнении с нарядами и скарбом прочих гостей. В предложении проследовать за ним Курт не уловил ни тени пренебрежения или неприятия, ничего, кроме хорошо поставленной предупредительности, преисполненной чувства собственного достоинства и неизбывной гордости за место своей службы.
Тушеваться и робеть в присутствии знатных особ Курт перестал уже давно, не почитая зазорным повысить голос на герцога Рейнского или нахамить Кельнскому архиепископу, однако сегодня и здесь внезапно пробудилось уже забытое чувство собственной малости и неуместности. Утвердиться в этом прибежище взыскательности можно было бы, представься возможность отчитать хоть бы этого свыше меры вышколенного прислужника, однако ничего, к чему можно было бы прицепиться, Курт так и не нашел. Его комната чистотой и аккуратностью походила на операционную келью, учтивость прислуги не переходила грани, за которой начинается заискивание либо, напротив, замаскированная дерзость, и теперь, глядя в окно на огромный вылизанный двор, он с непритворным любопытством и некоторым напряжением ожидал встречи с генералом этой твердыни.
Созерцание окружающего мира было прервано спустя четверть часа – дверь за спиной открылась без стука, и шагнувшая в комнату Адельхайда поинтересовалась без тени смущения:
– Надеюсь, я не застукала вас в непотребном виде, майстер Гессе?
– А ну как застукали бы? – отозвался Курт, и та передернула плечами:
– Это не смертельно. Надеюсь… Тетушка намеревалась приветить вас лично, однако в этот час у нее традиционное вечернее недомогание, то есть второй послеобеденный сон, посему большая часть ее обязанностей лежит на мне. Встретить вас я, однако, не смогла – здесь сегодня форменный апокалипсис; кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то остался, дворне надо отдавать новые распоряжения, в том числе касательно мест за столом… Но это вам навряд ли интересно. Как вас устроили?
– Хорошо. Даже слишком.
– А Александер, паршивец, снова не прибыл в назначенный день, – констатировала Адельхайда с наигранным вздохом, тут же убрав усмешку. – Видели его перед отъездом? Как он?
– Отвратительно, – искренне ответил Курт. – Если завтра его не будет, я намерен вернуться в город и…
– Он будет, – уверенно возразила Адельхайда, берясь за ручку двери. – Увидите. Просто он пытается прийти в себя, злоупотребляя своими выходками… Что ж, отдыхате; вечером у нас начнется работа, советую выспаться. Если же не желаете сейчас пребывать в четырех стенах – можете прогуляться по саду, никто здесь вас не остановит и с лишними вопросами лезть не станет. О вашем status’е предупреждены все вплоть до последнего помощника младшего поваренка. К сожалению, показать вам имение изнутри я не могу – нет времени. О начале ужина вас оповестят.
О начале ужина было оповещено все владение баронессы фон Герстенмайер разом, и не знакомый с замковыми порядками майстер инквизитор поначалу принял торжественное завывание рогов за сигнал тревоги или бедствия, каковое заблуждение развеял лишь все тот же юный слуга, явившийся в его комнату с предложением проводить гостя в трапезную залу. «Я найду дорогу», – возразил Курт, и парень немедленно исчез, поклонившись, не возразив ни словом и не замявшись на пороге ни на мгновение дольше необходимого.
Он выждал четверть часа, слыша в коридоре, окружающем гостевые комнаты, голоса и шаги, шорох платьев и стук башмаков по камню пола; будучи еще не знакомым с хозяйкой, явиться всех позже наверняка было нарушением правил приличия, однако вместе с тем и избавляло от опасности попасть в неловкое положение. Неизвестно, укажет ли ему столь предупредительная прислуга его место за столом или же сочтет это само собой разумеющейся мелочью, не стоящей нарочитого внимания, и попасть впросак было бы очень некстати. «Когда зван будешь», говорил еще Лука, «придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою»… Однако апостол явно не представлял себе, что такое репутация служителя Инквизиции в глазах окружающих. Если сейчас позволить себе ошибиться в такой малости, невзначай усесться за один стол с низшими – это на все оставшееся празднество создаст ему славу человека не уверенного в себе, не знающего себе цены, нерешительного, а кроме того – не знакомого с кодексом рыцарского сообщества, к которому, пусть и лишь de jure, принадлежит.
Его и в самом деле скудный запас сведений в этой области говорил о том, что место Курта именно там – вдалеке от приближенных баронессы, занимающих главный стол, со всевозможными мелкими приблудами, обладающими, кроме титула, меча и цепи, лишь неохватным самомнением. Как «господин фон Вайденхорст» Курт не мог рассчитывать ни на что большее, нежели общество таких же свежеиспеченных рыцарей, еще вчера, быть может, начищавших сапоги своему сюзерену. Однако звание «майстер инквизитор Гессе» давало привилегию расположиться едва ли не у самой вершины хозяйского стола, подле владельца замка, был бы таковой в живых, либо же владелицы как блюстительницы его имения. Что изберет в качестве линии поведения упомянутая владелица, было неведомой тайной; для решения этого вопроса самостоятельно познаний гостя не хватало. Теперь же, когда собравшиеся явно заняли большую часть скамей, вычислить среди них свое место должно было быть куда проще.
Из комнаты Курт вышел спустя минуту после того, как стих гомон за дверями, и отыскал главную залу без труда, однако на пороге оной на миг запнулся. Не видя еще пестрого собрания за массивной дверью, он понимал, что разительное отличие его от прочих, столь явно бросившееся в глаза еще в ульмской гостинице, здесь будет и вовсе ошеломляющим. До сих пор его выходы в высокое общество и посещения замков начинались со слов «вы арестованы» либо же, в лучшем случае, «ответьте на пару вопросов», и внешний вид господина дознавателя при том имел значение даже не третьестепенное.
Сегодня, будь его воля, Курт ограничился бы лишь сменой своей дорожной одежды, и теперь, с некоторым усилием переступая порог шумной залы, ощущал себя разряженным пугалом – ни разу до сих пор, кроме дня посвящения, не надеваемая, цепь на шее позвякивала при каждом движении, пристегнутый не по-походному, а согласно правилам на боку, меч мешал непривычной тяжестью, и лишь Знак на груди вселял если и не хладнокровие, то хотя бы некоторую долю уверенности.
Ворон в курятнике, успело мелькнуть в голове, когда Рубикон порога остался за спиной. Кладбищенский ворон среди разноперого птичника…
«Еt mulier erat circumdata purpura et coccino et inaurata auro et lapide pretioso et margaritis habens poculum aureum in manu sua»[140] – пришла вторая мысль, когда сидящая подле древней, вытянутой, как сельдь, старухи Адельхайда привстала навстречу гостю. Золота, правду сказать, на ней не было вовсе, камней ровно в меру, жемчуга графиня фон Рихтхофен не носила, судя по всему, принципиально, да и лиловое платье слабо походило на порфиру, и кубок стоял на столе еще не наполненным. Однако воображение уже откатилось назад по тексту, живо нарисовав эту черноволосую женщину верхом на багряном звере. Без порфиры.
– Ну, а вот и вы, майстер Гессе, – с заметным укором поприветствовала она, указывая на похожий на трон древний стул с высоченной, как замковая стена, спинкой. Стул помещался рядом с нею, через место от тетки; стало быть, при расположении гостя в пространстве учитывались все его звания, просуммированные и умноженные друг другом…
«Еt lapidis pretiosi et margaritis et byssi et purpurae et serici et cocci et omne lignum thyinum et omnia vasa eboris et omnia vasa de lapide pretioso et aeramento et ferro et marmore»[141] – текла уже сама собою мысль, пока глаза всеми силами старались не бегать по сторонам, а голова – не вертеться, точно у попавшего впервые в город деревенского пастуха.
К указанному ему месту Курт прошел молча, не принеся извинений за опоздание, хотя по тому, как внезапно сорвалась с места и заскользила вдоль столов прислуга, ясно было непреложно, что все это сияющее сообщество ожидало только его. За стол он уселся неспешно, подчеркнуто лениво, дабы неловким движением не выдать собственного смятения; к взглядам, провожавшим его на улицах городов и деревень, он уже привык – к взглядам косым и робким, презрительным, озлобленным, ненавидящим, даже уважительным, случалось ощущать на себе и взор любопытствующий, но бывать предметом досужего интереса для трех десятков присутствующих разом, не имея возможности хотя бы просто уйти, еще не приходилось.
От камней, мехов, серебряного и золотого блеска рябило в глазах, и с каждым мгновением все больше хотелось отпустить какую-нибудь глупую выходку, лишь бы перестать быть точкой пересечения десятков глаз. На приветствие хозяйки замка Курт ответил рассеянно, понимая вместе с тем, что надо взять себя в руки не только ради предстоящей работы, но и для того, чтобы не показаться бессловесным неотесанным пнем, каковым он себя, по чести говоря, сейчас всецело и ощущал. Макушка начала уже, кажется, дымиться, и он, не сдержавшись, поднял голову, устремив прямой взгляд в глаза сидящего напротив человека, укутанного в меха так, словно за дверью носилась февральская вьюга. Мгновение прошло в неподвижности, и взгляд высокородного гостя смятенно скользнул прочь, отчего на душе ощутимо полегчало. Отстрелив подобным же образом еще нескольких назойливых зрителей, Курт ощутил, как овладевшее им оцепенение уходит, сменяясь глубоким, однако уже давно привычным раздражением.
Короткая предтрапезная молитва замкового капеллана прозвучала как-то неловко и торопливо, и обычного, как он полагал, для таких застолий оживления при виде принесенных блюд не наступило – большинство гостей сидело недвижимо, глядя теперь уже в стол, не размыкая рта и не поднимая глаз. Обосновавшиеся в углу музыканты вступили едва слышными переборами, и эти ненавязчивые звуки были единственным, что не давало огромной зале потонуть в тишине. Придя уже к выводу о том, что его присутствие здесь напрасно и послужит лишь помехой задуманному делу, Курт заметил, как словно невзначай, походя, мужская половина гостей подставляет кубки под разносимые по зале кувшины вот уже во второй раз за те несколько минут, что истекли с начала ужина. Лишь теперь он отметил и хорошо различимую муть в глазах некоторых из них, и подрагивание рук, и тот факт, что женская чась приглашенных едва слышно, но все же перешептывается между собою. Все верно, понял он, не скрывая наползающей на губы усмешки. Лишь немногие, включая его самого, проводят свой первый вечер в этом замке, прочие же гостят здесь уже третий день, наверняка по достоинству оценивая при этом содержимое не только кладовых радушной хозяйки, но и ее погребов…
– Наверное, стоило предоставить майстеру инквизитору право благословения пищи.
В первое мгновение Курт не сразу понял, кому принадлежит уверенный, крепкий голос, прозвучавший рядом с ним, лишь спустя миг осознав, что заговорила хозяйка этих владений. Заданный вопрос равно мог адресоваться как капеллану, вмиг притихшему, так и собственно майстеру инквизитору; смотрела баронесса фон Герстенмайер при этом в свое блюдо, и кто же должен ответить на ее слова, оставалось неясным.
– О, нет, – возразил Курт, выждав время и уверившись, что капеллан погряз в безмолвии. – К чему мне отнимать у других их работу? quod quisquis norit in hoc se exerceat[142].
– А как движется ваше дело? – поинтересовался гость в мехах. – Или это тайна следствия?
– Вы припозднились, майстер Гессе, – заметила Адельхайда, когда Курт замедлил с ответом, придирчиво разглядывая вопросившего в упор. – Посему – позвольте я представлю вам хоть некоторых из наших гостей. Это Эберхарт фон Люфтенхаймер – с не столь давних пор здешний ландсфогт.
– De jure, – поправил ее тот. – Пытаюсь быть в курсе текущих дел – но город меня в них не посвящает; стараюсь вникать в местные обычаи – но их попросту нет. Кроме, быть может, неизбывной заносчивости и вольнодумства. После императорского двора мне такое в новинку – не знаю, что с ними и делать. Я здесь чуть дольше году, и за это время услышал больше смелостей и откровенных дерзостей, чем за все свои шесть десятков лет.
– Вот к чему приводят эти веяния, – заметила хозяйка непререкаемо. – Когда города принадлежали достойным родам, подобного и помыслить было нельзя. Теперь же это гнезда безначалия, безвластия, рассадники хаоса.
– Не могу возразить, – согласился Курт, предпочтя не упоминать тот факт, что именно представители достойных родов и прошествовали на помост после его расследования в Кельне; фогт осторожно кашлянул, привлекая к себе внимание, и он вздохнул: – Дело движется, господин фон Люфтенхаймер. Правду сказать, медленно – помощи от местных властей, вы правы, не дождешься; однако и своими силами можно кое-чего достичь.
– Я полагала, – вновь заговорила баронесса, – что вы прибудете вместе с бароном фон Вегерхофом; отчего вы один, майстер инквизитор? Надеюсь, даже его скверного воспитания недостанет на то, чтобы не ответить на приглашение.
– Александер обещал быть; сейчас он загружен текущими делами, и их срочность не позволила ему приехать тотчас. После случившегося в его доме он несколько выбит из колеи, и к тому же его осаждают те, с кем он ведет дела – опасаются за свои капиталы.
– Торгашеские забавы не доведут его до добра, – убежденно выговорила хозяйка. – В торговле все сплошь евреи, а уж как они могут подвести человека к краю разорения и могилы – известно всем. Думаю, в швабах немало еврейской крови, оттого они и помышляют о серебре больше, чем о душе и соблюдении законности, установленной людьми и Богом. Столько же изворотливости. То, что бедный мальчик до сих пор не разорился – не иначе как Господня милость. Вот теперь эти богоубийцы удерживают его в своем обществе, не позволяя приобщиться к окружению тех, к кому он по рождению принадлежит.
– Барон фон Вегерхоф ведет дела с итальянцами, насколько мне известно, – робко возразил фогт, и баронесса решительно отрезала ладонью воздух:
– То же самое.
– И в самом деле – милая старушка, – пробормотал Курт с усмешкой; Адельхайда передернула плечами:
– У всех свои пунктики. У вас это женщины. У тетушки – иудеи. Не вздумайте ей возразить – станете врагом на всю оставшуюся жизнь… Вы ни к чему не притронулись, майстер Гессе.
– Успеется. Как я понимаю по виду многих гостей, эти посиделки не ограничиваются часом-двумя. Откройте секрет, госпожа фон Рихтхофен: в наши дни, когда crisis опустошил кошельки и кладовые – для чего откармливать всю эту ораву совершенно постороннего народу?
– Вы так милы в своей откровенности, майстер Гессе, – улыбнулась Адельхайда, на миг отведя глаза от сидящих за столами и одарив его снисходительным взором. – Добро пожаловать в мир рыцарства…
– …хлебосольства и нахлебничества.
– Здесь особая политика, майстер Гессе. Окрестные землевладельцы – это свой круг, который должен держаться вместе, это вам разъяснять, полагаю, не надо. Что же до всевозможных новопосвященных – и их присутствие имеет свой смысл. Тетушке, при всей ее разумности, смысла этого не постигнуть, она лишь поддерживает традицию, установленную супругом, однако польза от этой «оравы» все же есть. Здесь их привечают, здесь им открыты двери и здесь они встречают доброе отношение; в случае, если у здешних хозяев наметится противостояние с соседями – как полагаете, кого поддержит эта молодая и амбициозная поросль?.. Кроме того, некоторые из них могут пожелать остаться здесь на службе – бывает, что и без платы, за один prestige, как сказал бы Александер, почитая это за привилегию. Ну, разве еще стол – и все.
– И в чем подвох?
– Это первая ступень на пути посвящения для тех, кто является потомком какого-нибудь «фона» без гроша за душой, без приличной службы, которая дала бы надежду и их отпрыскам после получения рыцарской цепи поступить на службу в установленном традицией порядке; так они осваиваются в этом обществе, познают некоторые правила, привыкают держать себя… Учатся всему тому, что должен уметь будущий носитель почетного звания; учатся бесплатно, заметьте, что тоже немало. В результате – все довольны. Хозяевам это стоит вот таких редких званых обедов и ужинов, где они и сами получают удовольствие (в прочее время здесь довольно скучно), а также затрат на еще одного едока, подобным же гостям обеспечивает будущее. Помните парня, что приставлен к вам? Георг фон Люнебург. Взгляните в конец стола.
– А я почел его за слугу, – хмыкнул Курт, и впрямь отметив знакомое лицо среди теснящегося на дальней скамье ряда гостей.
– В некотором роде так и есть, вот только он не станет подбирать яблоки из-под вашей лошади – он отыщет того, кому следует поручить эту работу. Зато проследит, чтобы это сделали хорошо; он наточит и вычистит ваше оружие, подтянет седло, разбудит, когда скажете, или же, напротив, встанет под вашей дверью, дабы отогнать того, кто пожелает разбудить. Если вы порекомендуете его таланты знакомому рыцарю полетом повыше, у него появится вероятность хорошо устроиться, а это неплохое дополнение к грядущему посвящению.
– А это что за бочонок, не сводящий с меня глаз? – спросил Курт шепотом, кивнув через стол; Адельхайда улыбнулась:
– Понравилась?
– О, да, – покривился он. – Я всегда был в восторге от древних кубышек.
– Вы сегодня просто неподражаемы, превосходите сами себя… Ей, к вашему сведению, всего двадцать один. Это Мария фон Хайне.
– И вон та парочка подле нее…
– Не «парочка», майстер Гессе, а «семейная пара». Ее родители, граф Фридрих фон Хайне с супругой.
– Из местных владетелей, насколько я помню, должен быть еще один граф и барон. Они здесь?
– Вон там. Граф Вильгельм фон Лауфенберг с женой и барон Лутгольд фон Эбенхольц, жену похоронил в прошлом году. Юный оболтус рядом – его сын, Эрих, посвящен всего два года назад, но в этом смысле уже подает надежды. К слову сказать, неплохо отличился на прошедшем турнире. Справа от него – сестра, Гизелла.
– Ничего.
– Сосватана; смотрите, не испортите девице будущее, майстер Гессе.
– Я на работе, – возразил Курт. – И ваши шуточки на эту тему совершенно неуместны.
– Если взглянете налево, кстати, увидите предмет ее воздыханий. Филипп фон Хайзенберг, из-под Гюнцбурга.
– Он же старше нее раза в три…
– И примерно настолько же длиннее родословной. Гизелле всего семнадцать, но она уеет думать. К примеру, о том, что казна ее отца пустеет с катастрофической скоростью, брат так и не нашел приличной службы, земля по большей части распродана, а у фон Хайзенберга, кроме длиннейшего перечня предков, две деревни, собственный немалый надел и желанное звание холостяка.
– Из всего сказанного я делаю вывод, что все подозреваемые налицо, – подытожил Курт хмуро. – Id est, собрались в этой зале, пройдя по внешнему коридору этого дома, освещенному рядом огромных окон.
– А вы надеялись, что с наступлением темноты в залу войдет мрачный и бледный человек с горящими глазами и выпирающими клыками?.. Увы, майстер Гессе, работа предстоит немалая. Судя по всему, если и впрямь здесь замешан кто-то из родовитых обитателей ульмских предместий, то лишь как соучастник. С переданных вами слов Арвида я делаю вывод, что высший в нашем деле не участвует.
– И что вы полагаете выловить, поедая куропаток в их компании? Надеетесь увидеть, как кто-то впивается в ножку особо нездорово?
– Не тревожьтесь, это дистанционное общение вскоре закончится, наберитесь терпения. Когда мужчины придут в себя после вчерашних возлияний, а женская скука перейдет в тоску, все разбредутся по углам, и тогда вы сможете пообщаться с любым, не перекрикиваясь с избранным собеседником с разных концов стола. Собственно, еще до тех пор эти благозвучные музыканты обратятся в прыгунов, жонглеров и акробатов, а это явление довольно громкое, посему и перекрикивания тоже не будут восприняты как нечто неприличное.
– Майстер инквизитор! – окликнул один из гостей, и Курт медленно обратился к барону фон Эбенхольцу, до этой минуты что-то обсуждавшему с соседом. – Майстер инквизитор, скажите, отчего бы Императору попросту не ввести войска в ульмскую епархию?
– Спросите об этом господина фон Люфтенхаймера, – пожал плечами он; фогт вздохнул:
– Я бы и сам задал этот вопрос Его Императорскому Величеству. Но – наверняка у него есть свои причины медлить.
– Пока он канителится, – возразил фон Эбенхольц, – в окрестных деревнях назревают беспорядки. Эта городская независимость плохо сказывается на прочих подданных. И швабская вольность лишь все усложняет; не понимаю, чего ждет Император.
– Осторожнее, Лутгольд, – усмехнулся его сосед. – Хаять императорские деяния в присутствии инквизитора – не слишком хорошая идея.
– Меня обвинить не в чем, – фыркнул тот. – Я вслух говорю то, что думаю, и более мне ничего приписать нельзя.
– Это, друг мой, как повернуть; при большом желании обвинить можно кого угодно и в чем угодно, и майстеру инквизитору это наверняка известно лучше, чем кому бы то ни было. Скажите, майстер Гессе, смогли бы вы сейчас, после услышанного, выдвинуть обвинению барону?
– И вам тоже, – серьезно отозвался Курт, впервые с начала застолья отхлебнув из своего кубка. – Как вы верно заметили – смотря как повернуть. К примеру, из ваших слов я могу сделать вывод, что вы сейчас обвинили меня в недобросовестном подходе к ведению расследований, а это означает, что вы сомневаетесь в правоте Конгрегации вообще, что для верного католика просто недопустимо.
– Ха, – отметил барон фон Эбенхольц. – Съел, Вильгельм?
– И тем не менее, – не унимался фон Лауфенберг, – признайтесь, майстер инквизитор – если у вас возникнет желание, обвинение можно взять из воздуха, наполнить им же и раздуть до невероятных размеров, при этом не выдумывая лжи, а лишь иначе смотря на действительные слова и поступки.
– Только держите себя в руках, – едва шевеля губами, попросила Адельхайда неслышно сквозь беглую улыбку; Курт кивнул:
– Можно. При желании. Дайте мне две строчки из любой книги и две минуты времени – и я докажу вам, что автор еретик.
– Даже если это будут строчки из Писания?
– А вы полагаете, Священное Писание – ересь? – переспросил Курт заинтересованно. – Повторите это в присутствии Высокого Суда?
– Съел второй раз, – заметил фон Эбенхольц довольно. – Майстер инквизитор, обратите внимание на его вольнословие в вашем присутствии; наверняка это свободомыслие есть признак швабской крови, что, как мы услышали от баронессы фон Герстенмайер, ничто иное как иудейская примесь.
– Мои последние луга тебе все равно не достанутся, Лутгольд, – усмехнулся граф фон Лауфенберг. – Если меня арестуют и казнят, мои владения отойдут Императору. Верно, майстер инквизитор?
– Если вы не нажили эти владения незаконным путем – нет. Дерзайте, барон. У вас есть еще надежда.
– Увы, нет. У него есть наследница. Разве что Эрих согласен обождать с семейной жизнью еще лет пятнадцать-шестнадцать… Тогда, возможно, я и смогу наложить руку на его и в самом деле замечательные луга.
– Если я не продам их прежде, – состроил недовольную гримасу фон Лауфенберг. – Но идея сама по себе неплоха.
– Обсудим снова, когда она выберется из пеленок.
– Отец, – тихо выцедил Эрих фон Эбенхольц, глядя в стол.
– Достойных мужчин нашего сословия и сегодня днем с огнем, – вздохнул граф. – А уж что будет лет через пятнадцать…
– Эрих как раз войдет в возраст.
– Отец! – повторил тот с заметной злостью, оторвав взгляд от столешницы и не слишком успешно пытаясь прямо смотреть барону в глаза. – Я уже вошел в возраст – в тот возраст, когда могу сам принимать решения. Уж по меньшей мере о том, с кем связывать всю свою оставшуюся жизнь.
– Брось, – благодушно отмахнулся фон Эбенхольц. – Пока ты лишь вошел в годы, в которых принято дурить девицам головы; да и себе заодно. Ты еще сам не знаешь, чего хочешь, и мы оба это понимаем, верно?
– Я – отлично знаю, чего хочу, – возразил юноша твердо, отведя взгляд в сторону. – И поступлю так, как решил.
– Я тоже, – нежно улыбнулся барон. – Лишу к чертям наследства.
– Невелика потеря; его и без того осталась капля, – чуть слышно проронил Эрих, и фон Эбенхольц нахмурился.
– Я поговорю с тобой дома, сын. Не следует портить празднества прочим гостям, не виновным в том, что тебе неизвестно, что такое почтительность… Это новое поколение вовсе отбилось от рук. Майстер инквизитор, сделайте ему внушение. Ведь это прямое нарушение заповеди.
– Простите, – пожал плечами Курт. – Вы не к тому обратились, господин фон Эбенхольц. Я сам отношусь к этому поколению и наверняка тоже не всегда отличаюсь уважением к старшим.
– Вам это право дадено Знаком, – уверенно возразил барон. – А наши отпрыски, очевидно, заразились поголовной вседозволенностью. Господи, в наше время – могло ли мне прийти в голову спорить с отцом!
– Очевидно, нет, – с плохо скрытым сарказмом пробормотал Эрих и, не дав отцу ответить, повысил голос, устремив взгляд на фогта: – Господин фон Люфтенхаймер, простите меня за любопытство, если я влезу не в свое дело, но… Отчего ваша дочь сегодня не с вами? Она здорова?
– Да, – кивнул тот, тут же замявшись. – То есть… Не уверен. Ехать она отказалась, сославшись на недомогание, однако не думаю, что это нечто серьезное. Скорее всего, просто утомление. Жизнь в этих местах после придворной суеты… Думаю, она еще просто не привыкла к провинции. Скучает. И развлекается на собственное усмотрение; а эта новая всеобщая мода на книги не идет на пользу ее здоровью. По моему твердому убеждению, это занятие для монахов – засиживаться за рукописями допоздна, калеча глаза свечным светом; ну, быть может, для людей, занимающих важные должности, но не для девиц. Отсюда и головные боли, и общее изнеможение. Словом, выбраться со мною она не пожелала.
– Напротив бы – такой повод развеяться…
– Скажите ей об этом, – усмехнулся фон Люфтенхаймер. – Как я вижу, у нее с вами в характерах немало общего.
– Но вы говорили ей, что я буду здесь? – порозовев, уточнил Эрих, и фогт вздохнул, пряча усмешку в кубке:
– Простите, юноша. Не догадался применить столь безотказный прием.
– А отчего нет господина фон Шедельберга? – вновь подала голос хозяйка. – Граф фон Хайне, ведь вы должны были прибыть вместе. Вы всегда вместе.
– Бог дал, не всегда… – пробормотал тот тихо и, повстречавшись с каждым из направленных на него взглядов, отвел глаза в сторону. – Я не хотел говорить вот так… – через силу выдавил граф. – Не хотел пугать наших дам… Мы должны были повстречаться с ним по дороге – ведь я проезжаю через его землю по пути сюда… Мы уговорились о времени встречи – как всегда, в миле от его дома…
– Граф?.. – поторопила Адельхайда, когда фон Хайне умолк, нервно потирая ладонь, и тот вздрогнул, вжав в плечи голову.
– Мы так и не встретились, – продолжил граф нехотя. – Обыкновенно он ожидал меня со своими людьми – всегда в одном месте, но вчера там, где старая сосна у дороги… Он там висел. На ветке.
– Что значит – «висел»?.. – растерянно проронила Гизелла фон Эбенхольц, и граф, покривившись, словно от удара под ребра, отозвался с преувеличенной выдержанностью, скрывающей невысказанную грубость:
– В петле.
– О, Господи… – прокатилось по рядам единым выдохом, и лишь чуть наметившаяся тишина стала совершенной, отчего голос владелицы замка прозвучал, как крик:
– Ведь это убийство… это позор – имперский рыцарь, словно бродячий вор, вот так… И что вы сделали? Хоть что-нибудь вы сделали?
– Я скажу вам, что я сделал, – кивнул граф, уже не скрывая резкости. – Под ним на коре дерева был вырезан Wolfsangel. Я проехал мимо – вот что я сделал. Не останавливаясь. Не оборачиваясь.
– Фема…
Кому принадлежал этот почти шепот, Курт не разобрал, услышав в этом голосе лишь дрожь, страх и ненависть; тишина, и без того нерушимая, обратилась могильным безмолвием, в котором неспешные мелодии музыкантов звучали, словно похоронная песнь.
– Боже, и здесь…
– Фема везде, – тихо возразил фон Эбенхольц. – Чему удивляться. Уж здесь – всего менее.
– Это крестьяне, – убежденно произнес фон Лауфенберг. – В последние несколько месяцев они распоясались вконец; теперь призвали себе на помощь и Фему. Сводят счеты с нами. Попомните мое слово, вскоре они перебьют половину знати, а вторая половина сложит оружие перед ними.
– Император доберется до них прежде, – вмешался Эрих, и граф пренебрежительно фыркнул:
– «Император»; бросьте вы, юноша. Император едва может уследить за тем, что творится вокруг него в родной Богемии, откуда он почти не кажет носа, куда ему наводить порядки в Германии?
– Прошу прощения, – с нажимом выговорил фогт. – Не хотел бы показаться проповедником, однако попрошу вас быть более сдержанным в выражениях.
– Я неправ? – отозвался фон Лауфенберг, не смутившись. – Я сказал что-то ложное? Разве дела обстоят не именно так? Я не адепт противников «богемской крови на немецком троне», чтоб вы чего не подумали, меня тревожат вопросы иного плана, более земного, так сказать. И факт остается таковым: он не может контролировать все происходящее в Империи. Или не хочет – вот не знаю, что ближе к истине. Понимаю, что вам полагается быть верноподданнейшим из верноподданных по должности…
– По должности? – оборвал фогт. – Я скажу вам, почему я верноподданнейший из верноподданных. Когда-то отец нашего Императора взял меня, тогда еще сопляка из давно обедневшего рода, на службу; у меня не было ничего, кроме меча и мечты. Он дал мне службу, приблизил, позволил проявить себя. Его сын дал мне подняться. Императорский престол – первопричина всего, что я имею. Жизнь при дворе, граф, это не только увеселения и забавы; я видел изнутри, как, какими усилиями достигается все то, что вам здесь кажется само собой разумеющимся. Я могу согласиться поэтому, что следить за всей страной – почти невозможно, что можно не суметь или не успеть вовремя пресечь нечто или чему-то, напротив, помочь, но когда я слышу, что Император не хочет блюсти порядок в государстве…
– Господа, – предостерегающе окликнула Адельхайда, и фон Лауфенберг вскинул руки:
– Боже упаси, госпожа фон Рихтхофен, мы не ссоримся. Спорим, да, но не ссоримся. Мы не схватимся за мечи, не бойтесь… Пусть так, господин фон Люфтенхаймер. Сойдемся на том, что я неточно выразил свою мысль; ну, или на том, что не знаком со спе-цификой высших сфер. Согласен на то или другое на ваш выбор, ибо и слова я складывать не мастер, и в придворных кругах не вращался. Однако сказанное мною остается истинным: отдаленные от высшего ока места – словно бочонок с порохом в горящем доме. Пусть не сразу, но – рванет. Тушить надо уже теперь. Не знаю, отчего медлит наш Император. И предположить не могу. Но не могу не думать о том, что это промедление после скажется фатально. И эти крестьянские волнения – ведь они не вчера начались, и с каждым днем они все наглее, все бесцеремонней, все дерзостней. Все изобретательней. Вот теперь – Фема.
– Не стал бы я все списывать на одних лишь крестьян, – хмуро возразил граф фон Хайне. – В Феме, сами знаете, всех сословий, что называется, по паре.
– Меня более смущает иной вопрос, – тихо вклинился Эрих, все так же не поднимая глаз от стола, и старшие удивленно умолкли, обернувшись к нему. – Можно что угодно говорить об этих людях, почитать их кем угодно, хаять… Однако до сих пор мне не доводилось слышать, чтобы кто-то был казнен… убит Фемой безосновательно. Всякий, кто принял смерть от ее рук, что-то сделал – что-то недостойное. Я не хотел бы порочить память усопшего фон Шедельберга, но, коли уж он попал в число осужденных ею, стало быть – имел какой-то порочащий грех на душе.
– Господин фон Шедельберг для тебя, – сквозь зубы поправил его отец. – И благодари Бога, что здесь дамы… Но когда мы возвратимся домой, тебя ожидает крупный разговор.
– Быть может, проще не делать ничего, достойного кары, чем дрожать, этой кары ожидая?
– Эрих!
– В некотором роде он прав, – негромко проронил Курт, и теперь изумленные взгляды сместились к нему. – Я не могу говорить о покойном – я не знал его, однако и впрямь не доходило даже до нас хотя бы слухов о неправедном воздаянии.
– Ну, от вас я этого не ожидал, майстер инквизитор, – упрекающе протянул фон Эбенхольц.
– Я не намереваюсь их оправдывать, – оговорился Курт. – Отношение Конгрегации к Феме вам известно. У вашего сына в подходе к жизни, несомненно, есть здравое зерно, однако эти люди взяли на себя право вершить суд, вершить его скоро и всегда жестко, а с этим я согласиться не могу, как и любой здравомыслящий человек. И – как знать, не станет ли кто-то из нас первым в истории человеком, убитым Фемой ни за что, господин Эрих фон Эбенхольц? Хоть и вы сами. И понятие правды в подходе этих людей – какое оно? Кто знает. Мне доводилось видеть тех, кто не считал непозволительным убивать детей ради ими самими еще не определенного светлого будущего, и они почитали это за благо. Что за мир хочет видеть в этом будущем Фема?