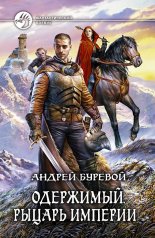Ведущий в погибель Попова Надежда

– Александер может, – возразил Курт, устанавливая фигуры на своей половине, и тот лишь раздраженно вздохнул, согласно мотнув головой.
Граф сдал партию еще трижды, все более ярясь с каждым проигрышем; неведомо, каковы были его умения в прочее время, но этим вечером стратегическим выкладкам явно мешало немалое количество выпитого. Довольно громкие и не всегда пристойные возгласы привлекли внимание молодежи с дальних столов, прежде переминающейся в сторонке; исполнить рекомендацию Адельхайды и сыграть со всяким присутствующим Курт не смог, однако по ту сторону стола побывало не менее пятнадцати противников, с каждым из которых удалось перемолвиться несколькими словами.
Того, как залу покинули женщины, никто почти не заметил; фон Лауфенберг приступал к игре еще многажды, с каждым разом сдавая партию все скорее и злясь все сильнее, и в конце концов фон Эбенхольц-старший едва не силой оттащил его прочь, вскоре выпроводив также и из залы под надзором двоих челядинцев.
– Граф не любитель проигрывать, – заметил фогт вполголоса, когда присутствующие оставили безуспешные попытки вырвать победу из цепких инквизиторских лап и разбрелись по углам. – Фон Лауфенберг известный гордец; поражение от вас – нестерпимый удар по самолюбию. От откровенных оскорблений вас защищает лишь Знак, а что выслушивает от него барон, не возьмусь и повторить. Столкновению в буквальном смысле препятствует лишь то, что терпение у парня ангельское, и он попросту пропускает мимо ушей все те эпитеты, коими награждает его граф.
– Александера вообще трудно вывести из себя, – согласился Курт. – Однако тот, кто разгромил его дом и убил его женщину, это сделал. И я не позавидую ему, когда они встретятся.
– А вы полагаете – встретятся, майстер инквизитор?
– Несомненно. Даже не полагаю – уверен.
– Снова ваша тайная информация, о которой нельзя говорить?
– Да, – подтвердил Курт с улыбкой. – Снова она.
– И… вы думаете, что он или вы сможете убить стрига?
– Voluntate Dei, – пожал плечами Курт.
– Да… – вздохнул фон Люфтенхаймер, отвернувшись к темному окну. – Божья воля… А вам известно, в чем она? Быть может, в том, чтобы вам погибнуть. Что тогда?
– Тогда погибну… – мгновение он молча смотрел на отстраненное лицо фогта и, вздохнув, тихо произнес: – Я и сам не особенно благочестив, господин фон Люфтенхаймер, невзирая на должность, каковая, казалось бы, к тому обязывает. До недавних пор при всех моих немалых знаниях о потусторонних вещах и вовсе был в некоторых отношениях скептиком, а во вмешательство благих высших сил в жизнь человеческую не верил, наверное, совершенно.
– И… что-то изменилось?
– Да. Я встретил святого. Серьезно, – подтвердил Курт, когда к нему обратился насмешливый взгляд. – Самого настоящего. Увидел чудо – самое настоящее. Вы ведь, как и все, весь вечер смотрели вот на это, – он чуть приподнял ладонь с четками, – и так же, как все, не спросили, для чего я их ношу… А если бы спросили – я и сам бы не ответил. Молюсь редко; да, увы. Странно для инквизитора, верно? Но это – его четки, того человека. И они со мной всегда.
– Надеетесь на небесное покровительство?
– Не знаю. Быть может. А возможно, ношу просто в память. Как некоторые, бывает, сохраняют какие-то вещи на память о потерянном человеке; вещи или что-то другое… или кого-то. Наша радушная хозяйка сохранила на память не только замок, но и саму жизнь своего (будем честны) покойного супруга. Сохранила – и ни за что не отдаст ни клочка этой жизни другому. Не продаст «любимого жеребца» сгинувшего барона, сколько бы за него ни предложили. Господня ли воля в наших потерях? В наших несчастьях? Не скажу. Не знаю. Я лишь человек.
– Когда я потерял жену, – медленно произнес фон Люфтенхаймер, по-прежнему глядя в темноту за окном, – дочери было пять лет. Она уже была достаточно взрослой, чтобы понять, что происходит – жена долго болела; но недостаточно взрослой, чтобы понять – почему. Она говорила «не умирай, пожалуйста», будучи уверенной в том, что мама исполнит ее просьбу, что – не может, просто не может сделать иначе, ведь без нее будет так плохо… Хелена спрашивала у меня, почему. За что так решено было – что ее мама должна нас оставить. Что она такого сделала, что я такого сделал, чем мы все провинились; если ей будет хорошо там… – фогт неопределенно махнул рукой над головою, – где-то… значит, маме будет хорошо без нее. Значит, маме плохо с ней. Я выслушал столько вопросов – всех тех, что могут задать лишь дети, тех вопросов, каких мы сами себе или другим никогда задавать не станем, потому что ответ будет такой же, как ваш: не знаю. А мы хотим знать. Знать, что все будет как надо, если и мы поступаем правильно. Что мы не будем терять близких. Что не будет смерти и несчастий для тех, кто не заслужил этого.
– Но ведь так не бывает, – возразил Курт мягко. – От смерти и боли никуда не деться – так этот мир устроен. Мы ничего не можем изменить, и, пытаясь удержать наших близких подле себя, все равно не можем противиться тому, что должно случиться, как бы ни старались. Разумеется, мы можем их защитить – от природных бедствий, от людской злобы, от болезней…
– Но не всегда.
– Но не всегда, – согласился Курт. – Увы.
– У вас есть семья, майстер инквизитор?
– Нет, – признал он. – Понимаю, что вы скажете – что мне вас не понять… Но у меня нет семьи, потому что я тоже потерял ее когда-то.
– И никогда не задумывались над тем, что – могли не потерять, что все могло быть, как у других, у тех, кто не терял?
– Другие утратят тоже – когда-нибудь. Это неизбежно. И наверняка у всего есть другая сторона.
– У потерь, бед и смерти?
– Знаете, кем бы я вырос, если бы не смерть родителей, господин фон Люфтенхаймер?.. Я не услышал бы от вас «вы» и «майстер» – в лучшем случае вы не заметили бы меня в толпе, а в худшем – быть может, пнули бы походя сапогом, чтобы не загораживал проход по улице… Но это не самое главное. Главное – множество тех, кому сумел помочь именно «майстер инквизитор Гессе». Они этой помощи не получили бы, потому что меня такого – не было бы. Это другая сторона моих несчастий – благополучие многих.
– Наверное, я недостаточно благочестив для того, чтобы заботиться о счастье сторонних мне людей, – невесело и натянуто улыбнулся фон Люфтенхаймер. – Но вы достаточно долготерпеливы для того, чтобы выслушивать от меня речи, отдающие ересью, и при этом не пускаться в откровенную проповедь; спасибо… Что-то сегодня я утомился, – вздохнул фогт, отерев ладонью глаза. – Наверное, отвык от всей этой суеты. Знаете, есть три возраста у человека. Первый, когда можно гулять всю ночь – и утром по виду этого не скажешь; второй – когда всю ночь гулял, и утром это заметно, а третий – спал, как убитый, а утром такой вид, будто всю ночь гулял… Я, кажется, вошел в крайний возраст – когда такой вид обретается уже вечером. Простите, если я прервал разговор и не дал вам высказать все, что высказать желали, майстер инквизитор, однако я вынужден покинуть это шумное общество; я и в самом деле устал.
Возражать Курт не стал, выразив понимание парой приличествующих фраз; к прочему, иные присутствующие также мало-помалу разбредались по комнатам, явно утомленные кто переездом, кто многодневными возлияниями и бдениями. Вскоре он также удалился – одним из последних, вместе с горсткой припозднившейся молодежи.
Глава 21
Утро пришло в его комнату вместе с юным Георгом фон Люнебургом, в чьи обязанности не входило подбирать за лошадьми, но чьим долгом было принести воды для умывания и вина для придания гостю бодрости. В принятии сего лекарства Курт необходимости не испытывал, однако парня поблагодарил как можно душевнее, путем нескольких кружных вопросов выяснив, что большинство гостей в эти минуты пребывает в состоянии прострации. Посему первый легкий завтрак будет подан каждому в комнату, но к обеду все должны будут собраться в главной зале для поглощения пищи всем сообществом.
Замковые обитатели пробудились уже давно, заполняя мир вокруг голосами и движением; из окна комнаты виделась часть двора, пересекаемого челядью с сосредоточенными серьезными лицами, и угол полупустого сада, безлюдного и тихого, навевающего совершенно не весеннюю тоску. Солнце поднялось над стеной, озаряя внутренний двор рыжим огненным светом, еще холодное по-весеннему, однако на небе не было ни облачка, и день, судя по всему, предстоял жаркий. Заняться с утра было нечем, спать больше не хотелось, разговоров с гостями, судя по полученной информации, сложиться не могло, и Курт еще долго стоял у окна, глядя на людской муравейник по ту его сторону.
Когда в саду мелькнула меж темных стволов человеческая фигура, Эриха фон Эбенхольца он узнал тотчас; еще минуту Курт пребывал в неподвижности, всматриваясь, следя за тем, куда направляется непочтительный отпрыск барона, и, попутно сдернув с табурета лежащую на нем куртку, вышел из комнаты. По коридору он прошел так быстро, как было возможно, не показавшись при этом бегущим, и, выйдя во двор, торопливо свернул вправо, заходя фон Эбенхольцу-младшему во фронт. Обогнув угол сада по дуге, Курт придержал шаг, опустив голову и глядя себе под ноги, и двинулся навстречу отпрыску уже медленно, неспешно и спокойно, остановившись с выражением удивления на лице, когда через минуту Эрих едва не споткнулся о него.
– Господин фон Эбенхольц? – выговорил Курт, остановясь, и тот встал тоже, равнодушно глядя на нежданного встречного. – И вы здесь; я уж полагал, из всех гостей лишь я один в силах самостоятельно перемещаться.
– И вам доброго утра, майстер инквизитор, – отозвался юный рыцарь отстраненно, двинувшись в сторону, и Курт, развернувшись, пошел рядом. – В целом вы правы – большинство еще и не вылезли из постелей… Как вам этот праздник обжорства и пьянства? Пасхальные торжества… Думаю, Господь и представления не имел, какие неприличные излишества будут прикрывать его именем.
– А вы сегодня не в слишком-то благодушном расположении духа, господин фон Эбенхольц, – заметил Курт, и тот покривился:
– У меня к вам просьба, майстер инквизитор: если можно – без «господина». Отчего-то в ваших устах это звучит как издевательство.
– Вот уж не думал, – искренне отозвался Курт, и рыцарь передернул плечами:
– И тем не менее. Если можно. Эрих. Будь вы здесь в качестве имперского рыцаря – правила дозволяли бы перейти и вовсе на «ты», но сказать такое инквизитору у меня не повернется язык.
– Как угодно. Так вот… Эрих. Я заметил, что вы не особенно увлечены упомянутыми вами празднествами. Неужто зрелище поедающих свинину гостей так глубоко бередит вам душу?
– Свинину, – кивнул тот. – Гусей, куропаток, кур, уток. Телятину. Снова куропаток и гусей; вино, пиво, снова вино, и – все сначала. День за днем. Просыпаясь утром с посиневшими лицами, чтобы все продолжить…
– Вы снова повздорили с отцом, – подвел итог Курт и, встретив мрачный взгляд, ободряюще улыбнулся: – Ничего. Мне сказать можно. Мне можно сказать многое.
– Такова служба, да? – договорил Эрих тихо. – И часто говорят? Разумею – добровольно.
– Не поверите, – кивнул он, и тот неопределенно повел плечом, пойдя дальше молча и не глядя по сторонам.
– Это все – не то, – вздохнул вдруг юный рыцарь, вяло махнув рукой вокруг себя. – Когда близился день посвящения, я ждал его с трепетом. Ждал, как вступлю в какую-то другую жизнь. И клялся во всем, что говорили: «уважай слабого, будь защитником его, защитником вдов, сирот, всякого немощного, защищай женщину, она часто притесняется беззаконно; крепко держись слова, не лги, будь щедр, будь великодушен»… Если сейчас спросить – все вспомню, наизусть. И что же? И где все это? И какой с этого толк? Слабого убивают, вдов и сирот сживают со света, немощного попирают, женщины… Да вам ли не знать. Все эти песни, что вчера звучали – ложь, вы правы. Мы не оберегаем их – используем, и покажите мне хоть одного, кто будет «хранить образ в сердце» год за годом, оставаясь верным этому образу. Слово нарушается, не задумываясь, ложь – основа жизни, скупость – добродетель, великодушие – почитается слабостью. Правды нет нигде. Поначалу я соглашался со стариками – вот нравы! Не то, что прежде… Но теперь начинаю задумываться – а существовало ли оно вообще, то время, когда все это исполнялось, когда было в нашей жизни? Или это сказка – легенда, написанная теми, кто хотел бы, чтобы было так…
– Однако же, – осторожно возразил Курт, – так живут не все. Или вам ни разу не доводилось видеть человека, исполняющего писаные и устные законы рыцарства?
– Ни разу. Наверняка потому, что таких сразу убивают… Или они уходят в монастыри – там им и место с подобными идеями. Хотя, и монахи, виденные мною за мою пусть и недолгую жизнь, мало похожи на тех, кем обещали быть при постриге, и священство…
– …да и инквизиторы не сплошь ревнители истины, – докончил Курт и, когда в его сторону метнулся настороженный взгляд, махнул рукой: – Это правда. Никуда не денешься. Люди слабы, Эрих, в первую очередь – слабы духом, отсюда все беды, предательства, пороки.
– И как жить в окружении этих пороков? Если я не желаю жить, как они, не желаю быть, как они… Я слышал – вы к рыцарскому званию пришли сами, из…
– Из низов, – подтвердил Курт благодушно, когда тот запнулся; Эрих кивнул:
– Стало быть, понятия не имеете, что это за мир. Это свора. Сожрут заживо, порвут на клочья, если только вы вздумаете быть не таким, как принято в их среде. Здесь все забыто, все то, что говорилось в тот особый день; здесь один закон – будь как мы или не будь вовсе. Вас от их напора защищает Знак, а я… Отец хочет, чтобы я был таким, как они. А я – не хочу. Я хочу другого.
– Справедливости?
– По меньшей мере. Если кто-то нарушает закон – за этим должна следовать кара. Ведь верно? Это справедливо.
– Но немилосердно… – пробормотал Курт тихо; Эрих кивнул:
– Пусть милосердие; но к раскаявшемуся. А здесь… Когда один из них поступает подло, поступает гнусно, предает идеи не только рыцарства – простую человечность! – от прочих требуется закрыть глаза, заткнуть уши, сомкнуть уста. Не видеть порока, не слышать жалоб обиженных, не говорить о том, что было. Покрывать друг друга, что бы и кто ни сделал. Это называется рыцарской братской общностью… к черту! Это называется потаканием злу. И любая попытка поступить правильно, поступить как должно – называется предательством… И где сила, способная им воспрепятствовать? Где те, кто смогут поставить на место зарвавшегося хама, приструнить подлеца, наказать мерзавца…
– …как Фема, – продолжил Курт, и рыцарь кивнул, спохватившись лишь через мгновение и уронив взгляд в землю.
– А и хотя бы, – тихо, но с непреконной убежденностью согласился Эрих. – Вчерашним вечером вы выставили их какими-то расчетливыми убийцами, но я знаю, что это неправда.
– Знаете, – повторил Курт. – Вот как. А ведь знать достоверно человек может лишь то, что видел собственными глазами и слышал сам. Или я неправ?
Фон Эбенхольц-младший умолк, сжав губы и побледнев, и Курт, вздохнув, взял его за локоть, остановив и встав на месте сам.
– Фон Хайне, – произнес он негромко. – Он участвовал в том, что натворил его повешенный приятель. Верно, Эрих? Ведь не из-за фогтовой дочки вы так сцепились с отцом. Вы знаете, что сделали те двое, вы считаете, что оба заслужили наказание, но так не считают ваш отец и его друзья, весь тот рыцарский круг, к которому вам теперь совестно принадлежать… Верно ведь?
– Да, – чуть слышно отозвался юный рыцарь, по-прежнему не глядя на собеседника. – Я знаю, я так думаю, я стыжусь. Стыдиться собственного отца – это мерзко, майстер инквизитор. Я понял вдруг, что ничего не делать – все равно что быть соучастником. Прежде мне не приходило такого в голову. А они соучастники – все. Все знают, почему произошло то, что произошло, но делают вид, что не знают ничего.
– А знает ли ваш отец о том, что вы связаны с людьми из Фемы? – вкрадчиво спросил Курт, и тот отшатнулся, глядя на него с нескрываемым испугом.
– Я не… – выдавил Эрих с усилием и, распрямившись, повторил, четко чеканя слова: – Я не связан с людьми из Фемы. Даю в этом слово, если вы способны моему слову поверить.
– Способен, конечно же, – кивнул он, – и верю. Верю в то, что не связаны; попросту я не так выразился. Вы не состоите с ними в постоянной связи, просто однажды… Что было, Эрих? Вас вызвали свидетелем на их суд? Ведь я знаю о них достаточно много, – продолжил Курт, когда тот не ответил, снова отведя взгляд. – Знаю, по крайней мере, как происходит свершение их правосудия. Вас вызвали – и вы не посмели не явиться; они этого не любят. Кроме того, когда вы узнали, по какому поводу… Думаю, в глубине души даже обрадовались.
– Не понимаю, о чем вы, – упрямо возразил тот; Курт кивнул:
– Это слова, которые выдают вас. Так – именно так – говорят все, кто на самом деле прекрасно понимает, о чем речь. Понимаете и вы, Эрих. И – я тоже все понимаю. Потому отец смотрит на вас косо? Он знает? Быть может, если я поговорю с ним…
– Нет! – поспешно возразил рыцарь и, потупившись, через силу выговорил: – Он не знает… Никто не знает. Не должен знать.
– Понимаю, – повторил Курт со вздохом. – Эти люди тоже блюдут свой кодекс – будь ты невиновен десять тысяч раз, но, если проболтался, наказанием будет смерть. Верно ведь, Эрих? Как по-вашему, это справедливо? Итак, – продолжил он, когда тот отвернулся, не ответив, – для начала расскажите мне, что такого натворил казненный ими фон Шедельберг. То, о чем все знают.
– Для чего вам это? – неуверенно возразил Эрих, и Курт пожал плечами.
– Все знают, – повторил он. – А я не знаю. Отчего чувствую себя довольно неуютно. Кроме того, быть может, рассказав, вы (как знать) измените мое мнение относительно столь почитаемой вами Фемы?
– Фон Шедельберг мерзавец, – тихо произнес юный рыцарь, все так же глядя в землю. – И получил по заслугам. Вы слышали – фон Хайне говорил, что тот намеревался женить сына на одной из своих крестьянок?.. И сын не возражал – это богатая семья, а фон Шедельберг был почти на грани разорения. Вот только ни та девушка, ни ее семья этого брака не желали – девица уже сосватана, у нее есть жених, у нее есть собственная жизнь. Что же – крестьяне не имеют на нее права? Право распоряжаться собственной судьбой вольному крестьянину дает имперский закон, в конце концов, и соблюдать его должны все, от этого самого крестьянина до Императора! Разве не так?.. Фон Шедельберг пытался их уговорить. Не вышло. Тогда он и фон Хайне явились в их дом… Знаете, крестьяне – парни здоровые, однако рыцарская выучка… Фон Шедельберг избил девушку. Избил ее отца и брата – он попросту вывернул парню челюсть; и вы бы слышали, как, с каким смехом и злорадством он об этом рассказывал. Потом нашел жениха этой девицы… Он теперь увечен, не может подняться с постели, и неведомо, сможет ли когда-нибудь… А теперь скажите мне, майстер инквизитор, расчетливые ли убийцы Фема или высшая справедливость? Скажите.
– В этой ситуации – не могу не признать, что с превеликим удовольствием и сам стоял бы подле того дерева и даже, быть может, вышиб опору из-под ног этого фон Шедельберга. В этой ситуации, – повторил Курт с нажимом. – В этом случае.
– Они сделали то, что не решался сделать никто, – продолжил Эрих уже уверенней. – И я в том числе… Та семья не пыталась призвать обидчика к ответу через закон, потому что это не имело смысла. Что случилось бы, если б кто-то из них попробовал? Даже если бы и началось разбирательство? Ведь на время расследования никто не стал бы заключать фон Шедельберга под стражу, майстер инквизитор, с него лишь, возможно, взяли бы слово, что он не станет «встречаться с семьей истца»… Слово, – презрительно покривился тот. – Будто для него это имеет значение… Он пришел бы к той семье снова и неведомо, что мог бы сделать на этот раз; и никто – никто! – не обратил бы на это внимания.
– Вы сказали «я тоже не решался». На что, Эрих?
– На то, что должен был бы сделать. Если подлеца не может покарать закон – его должны карать люди. Он нарушил рыцарский кодекс, я – блюду его… стараюсь, по крайней мере.
– И вы что же – намеревались послать вызов фон Шедельбергу?
– Я думал об этом, – вздохнул Эрих с тоской и на миг поднял глаза, тут же отведя взгляд снова. – Но какой я ему противник… Чего бы я достиг? Только собственной смерти, ничего при том не доказав и не добившись справедливости.
– А вот это верный подход, – заметил Курт; рыцарь поморщился:
– Знаю. Но на душе все равно было мерзко… И поэтому – да, я обрадовался, когда узнал, почему те люди велели мне явиться к ним. И – да, я рассказал, что знал. То, что слышал от фон Шедельберга.
– Участвовали оба, – заметил Курт. – Почему покаран только один?
– Фон Хайне лишь наблюдал. И даже пытался возразить… – неохотно пояснил Эрих и докончил с прежней горячностью: – Но не остановил! Ничего не сделал, даже пальцем не пошевелил!
– Однако Фема это во внимание не приняла, так? – уточнил Курт, и тот сжал губы. – По их мнению, он не виновен.
– Пусть живет. Пусть дрожит. Он лишь чудом сохранил свою жизнь, и пусть теперь боится; зато сам ничего подобного не сделает, потому что знает, что и на таких, как он, есть управа.
– Вы повторяете их слова, Эрих, верно? – убежденно предположил Курт. – Так они сказали. Вы с этим не согласны, ведь так?
– Да, не согласен, – откликнулся юный рыцарь тихо. – Я считаю – он виновен так же.
– Они оставили фон Хайне в живых, чтобы он не молчал, – наставительно выговорил Курт. – Это как раз тот случай, когда Фема не станет карать за словоохотливость; если он вздумает поведать кому-то, что случилось и как – им это лишь на руку. Это прославит их.
– Вы снова обвиняете их в холодной расчетливости? Ну, пусть и так, однако один виновник все же наказан, та семья больше не подвержена опасности с его стороны; это много больше, чем могло бы быть.
– Думаю, я вас понимаю, – кивнул Курт во вздохом. – И полагаю также, Эрих, что и вы меня поймете… Несколько вопросов. Как они связались с вами? Где происходило это судилище? Оставили ли вам возможность связи на будущее?
– Будете травить их? – с затаенным негодованием бросил рыцарь, и Курт качнул головой:
– У меня здесь другое дело. Мне не до них. Но когда вокруг действует некая сила – сила немалая, серьезная – я должен знать о ней, должен знать ее и… Быть может, мне самому придется когда-нибудь обратиться к ним же. Мне или нам.
– У Инквизиции собственная сила, тоже немалая; к чему вам они?
– Вы живете в предместье Ульма и все еще полагаете, что у Конгрегации есть власть? – спросил Курт с улыбкой. – В таком случае, вы вернейший из всех католиков и наипреданнейший из подданных, коли уж такого мнения о нас… Вы нам льстите. Не всегда и не везде, Эрих, есть у нас власть и есть сила. И любой, с кем можно договориться о взаимопомощи, ценен.
– Я никого из них не знаю, – ответил рыцарь не сразу, вновь медленно двинувшись вперед. – Ко мне подослали какого-то немого и глухого человека… или, быть может, он притворялся; не знаю. Я растерялся и не задумался об этом. Мне просто передали записку, и я явился на место, что было в ней указано. Ничего конкретного – подлесок, опушка, человек в маске; мне завязали глаза и долго кружили, посему я не могу сказать, куда в конце концов вывели. Там и состоялся их суд.
– И что же? Они упомянули о том, как можно снестись с ними впредь?
– Нет, – откликнулся рыцарь мгновенно, и Курт вздохнул.
– Неправда, Эрих, – с мягким укором заметил он. – Можете собою гордиться, вы истинный рыцарь: ложь – не ваш конек. Чего вы боитесь? Мести? Они о нашем разговоре не узнают. Того, что я устрою засаду? Я уже говорил – сейчас они не мое дело. Что засаду устроит Конгрегация в будущем? Мы не настолько глупы – это оборвет единственную нить, через которую можно наладить отношения с этой и в самом деле влиятельной организацией. Итак, Эрих, еще раз: как связаться с ними?
– Та самая опушка, – ответил тот спустя полминуты молчания. – Там есть дерево с дуплом… Туда можно положить записку. Это все… А теперь – можете ли и вы дать мне слово, майстер инквизитор? Слово – что не попытаетесь использовать услышанное, чтобы и в самом деле устроить засаду?
– Боитесь… – заметил Курт, и Эрих нервно дрогнул губами. – Понимаю. Не бойтесь. Если их тайное место будет раскрыто, обвинить в этом они могут не только вас – поверьте, не только вам Фема предоставила возможность донести, и вокруг вас наверняка еще не один и не трое, кому известно все то же дерево на опушке, то же дупло, тот же способ связи.
– Так значит, вы…
– Не значит, – возразил Курт, не дав ему договорить. – Не стану делать ничего подобного, как уже и сказал вам. Мог бы дать и слово, но… Совет на будущее, Эрих: не следует слишком доверять инквизиторскому слову. Обещаниям – иногда можно; клятвам, торжественным словам – не стоит.
– И вы говорите такое? – растерянно проронил юный рыцарь, на миг остановившись. – Неужели и вы, майстер инквизитор… Неужели совсем не почитаете все то, чему служите?
– Напротив, почитаю всей душой. Служу – всей душой. Отдаю – все, вплоть до души. Если будет надо, если того потребует восстановление той самой справедливости – готов и поступиться словом, и нарушить клятву. Это будет грех, но это будет мой грех. Камень на моей совести. Разобраться со своими прегрешениями я смогу после, если будет отпущено на это довольно жизни.
– А если не будет? Вы готовы отдать собственную душу на погибель?
– Если это потребуется. Если так будет надо. Если никак иначе… Хотите, скажу ересь? – предложил он с улыбкой, и Эрих настороженно покосился на собеседника, вновь придержав шаг. – «Как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно»; вы помните это? Никогда не думали, что, напротив, верхом христианской жертвенности является озаботиться сперва ближним своим, а уж после – собою?.. Я, конечно, не образец добродетели, – усмехнулся Курт, когда рыцарь смятенно замялся, – однако же, моя работа состоит в том, чтобы извлекать сучки, а сколько бревен останется при этом во мне самом – вопрос второстепенный. И если ради того, чтобы вынуть этот самый сучок, собственные глаза придется засыпать телегой бревен – я это сделаю, потому что так надо.
– А иначе – нельзя? Не ставя спасение других и собственную душу на разные чаши весов?
– Пытаюсь, – уже серьезно ответил Курт. – Пытаюсь, как могу. Вы еще мало видели в жизни, Эрих, так поверьте мне на слово: порою невозможно влезть в болото, чтобы вытащить тонущего, и не выпачкаться при том по уши.
– Или не утонуть самому?
– Случается и такое. Такова жизнь. Такова моя служба.
– Я вам не завидую, – тихо проронил Эрих, и он невесело усмехнулся:
– Да, завидного мало. Но кто-то же должен это делать – должен, чтобы не приходилось другим.
Тот не возразил, лишь молча вздохнув и вновь уставясь себе под ноги, и Курт тоже умолк надолго, давая ему как следует переварить услышанное и размышляя над тем, что услышал сам. Вывод из прошедшего разговора был очевиден: смерть одного из приглашенных не имеет отношения к делу, не имеет связи с расследованием, и Адельхайда вместе с давшим ей указания руководством, скорее всего, правы: не имеет никакого касательства к происходящему и присутствие в ульмской епархии «человека, похожего на Каспара».
На то, чтобы пересказать Адельхайде свои выкладки, Курт нашел лишь минуту – за коротким обедом царила тишина, в которой каждое слово, произнесенное даже шепотом, слышалось всем, и лишь после трапезы, проходя по освещенному коридору, он сумел вкратце изложить полученную информацию. «К нему надо бы подпустить вербовщика, – подвел итог Курт, – пока парня с такими заскоками если не Фема, то тевтонцы не прибрали к рукам», и та кивнула: «Вот вы этим и займетесь – по окончании дела, раз уж он к вам так благоволит».
По завершении обеда гости разбрелись по комнатам, и пообщаться удалось лишь с кучкой скучающей молодежи, устроившей вялую тренировочную потасовку на заднем дворе дома. Участие майстера инквизитора в их игрищах обеспечило поклонение новопосвященного рыцарства, для чего пришлось совершить над собою некоторое усилие и отказаться от самых эффективных и действенных приемов, каковые были бы сочтены, без сомнения, бесчестными, подлыми и низкими. Никакой отдачи, однако, кроме короткой разминки и беспредметного обсуждения тайн следовательской и рыцарской личной жизни, от проведенного во дворе часа Курт не получил.
К трапезе гости были созваны много раньше, чем вчерашним вечером, и начиналось застолье еще более пасмурно и тихо; судя по взглядам, бросаемым присутствующими друг на друга, за минувшие полдня фон Лауфенберг успел разругаться с фон Эбенхольцем, барон снова поцапался с сыном, фон Хайне равно не переносил всякого в этой зале, фогт косился на местного замкового капеллана с неодобрением, и лишь молодежь у дальней оконечности стола чуть слышно перешептывалась между собой, поглядывая на высшее общество настороженно. Владелица твердыни, кажется, не замечала ничего, и в тишине по временам слышался ее режущий слух сильный голос, повествующий о былых днях, о ценах на зерно и еврейских поползновениях на господство над добрыми христианами…
Когда от ворот послышался звук рога, Курт вздрогнул от неожиданности, вопросительно покосившись на Адельхайду; в замковых правилах и особенностях он так и не разобрался, и теперь ожидал реакции хозяев напряженно, не зная, на какое продолжение вечера надлежит рассчитывать.
– Быть может, Александер, – предположил фон Эбенхольц, и фон Хайне мрачно усмехнулся:
– Кроме двоих – все здесь. Надеюсь, это не фон Шедельберг. Это было бы неуместно.
– Граф! – с укоризненным ужасом ахнула хозяйка, и тот передернул плечами, отведя взгляд в стол:
– Прошу прощения.
Зал оживился, выкарабкавшись, наконец, из безмолвия; присутствующие вертели головами, озираясь на окна, едва лишь затемненные сумерками, на тяжелые дверные створки, и когда на пороге появилась высокая тонкая фигура в немыслимо вычурном камзоле, над столом пронеслись довольные восклицания.
– Александер! – с радостным упреком возгласил фон Лауфенберг, махнув приветственно рукой и едва не задев при этом локтем своего соседа. – Это попросту свинство; где тебя носит?
– И я рад вас видеть, Вильгельм, – широко улыбнулся стриг, прошагав к столу, и уважительно склонил голову в сторону владелицы замка: – Баронесса фон Герстенмайер; мое почтение… Я вижу, меня уже и не ждали, – заметил он, не обнаружив стула поблизости от хозяйского места, и оный стул явился тотчас, принесенный неведомо кем и откуда. – Je demande pardon, задержали неотложные дела.
Голоса вокруг шумели все беззаботнее, и пока подле стола затихала короткая суета с усаживанием припозднившегося гостя, Курт разглядывал новоприбывшего пристально и придирчиво. Фон Вегерхоф сегодня был не тем, кого он видел всего два дня назад в полупустой трапезной ульмского дома. Его обыкновенная бледность стала уже не такой явственной, потускневшие за последние дни глаза оживились, а на щеках выступило даже некоторое подобие здорового румянца.
– А где-то, – чуть слышно пробормотал он Адельхайде, – придя в себя в переулке, какая-то ночная пташка еще долго думала – отчего же так болит шея.
– Одной пташкой, думаю, не обошлось, – так же тихо отозвалась та.
– Ты проворонил все самое интересное, – громко заметил фон Лауфенберг. – Снова. Принять участие хоть в одном турнире тебе претят какие-то принципы? У тебя их, кроме рыцарских, еще уйма – торгашеские, монашеские…
– Турнир? – брезгливо переспросил фон Вегерхоф. – То есть, грохот, толкотня и свалка на забаву зевакам? Fi. Как вульгарно.
– Мой супруг, – высокопарно возразила хозяйка, – в молодости своей прославился мужеством и благородством в турнирах! И мне жаль видеть, что новое поколение относится к этому торжеству отваги с таким пренебрежением.
– Le Chevalier sans peur et sans reproche[152] – это весьма эпично, – согласился стриг легкомысленно. – Не следует так сокрушаться о молодом наследии, баронесса – взгляните на Эриха. Я уже успел услышать о его подвигах.
– О, да, – язвительно усмехнулся фон Лауфенберг. – То, как он проехался по грязи всей физиономией – это, несомненно, величайшее из достижений. Такой мощной борозды в земле не оставлял еще никто за всю историю турниров.
– И вы удивляетесь, что я не участвовал? – сморщил нос фон Вегерхоф, не дав юному рыцарю разразиться ответной тирадой. – Грязь, кровь, испорченное платье и сотрясение мозга… Que c’est vilain[153].
– Слава, – все же вклинился Эрих оскорбленно. – Возможность вознести честь своей дамы. Приз, в конце концов. Неужели вам ничто не близко?
– Слава нужна юным, – отмахнулся стриг. – Приз – неимущим. А дамы, чья честь требовала бы возвышения, у меня нет.
– И напрасно, – наставительно проговорила баронесса фон Герстенмайер. – В ваши годы, барон, пора становиться мужчиной, пора думать о семье и потомстве. Подумайте о будущем вашего рода; вы единственный фон Вегерхоф, оставшийся в живых, и что же будет, если с вами приключится несчастье?
– К примеру, если свернут шею на турнире, – согласился стриг, адресуясь к фон Лауфенбергу, и тот пренебрежительно фыркнул. – Семейная жизнь, баронесса! Господь с вами; я еще слишком мало пожил, чтобы собственными устами изречь перед алтарем «да, казните меня».
– Вам нужна серьезная женщина, – категорично возразила та, и Курт услышал, как Адельхайда рядом с ним вздохнула с усталым недовольством. – Которая могла бы вас воспитать.
– Думаю, из этого возраста я уже вышел. А если и соберусь когда-нибудь жениться – Dieu prserve! – баронесса, ни в коем случае не на серьезной женщине – они всегда делают жизнь невыносимо унылой. Уж лучше легкомысленная; эти, по крайней мере, не дают расслабиться.
– Жениться, барон, надо на женщине с хорошей родословной.
– Боюсь, хорошую родословную я способен оценить лишь при покупке лошади, – улыбнулся тот, и фон Лауфенберг передернул плечами:
– А разница невелика. Те же требования: хороший круп, красивая поступь и здоровые жеребята.
– Граф, – с подчеркнутой укоризной произнесла Адельхайда, и тот склонился в ее сторону:
– Вы – не женщина, госпожа фон Рихтхофен. Вы сказка.
– Я предпочитаю жить в реальности, – заметил фон Вегерхоф. – Она не имеет обыкновения заканчиваться неправдоподобно хорошо.
– И что же дурного в хорошем завершении?
– Ничего, госпожа фон Герстенмайер, – улыбнулся стриг. – Ровным счетом ничего.
Владелица нахмурилась, оторопело хлопая белесыми редкими ресницами, однако с ответом так и не нашлась, умолкнув и надолго впав в задумчивость.
– Быть может, турнирные забавы и не самое большое увлечение Александера, – вмешался Курт с усмешкой, – но на двухцветном ристалище он ни разу не пал, насколько мне известно. Помнится, господин фон Лауфенберг, вы намеревались его сокрушить. Надеюсь, сегодня мы это увидим?
– А вам так по сердцу смотреть, как меня бьют, майстер инквизитор? – покривился граф. – Вчерашнего вечера вам показалось мало?
– Сдаетесь до боя? – уточнил фон Вегерхоф удивленно. – А я рассчитывал на острую баталию.
– Сдаюсь? Я?.. Не дождешься. Как только ты будешь готов, я устрою тебе хорошую взбучку.
– А я, пожалуй, не стану позориться, – вздохнул фон Эбенхольц. – Для моих старых нервов это слишком.
– Что это с вами? – удивленно озирая помрачневших гостей, осведомился стриг, и фогт кивнул в сторону Курта:
– Спросите своего друга, барон. Вчерашним вечером он более двух часов попирал наше самоуважение; после этого садиться за игру с вами не просто самонадеянность, а безрассудство.
– Гессе? Неужто? – оживился фон Вегерхоф и, когда Курт развел руками, широко улыбнулся: – Моя школа.
– Рано или поздно ты сделаешь ошибку, – уверенно сказал фон Лауфенберг. – Все ошибаются когда-нибудь.
– Завтра начнут разъезжаться по домам, – шепнула Адельхайда со вздохом, и Курт непонимающе нахмурился:
– Серьезно? Откуда такие выводы?
– Гости пресытились; думаю, и вы это заметили, – пожала плечами она. – Начинают скучать, и даже появление Александера не спасет ситуацию… К тому же, завтра пятница, последний день на то, чтобы приготовиться к завершению Пасхальной октавы, а кроме того, эти празднества длятся вот уж четвертый вечер, и примитивная благопристойность требует избавить, наконец, хозяйку от своего присутствия. Ну, и, в конце концов, простая statistica. Когда эти пиршества начинают завершаться рано, еще до темноты, это означает, что присутствующие исчерпали запасы сил и намерены возвратиться к обыденной жизни, к делам, к каждодневным необходимым заботам. Фогт уж точно уедет – у него этих забот немало; фон Лауфенберг также не может оставить имение надолго – слышали сами, майстер Гессе, в его владениях сейчас неспокойно. Фон Хайне останется, правду сказать: этот не покинет стен замка, пока его прямо не попросят…
– Иными словами, – подытожил Курт хмуро, – на то, чтобы разобраться в деле, нам остается этот вечер и завтрашнее утро. Я верно понял?
– Да, если наш подозреваемый не окажется среди оставшихся. Молитесь, майстер Гессе, чтобы именно это и произошло.
– Как я вижу, ваши надежды на то, что виновный занервничает и наделает глупостей в моем присутствии, не оправдались?
– Не знаю, – отозвалась Адельхайда с неудовольствием. – Фема, примешавшаяся к нашему вчерашнему ужину, оспорила у вас пальму первенства по части воздействия на умы и души. Сложно теперь понять, отчего на самом деле так возбужден фон Лауфенберг, почему немыслимо много даже для него пьет фон Хайне и что стоит за постоянными тычками Эриху от его отца – любовь парнишки к народным мстителям, или к этому примешалось что-то еще.
– Прошу прощения, если выскажу оскорбительную нелепость, – продолжил Курт, – однако хочу спросить: а ваша тетушка ведет себя так, как обычно? Будь это посторонний человек, я предположил бы неожиданное возвращение тридцать лет отсутствующего супруга…
– Тетку я проверила в первую очередь, – не моргнув глазом, кивнула Адельхайда. – Ее замок – в некотором смысле территория проведения операции и мое прикрытие; неужто вы полагаете, что я оставила бы спину незащищенной?.. Эта версия мне пришла в голову одной из первых: о том, что некоторое участие в расследовании смерти мужа я принимала, полностью скрыть не удалось, и месть оставшихся, быть может, в живых стригов из обнаруженного мною клана вполне могла иметь место. А если предположить, что кому-то стало известно о моем чине в Конгрегации или должности в имперской разведке… Но – нет. Тетка непорочна, как кладбищенский камень. Я положила довольно сил и времени, чтобы говорить такое с уверенностью.
– Обидно. Версия на поверхности и такая удобная… – вздохнул Курт и, спохватившис, оговорился: – Простите.
– Ничего, – благодушно улыбнулась Адельхайда. – Многие, знающие мою тетушку дольше года, пожелали бы увидеть ее если не на костре, то уж за решеткой; взгляните хоть на фон Лауфенберга. Но, если вычесть из ее характера contra-еврейские пунктики, помешанность на рыцарской истории и желание во что бы то ни стало женить на мне Александера – она весьма даже сносна.
– Так вот к чему эти проповеди о семейной жизни.
– Местное высокое общество вообще поголовно уверено, что рано или поздно это произойдет, – недовольно пояснила она. – Ведь я навещаю тетку сравнительно часто, и мы с Александером общаемся не первый год… Однако во мнении собравшихся дам ему наметился противник, знаете?
– Фон Эбенхольц старший или младший?
– Ну, майстер Гессе, какая вопиющая ненаблюдательность и несообразительность… Вы, разумеется. «Ах, милая, вы так шушукаетесь с этим инквизитором; неужели!..»; знаете, вы вообще покорили всю женскую половину. Таких мрачных, но непостижимо очаровательных типов они не видели, быть может, ни разу за всю свою жизнь.
– Excellenter, – с досадой бросил Курт. – Только сомневаюсь, что руководство оценит мои столь своеобразные достижения, посему в отчете я этого указывать, пожалуй, не стану.
– Наша задача, – посерьезнев, вздохнула Адельхайда, – сделать так, чтобы отчеты вообще имели смысл. Надеюсь на вас, майстер Гессе, даже, быть может, больше, нежели на Александера. Он, разумеется, может уловить человеческую реакцию, невидимую и неощутимую для нас с вами, однако простое общение, оговорка, мгновенная несдержанность – это в нашем положении значит едва ли не больше. Со мною, при всех моих привлекательных для них сторонах, откровенничать не станут, Александер, по их мнению, для этого недостаточно серьезен, и кроме того, мы оба – из их круга, близкие знакомые, а высказывать тайны своим человеку не свойственно. Вы же во всех отношениях пришлись ко двору. Говорите с ними – говорите со всеми, о чем угодно. Предчувствую, что уже через четверть часа, не больше, фон Лауфенберг выдернет Александера из-за стола, и все разбредутся по углам; у вас будет неплохой шанс. Я на вас рассчитываю, майстер Гессе; больше не на кого.
Глава 22
Фон Вегерхофа граф увлек к шахматному столу менее чем через десять минут; большая часть мужской половины гостей последовала за ними, однако Курт остался у стола трапезного, лишь пересев ближе к апатичному фон Эбенхольцу.
– Вы не с ними, майстер инквизитор? – с легким удивлением уточнил тот, и он отмахнулся:
– Ничего нового. Александер обставит каждого, граф фон Лауфенберг вновь начнет бесноваться… не хотел бы обидеть вас, вы друзья, но – зрелище он в эти минуты представляет малоприятное.
– Я так посмотрю – вам вообще все происходящее доставляет мало удовольствия, – заметил фон Эбенхольц убежденно. – Не похоже, что вы любитель шумных застолий.
– Отчего же, случаются застолья, и шумные – вот только в другом окружении.
– Слишком много незнакомых людей?
– «Слишком много людей» просто, – улыбнулся Курт вскользь. – Мне привычнее шуметь в обществе двух-трех приятелей… ну, и, возможно, пары девиц; и пусть они будут незнакомыми. Избыток людей вокруг меня несколько утомляет; и ведь у каждого свои тайны, грешки, темные мысли…
– …не вникать в которые вы не можете, – докончил тот, и Курт пожал плечами:
– Привычка.
– Давно служите?
– Два года.
– Быстро приобретаете привычки?
– Приходится. Жизнь требует. Теперь, входя в помещение, я смотрю, какие потаенные уголки могут быть использованы для укрытия, видя слишком сильную привязанность между мужчиной и женщиной, думаю, не приворот ли здесь… Если кто-то любит лунные ночи – не оборотень ли он, если слишком бледен – не стриг ли…
– Александера проверяли? – усмехнулся фон Эбенхольц, и Курт улыбнулся в ответ:
– И если кто-то становится близким другом – это тоже повод насторожиться. Моя жизнь – это тьма, злоба, предательство.
– Не может же все быть настолько плохо.
– И различное «не может быть» – также часть моей жизни. Немногочисленные приятели уже давно смирились с моими взглядами на бытие – Александер, к примеру, просто махнул рукой на попытки сделать из меня милого и приятного в общении юношу.
– Александер вообще предпочитает махать руками на все, что требует напряжения, кроме того, что составляет его страсть, как, к примеру, эти древние игрища. Игра благородная, не отрицаю, однако никогда не понимал тех, кто засиживается за ней до ночи. Думаю, эти торговые дела, при всей их прибыльности, привлекают его более потому, что интересны. Не знаю, евреи там или нет, однако всем известно, что в торгах главное – облапошить первым, и пока ему это удается, он счастлив… Но все прочее, ради чего надо делать над собою усилие, ему не по душе. Наверное, утратив обоих родителей и чудом выжив после чумы, он убежден, что теперь заслужил жить; жить так, как ему заблагорассудится. Получать от жизни удовольствие и избегать всевозможных досадностей. Никто здесь об этом не говорит, но всем известно, что, кроме мебели и слуг, он потерял еще кое-кого; я ожидал его увидеть в печали, однако… Вероятно, печалиться об утраченных возлюбленных, по его мнению, «банально» или «утомительно»; или же просто – страшно. Гибель близких напоминает о собственной близящейся смерти.
– Думаю, здесь дело в другом, – возразил Курт, бросив исподволь взгляд на оживленное лицо фон Вегерхофа. – Попросту он знает, что постного лица и сожалений о потере какой-то содержанки здесь не поймут. И, признайте, господин фон Эбенхольц – не поняли бы.
– Не все. Вильгельм – возможно, в его предках запутается и он сам… А знаете, что, к примеру, я женился на дочери человека, взявшего в супруги купленную им когда-то женщину? Она работала в его замке.
– Неужто? – с искренним удивлением переспросил Курт. – А я полагал, что подобные истории остались в песнях и сказках.
– Как видите – нет. Теперь же и вовсе – времена меняются, меняется многое. Александер сумел к этим переменам приспособиться, а мы, старики, увы – нет; мы привыкли жить согласно традициям и в новом бытии смыслим мало. А поскольку возвращения старых добрых времен не предвидится – Император явно намерен идти в ногу с переменами – то и нам впереди места не представляется. Нам судьба разоряться, умирать и освобождать место для новой поросли, как древним деревьям в лесу. Попытки нашей хозяйки и подобных ей ревнителей старины держаться установленных правил, следить за чистотой рода, блюсти благородство линии не имеют смысла, все это – предсмертные судороги.
– И что же, по-вашему, является верным подходом к жизни, барон?
– Александер – при всех его недостатках – выбрал верный подход, – отозвался фон Эбенхольц уверенно. – Жизнь надо брать за горло. Я уже не могу – какая хватка в мои-то годы?.. А вот Эрих мог бы. Мог бы, однако не желает этому учиться; теперь начинаю жалеть, что с детства развлекал его рыцарскими сказками – он вырос слишком возвышенным, от реальности совершенно отвлеченным и не имеющим понятия о том, что такое жизнь человеческая. В его представлении это благородство, доброта и любовь…
– …к дочери фон Люфтенхаймера, – договорил Курт и, увидя, как собеседник поморщился, спросил: – Что плохого в подобной партии? Ландсфогт – чем вам не угодил?
– Тем, что он – ландсфогт, – пояснил фон Эбенхольц недовольно. – Это политика, майстер инквизитор, а политика есть нечто схожее с вашей жизнью – тьма, злоба, предательство. Все меняется в минуты. Сегодня он ландсфогт, его сын – особа, приближенная к Императору, его дочь – завидная невеста; а завтра? Император сменится, и новый престолонаследник решит поставить всюду своих людей, которым он верит; и что будет с прежними? с их семьями, включая детей и племянников до седьмого колена?.. Я знаю, как это бывает, майстер инквизитор. В лучшем случае – лишение имущества и чина, в худшем – плаха и обвинение в измене.
– Откуда такие мрачные взгляды на будущее, барон? Подобное развитие событий теперь, как сказал бы Александер, не в моде; околопрестольных чисток не проводилось вот уже два поколения Императоров.