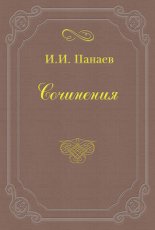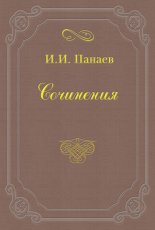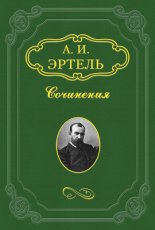Два брата, или Москва в 1812 году Зотов Рафаил
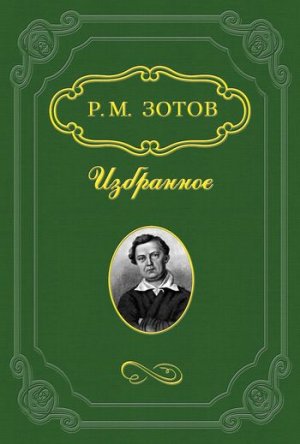
Я откланялся и уехал.
23-го августа.
Я был у Громина. Он мне очень обрадовался… Но когда я ему рассказал все, что со мною случилось, он немного нахмурился.
– Напрасно я согласился оставить вас в Петербурге, – сказал он. – Здесь бы вы шли прямо по стезе долга и чести… а там женщины как раз собьют с нее хоть кого… Брат ваш теперь при мне. Ступайте, повидайтесь с ним… К обеду будьте у меня. Я постараюсь помирить вас.
От Громина я пошел к брату. Когда преступника ведут к допросу, то у него непременно должны быть те же самые ощущения, какие у меня были в эту минуту. А когда я его увидел, то воображал себя Каином, у которого гремящий голос бога спросит: где твой брат Авель?
Увидя меня, он изумился, по не обрадовался.
– Зачем ты приехал? – спросил он.
– Хотел с тобою видеться…
– Со мною? Что это значит? Не случилось ли чего?
Быстрый и недоверчивый взор его старался прочесть в чертах моих гибельную тайну.
– Можешь ли ты меня выслушать спокойно? – спросил я.
Он молчал несколько мгновений, потом, как бы сделав усилие над собою, сказал:
– Говори!
– Любил ли ты Турову? Любишь ли ты ее еще теперь?
– К чему этот вопрос?.. Ты хочешь мне сказать что-то ужасное… Дай мне собраться с силами… Впрочем, говори! я на все готов. Она умерла?
– Нет, жива, но…
– Боже мой! Так, верно, еще хуже!..
– Для тебя хуже… Она жена другого!
Он пристально посмотрел на меня, побледнел и отвернулся… Мы оба молчали, и это было безмолвие смерти. Оба чувствовали весь ужас своего положения, и слова не могли его выразить. Я наконец решился прервать молчание. Оставалось нанести еще удар, и самый чувствительный.
– Этого еще мало, брат, – сказал я, – ты не знаешь, кто ее муж?
Мрачно посмотрел он на меня и почти шепотом спросил:
– Кто?
– Я!..
Сказав это, я чувствовал, что силы меня оставляют, и почти без чувств опустился я на деревянную скамью.
Что еще рассказывать об этом ужасном дне, об этом печальном свидании? Мы мало говорили, но много сказали друг другу. Я отдал брату письмо от моего тестя, и оно привело его почти в изумление. Я старался представить все в самом простом и естественном виде, – брат видел в этом всю утонченность обмана. Наконец мы расстались, и навсегда. По крайней мере, брат объявил мне, что если я когда-нибудь назову его братом, то он обесчестит меня перед всеми.
– Чтоб никогда я тебя не видел, не знал, чтоб никогда о тебе ни слова не слыхал.
Это были последние его слова, которые будут греметь в ушах моих во всю жизнь, которые будут провожать меня на суд всевышнего. С растерзанным сердцем я ушел и не стыдился плакать целый час.
К обеду я пришел к Громину, но брат не являлся. Он послал за ним, но тот сказался больным и прислал рапорт, чтоб его отправили в госпиталь. Громин велел ему сказать, что мы с часу на час ожидаем сражения и что к этому времени в русском войске не бывает больных.
Я должен был пересказать Громину все наше свидание, и добрый старик, видя мое терзание, меня же старался извинить и успокоить.
Что со мною будет?
28-го августа.
Завтра сражение! Слава богу. Может быть, все мои страдания кончатся.
Я не буду искать смерти. Нет, чувствую, что жизнь мне дорога, потому что с нею сопряжена жизнь моей Веры, которая не переживет меня… Но если меня убьют… тогда… не все ли несчастия прекратятся? Я не буду знать, что после меня случится…
Журнал мой оставлю я моему брату. Он увидит из него весь ход моих несчастий и, может быть, простит меня.
Мне бы надобно было написать завещание на случай смерти… Но к чему это? Брат и без того мой наследник. Пусть он возьмет все. Вера ничего не захочет взять. Помнить же и любить меня она и без того будет во всю свою жизнь. Впрочем, я не связываю ее воли. Она еще молода. Если я погибну, то пусть она сделает чье-либо счастие… Может быть, даже сам брат мой… О! если б это случилось, то я заранее прощаю обоих. Там, в лучшем мире, нет ненависти и земной любви. Там я буду их обоих любить равно. Прощай, моя Вера, мой единственный, бесценный друг. Я люблю тебя выше всего на свете! Ты мое единственное счастие, моя радость, мое утешение! Ты, ты мое все! прощай; завтра или я полечу к тебе на радостное свидание, или с высот буду взирать на тебя и в сновидениях утешать твою печаль. Еще раз прости до завтра!
Глава III
Продолжение журнала
3-го марта 1781
Мог ли я думать, что журнал мой, который я начал таким легкомысленным образом, будет прерван такою грустною катастрофою и потом возобновлен в таком несчастном положении? Где я? Что со мною будет?.. Я в Константинополе, в плену, в неволе, и несчастная жизнь моя протечет далеко от святой родины, от милой моей Веры…
Я едва сам себе верю, читая написанные слова… А все-таки я чувствую сердечную радость, глядя на эти буквы… Я так давно не видал ничего родного, так давно не писал… Мой господин (да! у меня есть господин, который по своей воле и охоте может меня умертвить!)… мой господин долго не позволял мне иметь бумаги и чернил. Наконец, видя мою покорность судьбе, мое безропотное терпение, мой кроткий и печальный нрав, согласился на мою просьбу и позволил мне писать с тем, чтоб я своего писанья никому не передавал…
А кому? куда? о чем?.. Добрый ага! Я благодарен ему и за это позволение… После шестимесячного страдания это – первая утешительная для меня минута… Я пишу, я расскажу самому себе свой бедственный жребий, я буду вверять самому себе свои печали и чувства, и самого себя буду утешать. Кто знает таинственные пути провидения? Может быть, оно назначило мне эту годину испытания за мой поступок с братом, и, может быть, мои страдания смягчат правосудие неба… Может быть, судьба дозволит мне когда-нибудь увидеть мою родину, мою Веру… О! только бы на одну минуту взглянуть на них, обнять их и умереть.
Памятный, ужасный день 29-го августа! Мы выступили до рассвета. Корпус Громина должен был сделать обход, чтоб к полудню очутиться в тылу неприятельском… Мы должны были решить битву и довершить поражение… Случилось совсем иначе… Мы не знали, что к великому визирю, стоявшему перед нами, сераскир анатолийский ведет на помощь новую армию и что она уже в 20-ти верстах. Впрочем, мы совершили свой обход очень удачно… Турки по беспечности своей не рассылали патрулей на флангах, и мы прежде полудня пришли на назначенное место. Мы были в тылу неприятельском, верстах в 5-ти от поля сражения. Гром орудий давно уже возвестил нам, что сражение началось, и мало-помалу, к величайшей нашей радости, этот звук приближался к нам. Значит, наши одерживали верх, и скоро должна была начаться и наша работа… Вдруг патрули нашего арьергарда донесли нам, что несметная сила турок идет на нас с тыла… Никто не хотел верить… Армию их мы обошли, какая же еще армия могла идти на нас с другой стороны… Мы, однако же, приготовились к бою, выслали вперед кавалерию и через несколько времени увидели всю опасность своего положения… Мы были между двумя армиями, не зная вовсе о существовании той, которая шла против нас… Впрочем, и сераскир изумился не менее нас. Он шел, чтоб соединиться с визирем, слышав, что уже битва началась, и спешил принять в ней участие, а перед ним вдруг очутились русские!..
Храбрый наш Громин недолго колебался. Он чувствовал всю важность своего поста и всю драгоценность времени. Он видел, что ему надобно пожертвовать собою, чтоб не допустить сераскира на поле битвы. Приказания тотчас же были отданы, и мы ринулись на сераскира. Он не был приготовлен к такой сильной и неожиданной атаке, и первая его линия обратилась в бегство. Вдруг земля задрожала под нами. Более 28-ми тысяч спагов летели на нас… Это была ужасная минута! только русской стойкости и хладнокровию можно было выдержать такую атаку… Мы наскоро составили карре и встретили их сильным батальным огнем… Они смешались, остановились и обратились назад, но, тотчас же устроясь, опять за нашими выстрелами, вторично понеслись в атаку. Их приняли так же. Они сделали третью атаку и имели тот же успех. Тут и мы, в свою очередь, двинулись вперед, слыша между тем, что армия визиря сбита и отступает… Нас встретила янычарская пехота, и на этот раз мы нашли соперников, достойных себя; началась рукопашная резня, и русское мужество долго боролось с восточным бешенством. Наконец мы их сломили и погнали… Но в ту самую минуту ринулась на нас с тыла бегущая армия визиря, и ряды наши были разорваны… Последний наш кавалерийский резерв стоял с Громиным, и он решился пробиться сквозь эту нестройную толпу… Мы ударили на них – и с первого натиска опрокинули их… В эту самую минуту перескакивали мы через узенькую канавку, которая не могла бы затруднить и 10-летнего мальчика… Но моя лошадь, которая, верно, получила рану во время сражения, оступилась, оборвалась и полетела в канаву. Удар был силен и оглушил меня… Я не скоро мог опомниться, но когда пришел в себя, то через канаву неслись уже турецкие всадники в противном направлении… Не знаю, что мне вздумалось привстать в то мгновение, как последний ряд их перескочил… Но только ага, ехавший позади своего отряда, тотчас увидел меня и, указав на меня, приказал что-то двум своим спагам. Они бросились на меня, и мне ничего не оставалось, как дорого продать свою жизнь… Я начал самый отчаянный бой, и вскоре первые два спага лежали у ног моих; но ага послал еще троих, потом еще четырех и сам любовался нашим боем; я чувствовал, что силы мои истощались, что кровь моя текла уж из многих ран, но продолжал драться. Вдруг подъехал ага… и я уж ничего не помню… Только смутно, как в сновидении, казалось мне, что кто-то нанес мне удар в голову, что я упал и меня подняли, перебросили на лошадь и поскакали…
Когда я опомнился, то мы уже были в какой-то деревушке… Я лежал на полу в какой-то грязной хижине, и первый предмет, встретившийся мне, был тот самый ага, который так забавлялся моим боем с его спагами. Он тоже лежал на коврах и был сильно ранен. Верно, в ту самую минуту, как он подъезжал ко мне и как уже меня везли без чувств, русская картечь нечаянно отомстила за меня… Увидя, что я пришел в чувство, он сказал мне что-то ласковым голосом, но, видя, что я его не понимаю, кликнул врача, который на другом каком-то языке старался передать слова эти. Я покачал головою, показывая, что не понимаю их. Тогда врач подошел ко мне и начал заботиться о моих ранах. Я видел, что он мало в этом смыслит, но какое-то равнодушие к жизни и страданиям сделало меня ко всему бесчувственным… Я дал над собою делать все, что ему вздумалось. Он меня терзал, а я не испустил ни одного стона, и, когда он кончил, я отвернулся, закрыл глаза и уснул.
Проведя тут двое суток, мы поехали далее. Нас разбудили ночью, и всеобщие крики москов дали мне понять, что мы бежим от русских. Слава богу! мы побеждаем!
После самого мучительного двухнедельного путешествия мы приехали наконец в Стамбул, и раненый мой ага поместил меня в какой-то конурке своего дома. С этой минуты, разумеется, исчезла вся заботливость о мне, а иногда мне даже не приносили и пищи. Я сам себе перевязывал раны, вымывая старую корпию и просушивая ее на солнышке. Молодость и покорство судьбе были моими лучшими врачами. Я выздоровел.
Не знаю, кто вылечил агу, но, верно, уж не врач его. Он позвал меня во время своего выздоровления, и на этот раз какой-то грек служил нам переводчиком. Во всякое другое время русские его фразы могли бы насмешить меня. Он объявил мне волю господина моего, что он уважает мою храбрость и будет обращаться со мною самым человеколюбивым образом, что он не будет заставлять меня работать, а прикажет только смотреть за своим садом, и если я соглашусь принять исламизм, то он даже обещает мне передать свое место аги.
Я поблагодарил его за все… Что мне было рассуждать с ним?
Вскоре мы оба выздоровели, и он повел меня по своему саду… Грек переводил мне его приказания, но я забавлялся над его бессмыслицею. В два месяца с половиною я больше выучился по-турецки, нежели он знал по-русски. Ага удивился моим успехам, велел мне нанять учителя.
С тех пор это послужило мне развлечением в моем несчастном состоянии. О нашей армии, о войне, о России, о моей милой Вере я никогда ничего не узнаю.
Так прошло полгода. Ага действительно добрый человек… Он не виноват в моей судьбе; по их законам, всякий военнопленный делается невольником, и он еще очень благосклонно со мною поступает.
4-го марта.
Теперь уже я не буду писать чисел… Я и теперь не знаю, верно ли я счел. Здешнего календаря я еще не понимаю, а с нашим легко сбиться… Со дня сражения и во все время мучительного путешествия я часто забывал, какие тогда были дни. После я счел, но мог и сбиться. Да и на что мне это теперь! Все время плена, неволи, страданий – не будет ли одною длинною мучительною ночью моей жизни! Все мною претерпенное не будет ли тяжким, грустным сновидением, от которого я едва ли проснусь прежде смертной минуты!.. О! Тогда творец, верно, будет ко мне столько милосерд, что позволит душе моей хоть на одну минуту промедлить еще на земле… Я тогда полечу на мою родину, обниму Веру, подам руку примирения брату и понесусь за мириады звезд.
Я столько уже успел в турецком языке, что мне позволили читать Коран. Кажется, и это было бы запрещено, но ага думает, что я для того учусь по-турецки, чтоб принять исламизм. Я как-то сказал ему о моем желании прочесть Коран, и он еще более убедился в своей мысли. Тотчас же принесли мне все книги Магомета, для меня это будет совершенно новое чтение.
Мне позволено выходить и гулять по улицам. Только, кажется, я не буду пользоваться этою неприятною свободою. Платье христианского невольника привлекает всех мальчишек… Меня забросали грязью и каменьями… Я принужден был бежать. Когда я рассказал аге о своем несчастии, он равнодушно отвечал, что это вообще обыкновение, которое очень справедливо.
– Ведь надо же сделать различие между правоверным и джиауром, – прибавил он. – Прими исламизм, и все с почтением будут тебе кланяться. – Я не отвечал, поклонился и ушел.
Мне надоел ага с своими предложениями. Наконец я отделался от них. Он долго ходил сегодня со мною по саду и уговаривал меня принять исламизм.
– Послушай, добрый ага, – отвечал я ему. – Если б ты был в плену у нас и тебе предлагали принять нашу веру, согласился ли бы ты?
– Нет.
– Как же ты можешь думать, чтоб я теперь на это согласился?
– Это большая разница, – сказал он после некоторого молчания. – Я убежден, что исламизм истинная вера…
– А я еще больше убежден в справедливости моей веры…
Он посмотрел на меня, протянул руку и сказал:
– Ты прав. С этой минуты я тебе не буду больше делать предложений.
Грек, который был нашим переводчиком, сообщил мне сегодня по секрету важную новость. Он говорил, что с Россией заключен мир. Боже мой! правда ли это?!
Я решился сегодня спросить об этом агу.
– Да! это правда, – отвечал он. – Ну, так что ж из этого следует?
– По законам всех народов в свете пленные возвращаются при заключении мира.
– Мы не знаем ваших законов, а вы не знаете наших. Кто раз сделался невольником, тот должен и остаться невольником.
– Но невольников везде покупают, а ты не купил меня.
– Неправда, купил! и заплатил дорого! Одна капля крови правоверного стоит тысячу джиауров, а я за тебя был ранен и полгода пролежал на одре болезни.
– Послушай же, ага. В моем отечестве я богат… Назначь за мою свободу выкуп, и я отдам все свое имение…
– Джиаур! – с яростью вскричал ага и схватился за свой кинжал. – Ты стоишь, чтоб я поразил тебя тысячью ударов, чтобы вырвал твой наглый язык!.. Как смеешь ты предлагать мне деньги за мою кровь?
– Ты меня не понял, ага; если я твой невольник, то ты можешь продать меня, когда захочешь… Ты можешь продать свой дом, свой сад, своих невольниц…
– Молчи! и никогда не смей мне говорить об этом… Я не продам тебя, и ты не получишь своей свободы.
Тут он меня оставил в величайшем гневе, и с тех пор я его редко вижу.
Не знаю, что делать и кому ввериться. Грек больше не показывается… Верно, ага подозревает и его. Мне запрещено выходить, а домашние аги давно уже смотрят на меня с завистью… Если мир заключен, то в городе должен быть русский посланник… Только бы найти средство доставить ему письмо… Я заготовил его и всегда ношу с собою. Авось когда-нибудь и удастся… О мое отечество!.. Жена моя!..
Не смешно ли это! В моем положении, с моею вечною грустью, у меня начинается роман… Кажется, во всем моем существе нет ни одной частички, похожей на любовный эпизод… Но я столько читал приключений, в которых пленные посредством женщин и любви успевали получить свободу, что не смею отвергать никаких средств… Лишь бы увидеть мое отечество и мою милую Веру… Что-то она делает? Жива ли?..
Как смотритель сада, я по целым дням брожу по извилистым аллеям или с высоты киоска смотрю на морские волны… Сколько раз при южных ветрах я каждой волне поручаю мой привет отчизне, мой поцелуй Вере… На восточной стороне сада стоит отдельное строение, мимо которого ага запретил мне ходить. Это гарем его. Разумеется, что мне ни разу не приходило в голову нарушить его приказание. Только недавно, сидя в киоске и свесившись с него в воду, я нечаянно обратил взоры в ту сторону, где был гарем. В первый раз заметил я, что из него выдался в море такой же киоск, как и садовый, и что в нем сидят женщины… Расстояние было довольно далеко, и я не мог разглядеть хорошенько ни одной… Видел, однако же, что они заметили мое присутствие и делали мне какие-то знаки. Я внимательно посмотрел на них несколько времени и ушел.
Вскоре черный евнух объявил мне, что женщины пойдут гулять по саду. Это значило, чтоб я удалился. Я привык к этому ежедневно и повиновался. Когда же прогулка их кончилась, то я опять пошел в киоск на прежнее место. Почти невольно взглянул я опять на киоск гарема и увидел только одну женщину, которая мне знаками показала на перила киоска. Я взглянул на то место, где стоял, и каково было мое удивление! На белом мраморе написаны были карандашом по-турецки слова: «Кто ты, прекрасный юноша? Напиши тут же и скажи: умеешь ли ты любить и молчать?»
Сердце мое взволновалось… Тысяча идей обхватили мою голову… Любовь женщины!.. О, как мало я об ней думаю!.. Но свобода, но отечество, моя Вера!.. для них я на все готов… Что, если эта женщина имеет власть над агою!.. Если каким-нибудь средством успеет склонить его… если даже через нее можно доставить письмо русскому или австрийскому посланнику… и если даже, наконец, хоть бегство… Море, лодка, челнок, попутный ветер. Утопающий не имеет ли права ухватиться хоть за соломинку? Я спешил написать следующий ответ:
«Я русский пленный и за свободу мою готов отдать жизнь. Кто мне поможет, того я буду любить во всю жизнь. Сердце мое пламенно и благодарно, а язык умеет молчать».
Свесясь с киоска, я знаками показал женщине, что ответ написан. Часа через два евнух опять сказал мне, что женщины хотят гулять по саду. Я вышел и потом опять явился на прежнее место. Там все прежнее было стерто и написан был новый ответ: «Останься на ночь в саду и жди меня в киоске. Сотри написанное сейчас».
Голос совести твердил мне, чтоб я не ходил. Разве сердце мое будет участвовать в этой ничтожной интриге? Разве я ищу связи, разврата, преступления? Нет! Я покупаю мою свободу… Свобода! Отечество! Пред этими словами все исчезает.
И она невольница! Родина ее в горах Грузии. Братья продали ее купцу, торгующему невольницами… Ее привезли в Константинополь, выставили на рынке, осматривали, торговались, расходились… наконец ага купил ее… Больше она ничего не знает, ни о чем не понимает. Отечество, свобода! Эти слова не имеют для нее никакого смысла. Ага стар, и она его терпеть не может. Я молод, и она хочет меня любить. Здесь ли, в другом месте… ей все равно… Она никак не может понять, зачем я хочу бежать?.. Впрочем, она дала мне клятву сделать все, что я придумаю и прикажу… Писем она теперь переслать не может, потому что никогда об этом не думала… А чтоб я мог действовать, то она отдала мне все свои брильянты и жемчуги… Я обещал ей накупить вдвое, если только успеем уйти.
Нет! Ничто не удается! И глупая моя интрига ни к чему не ведет. Я просил у аги позволения сходить на базар, но он отказал мне. «Скажи мне, что тебе нужно, – отвечал он, – и я все тебе доставлю».
Я сегодня отдал девушке все ее вещи и мои письма к посланникам. Пусть она попытается. К ним часто ходят торговки, которые берутся и не за такие дела.
Добрая девушка делает все возможное, чтоб доказать мне любовь свою… Она уже отыскала торговку, которая взялась за передачу ее писем (она не сказала, что это от меня) посланникам… Она уверена, что если я успею получить свободу, то увезу ее с собою… Не понимаю, как она может так искусно обмануть бдительность гаремных сторожей, чтоб всякую ночь приходить в садовый киоск. Я ее спросил, но она смеется и велит мне молчать.
Я получил ответ. Секретарь нашего посольства отвечал мне, что у этих варваров нет размена пленных и что если мой ага отказывает от выкупа, то официальным путем нельзя мне получить свободу. Сам падишах, который может из каприза отрубить голову моему are, не согласится лишить его невольника, добытого на войне. Притом же всякая попытка со стороны правительства ожесточит моего агу и подвергнет меня дурному обращению. Остается, следственно, одна хитрость, одно бегство. Посольство радо будет тайным образом содействовать моим планам и требует, чтоб я сообщил тою же дорогою все, что для этого придумаю. Ужасное положение! Что я придумаю!.. Конечно, море – единственная дорога… Из киоска в лодку, на корабль… попутный ветер… туда, на север!.. О блаженство!.. увидеть отечество, обнять Веру и умереть.
Я написал все, что мог придумать… Кто возьмется за исполнение плана и удастся ли он?.. Это вопрос, который решит одно провидение. Зюлема взяла письмо и передала своей торговке. Что-то будет! Боже! Тебе вверяю свой жребий!
Милосердый творец! Какая ужасная развязка! Бедная, несчастная Зюлема! Я погубил тебя! Не знаю, кто изменил нам, но вчера я увидел весь дом аги в сильном волнении. Два черные евнуха прибежали ко мне, схватили и повели… Я хотел сопротивляться, – мне сказали, что ага приказал меня привести… Я спрашивал: куда? зачем? мне не отвечали. С удивлением увидел я, что меня ведут в гарем, и понял, в чем дело. Я уверен был, что мучительная смерть меня ожидает, и мысленно возносил последние молитвы к богу и последние прощания отечеству и моей Вере.
Меня привели в киоск гарема… Там собрана была толпа женщин и среди них был сам ага. Увидя меня, он с яростью посмотрел на меня и, указывая на трепещущую Зюлему, спросил, люблю ли я ее? Я принужден был отвечать, что благодарен этой девушке за утешение, которое она мне доставляла в моем одиночестве.
– Знал ли ты, что, нарушая законы гарема, вы оба подвергаетесь смерти?
– Законов ваших я не знал, а смерти, ты знаешь, я не боюсь.
– Хочешь ли спасти себя и эту девушку?
– О своей жизни я тебя не умоляю… Неволя и смерть для меня одно и то же… Но чтоб спасти эту несчастную, я готов на все…
– Прими исламизм, и она твоя!
– Ага! Ты нарушаешь собственное свое обещание; ты дал мне слово никогда не повторять этого предложения. Избавь же меня от повторения моих прежних ответов. Я сожалею о несчастной и готов на смерть.
Он задрожал от ярости и осыпал меня ругательствами.
– Кто не может отвечать на ругательства, того оскорблять бесчеловечно, – сказал я и спокойно сложил руки на груди.
Я ожидал смертного удара, но он вдруг успокоился и мрачно отвечал мне: «Ты прав, джиаур! И я прощаю тебе. Гассан!..»
Тут он махнул рукою черному невольнику и указал на Зюлему. В одно мгновение на несчастную набросили мешок, завязали его, подняли на перила киоска и, сильно размахнувшись, бросили в море.
– Вы это видели, презренные твари, – сказал ага прочим женщинам. – Там довольно места для всех вас!.. А ты, джиаур, с глаз долой!..
Он махнул рукою, евнухи меня схватили, привели в сад и почти без чувств бросили на землю.
Вот чем кончилась моя попытка! Боже мой! простишь ли ты мне смерть этой несчастной! Теперь кончено! Жребий мой решен! Я должен умереть далеко от родины, далеко от моей жены.
Как долго я ничего не записывал в свой журнал! Не помню теперь ни месяцев, ни дней русского календаря. Последние происшествия совершенно меня убили… Несколько недель я как бесчувственный бродил и желал одной смерти. Ага всякий день встречался со мною в саду и хладнокровно отдавал приказания, как будто ничего между нами не случилось. Я исполнял их, как автомат. И, однако же, все это дало мне уверенность, что ага ничего не знает о моей переписке с посольством и моих планах. Бедная Зюлема погибла за измену аге. Как он открыл о наших ночных свиданиях, – не знаю; но ясно, что более он не узнал ничего. Эта мысль поддерживала до сих пор мое существование.
Новое обстоятельство бросило опять искру надежды на мою печальную будущность!.. Но как сметь воспользоваться им? Сам я готов пожертвовать своею жизнию, чтоб получить свободу… Но если другая жертва должна будет пасть за меня!..
Я всякий день сижу в киоске и смотрю на море… Тоска давит мое сердце… но все-таки это утешение… Иногда слезы невольно текут из глаз, а я все-таки любуюсь свободою волн, которых ничто оковать не может, которые от Босфора шумно катятся к берегам святой моей родины.
Недавно взглянул я нечаянно на то место, где бедная Зюлема начала со мною переписку; каково же было мое изумление, когда, по внимательном рассмотрении мрамора, я увидел что-то написанное! Я прочел следующее:
«Только малодушный боится смерти. Аллах назначил каждому день кончины, и никто не избежит этого часа. Любовь утешает неволю и услаждает в жизни. Тайна – лучший спутник счастия. Как ты об этом думаешь?»
Вероятно, это новое послание давно уже написано… Два дня я его оставил без ответа и думал, что мне делать!.. Если бы я только мог получить какое-нибудь известие из посольства… Если б женщины решились помогать моему бегству… Но я не смею предложить этого в письменном ответе. Мне изменят… А согласиться опять на свидание я не хочу…
Злая судьба опять влечет меня!.. Я сегодня сидел в киоске и смотрел на море. Нечаянно я свесился, чтоб посмотреть вдаль, и вдруг в гаремном киоске увидел женщину, которая как будто караулила меня тут целую неделю. Она мне тотчас же сделала знак, чтоб я прочел и написал ответ. Она не знает, что я давно уже читал.
Долго сидел я в размышлении и думал, что мне предпринять! Наконец решился и написал:
«Ты видела, что я смерти не боюсь, но не хочу вовлекать в погибель новой жертвы. Если я не могу получить свободы, то лучше умру один».
Возобновились прежние сцены, и через два часа нашел я уже ответ:
«Я видела, что ты мужествен и прекрасен, я тоже смерти не боюсь. Любовь отвратит все опасности. Погибель Зюлемы научила нас осторожности. Если ты согласен прийти на свидание, то я научу тебя самому безопасному средству. Отвечай».
Я отвечал тотчас же следующее:
«Я хочу тебя видеть, чтоб вверить тебе мой жребий».
Не прежде как на другой день получил я ответ:
«Останься на ночь в киоске».
И она пришла!.. Это была гречанка кандиотка, с малолетства проданная в гарем. Черты ее были прекрасны, чувства пламенны, а сердце благородно… Ее зовут Зофила…
Я ей рассказал мой жребий, и она проливала слезы… Я спросил, каким образом открыл ага мои свидания с Зюлемою, но она не хотела отвечать, уверяла только, что теперь никто ей не изменит. Я решился наконец сказать о переписке моей с посольством, об участии Зюлемы, о торговке и о моем теперь неведении насчет принятых мер… Она удивилась.
– Так если б Зюлема не погибла и если б предприятие твое удалось, ты бы увез ее с собою? – спросила она.
– Это от нее зависело, – отвечал я. – Она знала, что в отечестве моем у меня есть жена и что там я не могу уже любить ее…
– Не можешь? – сказала она задумавшись. – Жена! Ну так что ж? Ведь у тебя есть же невольницы?
– Нет, Зофила! Наш закон не позволяет иметь невольниц.
Она опять задумалась.
– Послушай, – сказала она после некоторого молчания. – И у меня есть отечество и, может быть, родители и братья. Можешь ли ты отвезти меня на мой остров, если помогу тебе уехать и если уеду с тобою?
– Даю тебе клятву, что по прибытии в мое отечество я тотчас же найму корабль, который доставит тебя на твою родину.
– Хорошо же. Пиши письмо к своему посланнику. Требуй скорейшего исполнения. Завтра я приду сюда за письмом.
Мы расстались.
На следующую ночь отдал я письмо… Что-то будет!
Ответ самый благоприятный! Судно давно готово к отплытию в Херсон… Но его нарочно для меня задержали. Торговка сказала о трагической кончине Зюлемы, и никто не хотел делать новых попыток, чтоб не испортить всего дела. Первая ночь, первый попутный ветер, и корабль поплывет мимо моего киоска… подъедет лодка, и, о боже! Грудь разрывается при одной мысли! Неужели я буду так счастлив, что увижу мое отечество… О моя милая, моя добрая Вера! Где ты? Что с тобою? Ждешь ли ты меня? Знаешь ли ты о моей участи и страданиях?..
Глава IV
Продолжение журнала
12-го февраля 1782.
Милосердый творец! Заслужил ли я подобное счастие! достоин ли я твоей небесной милости? Где я? что со мною делается? Я на корабле! Я плыву в Россию! Я не невольник варвара! Я русский – и скоро обниму родимую свою землю… Скоро упаду на колени у подножия алтаря русской церкви! Услышу православные молитвы! Всякий нищий будет там мой брат, мой соотечественник, единоверец. Он будет говорить со мною по-русски. А моя жена, моя Вера… Нет! я не доживу до этого! я умру от одного восторга, ожидая!.. А мой брат!.. О! Он, верно, простит меня. Если уже судьба надо мною сжалилась, если сам бог простил меня и позволил мне опять увидеть отечество и семейство, то неужели он будет строже рока. Я довольно пострадал!..
Как ветер тих! Как медленно корабль подвигается!..
Великодушная девушка! чем я буду в состоянии наградить тебя за твою великодушную помощь? Простые, непросвещенные дети природы! Ваши понятия ограниченны, но ваше благородство чувств не испорчено эгоизмом. Ваши желания далее чувственных наслаждений, но вы готовы делать добро по одному побуждению сердца, а не из видов благодарности.
Она была тут, в киоске, когда в темную ночь я с трепетом ждал появления корабля и лодки. Ветер был попутный. Вдруг я услышал тихий шум весел и, рыдая, бросился перед нею на колени, целовал ее руки, обнимал… Я был вне себя!
– Ступай, русский! – сказала она, прильнув на минуту к моей трепещущей груди! – Ступай! Будь счастлив и вспоминай о бедной Зофиле! Я остаюсь здесь! Чего мне искать в моем отечестве! Турки и там владычествуют. Первый янычар, который меня увидит на берегу, схватит и увлечет в свой гарем… Лучше покориться своей участи… Ступай… Я тебя буду любить до гроба…
Я еще раз обнял ее и как сумасшедший бросился в лодку… Она полетела, а я в это радостное мгновение смотрел на белое покрывало Зофилы, покуда мрак ночи позволял мне различить его. Я слышал ее рыдания и сам плакал…
Теперь я сижу в каюте… Все спят, а я не могу. Кровь волнуется, как в горячке… Я слышу биение собственного сердца! В Россию! В Россию!
Как долго! Третий день, а русского берега еще не видать. Ветер отошел к востоку, и шкипер сердится на меня. Он целый месяц простоял для меня в Константинополе, и хотя посольство заплатило ему за эту отсрочку все, что он запросил, но он все-таки сердится.
Ветер крепчает… Говорят, что это буря… Все боятся, а я один тихонько радуюсь… Каждый порыв бури приближает меня к России…
Шум, треск, беготня… Мы сели на мель… а берег в виду… Волны почти заливают корабль… Положено пассажиров по жеребью отвозить на берег… Какое несчастие! Всеобщие проклятия сыплются на меня. Во всем виноват я. Чтоб смягчить всеобщий гнев, я отказался от своего билета… Мне вышло ехать на берег в первую поездку. Я объявил, что остаюсь последним. Это удивило, но не успокоило всех… Все думают, что я остался охранять свои сокровища! А у меня, кроме этого журнала, ничего нет. Зофила дала мне свой перстень… А денег у меня нет, чтоб нанять и телегу до первого города. Но все равно; я скоро буду в России… А там с голода не умирают!
Я в России, в Херсоне, в карантине… Какая смертельная скука! Три недели пробыть взаперти!.. Впрочем, я писал к жене, к брату, к Громину, к графине! Мне было нечем заплатить за письма, и я принужден был продать перстень Зофилы… Жид клялся мне, однако, что сбережет его, потому что я обещал ему прислать двойную плату…
У меня требуют вида, паспорта и не хотят верить моему плену и побегу.
Когда я вышел из карантина, то какой-то чиновник градской полиции объявил мне, что я должен с ним идти к полицмейстеру; я отправился. Это было уже вечером. Меня привели и оставили в передней. Прождав тут около получаса, я вышел из терпения и требовал, чтоб полицмейстер вышел ко мне. Лакеи мне смеялись в лицо, говоря, что он занят; я настаивал и закричал на них… На этот шум пришел мой провожатый и с величайшею грубостью сказал мне, что он свяжет мне руки и ноги, если я не замолчу… Я не выдержал и отвечал грубо. Поднялся ужасный шум, на который явился сам хозяин. Он закричал на меня. При всем моем бешенстве я изумился и спросил его, знает ли он, с кем говорит.
– С бродягою, с беспаспортным, с беглым, с самозванцем!..
Я не знал, что и отвечать на это обвинение, и он принял это, верно, за смущение и сознание.
– А ты думал, что тебя и не узнают! – вскричал он. – Нет, голубчик… Ты смел себя выдать за генеральс-адъютанта Григорья Зембина? И ты осмелился говорить это начальнику здешней полиции… Вот я тебя проучу…
– Послушайте, г. полицмейстер, – сказал я с возможным хладнокровием. – Повторяю вам, что я тот самый, за кого себя выдаю, и вы можете отвечать за столь несправедливое обвинение… Я из плена… Корабль наш разбился; со мною нет никаких бумаг… Но я уже писал к жене, к брату, к своему генералу, к графине Б. Я получу от них ответы, и вы тогда убедитесь… а теперь прошу вас быть учтивыми.
– Так ты генеральс-адъютант Зембин?.. Ну-ка, умеешь ли ты читать? Прочти-ка вот это?
Тут он подал мне какой-то печатный лист. Я с удивлением посмотрел на него.
– Что, небойсь струсил! Читай же, читай вслух… Я посмотрю, хорошо ли ты знаешь русскую грамоту?
Я невольно начал читать. Это была реляция того самого сражения, в котором я был взят в плен… Тут после описания подвигов русской армии исчислены были наши потери и сказано, что, к общему сожалению, генеральс-адъютант Григорий Зембин был убит и что неприятели, вероятно, изуродовали труп его, потому что даже тела не могли найти.
– Что ты на это, приятель, скажешь? Ну-ка, признавайся скорее! Ты, верно, беглый солдат… Я тебя отправлю в твой полк…
– Г. полицмейстер, повторяю вам еще раз, что вы ошибаетесь. Я не был убит, а попался раненый в плен… Наше посольство отправило меня на корабле из Константинополя, и вы знаете, что корабль разбился.
– Так ты хочешь, чтоб я тебе больше верил, как печатному акту!.. Да и в газетах уже было, что Зембин исключен из списков, как убитый… Ты знаешь ли, как поступают с самозванцами?..
– Через несколько дней вы получите ясные доказательства, что я не самозванец и что вы обошлись со мною несправедливо.
Он требовал, чтоб я признался во всем, и он простит меня… Я имел довольно хладнокровия, чтоб повторить ему прежние доводы и требовать, чтоб он подождал ответа из Петербурга.
– Хорошо, – сказал он, – подождем. А до тех пор, как беспаспортный бродяга, который наделал здесь дерзостей, ты останешься в рабочей роте…
Я не имел силы отвечать.
Как долго нет ни от кого писем! Смеются надо мною при всяком прибытии почты.
Боже! поддержи меня! Не допусти до отчаяния…
Наконец, судьба моя решена! Через полгода принимаюсь опять за несчастный свой журнал… Но где и как?.. Господи! да исполнится во всем твоя святая воля! Ты мне назначил страдать, и я безропотно понесу крест свой. Теперь все кончено! Я уже умер для всего света! Я потерял все земное… Благодарю Господа! Он предоставил мне лучшую участь. Молитва и надежда на его милосердие! Теперь прошли минуты первой горести, и я с твердостью берусь за перо, чтоб набросить короткий рассказ всего, что со мною случилось… Бог спас меня от отчаяния, и я молю его продлить мою жизнь для того только, чтоб смирением, молитвою и терпением доказать всю силу моей веры.
Я пробыл в Херсоне целые два месяца. Отчаяние уже готово было овладеть мною. Вдруг однажды прибегает за мною унтер-офицер и ведет к полицмейстеру… Кого же я там увидел! Моего брата!.. Я хотел броситься в его объятия, но суровый и холодный вид его остановил меня.
– Вот тот человек, который выдает себя за вашего брата, – сказал ему полицмейстер, указывая на меня.
– Кто б он ни был, – отвечал брат мой, – вы должны мне его сдать… Я привез вам предписание…
– Я и повинуюсь… но все-таки я должен изобличить этого человека, который с такой наглостью и упорством утверждал, что он ваш брат.
– Что это значит? – вскричал я. – Как, Иван! ты допускаешь, чтобы мне говорили это при тебе.
– Вот видите ли!.. Он и при вас…
– Что вам за дело, сударь, – сказал брат мой полицмейстеру, – брат ли он мой или нет… Вы мне его сдаете, вот и все…
– Нет, не все! – вскричал я с негодованием. – Ты должен торжественно объявить, что я брат твой, – или я остаюсь здесь и буду уметь умереть…
– Остаться здесь ты не можешь, – отвечал брат с холодною суровостью. – Этот же человек принудит тебя насильно ехать туда, куда ему предписано тебя отправить. А брат ли ты мне, это мое дело, а не его… Если ты помнишь свой поступок против меня, то я удивляюсь, что тебе даже вздумалось хвалиться нашим родством. Поедем со мною. Дорогою мы объяснимся.
Гнев и изумление лишили меня слов. Наконец я обратился к полицмейстеру и сказал ему:
– Вы были правы. Он не брат мне, и если хотите сделать доброе дело в своей жизни, то оставьте меня здесь… Я не поеду с этим человеком.
– Если б я не получил предписания, – отвечал полицмейстер, – то прежде всего за дерзость наказал бы тебя, но теперь велю отправить, куда угодно будет г. Зембину. А вслед за тем пошлю по команде рапорт о новых твоих дерзостях, чтобы тебя наказали за них, когда ты приедешь на место.
– И ты молчишь, ты терпишь это, Иван? Да отвергнет же тебя бог на Страшном суде своем, как ты меня отвергаешь. Поедем!
Мы поехали… Две недели ехали мы и во всю дорогу не сказали друг другу ни слова.
Наконец приехали в Петербург, остановились в доме брата, и первым предметом, встретившимся при входе моем, был граф Туров. Рыдая, упали мы друг другу в объятия.
– Где моя Вера? – вскричал я.
Он потупил голову, продолжал плакать и молчал.
– Что это значит! Где Вера?
– О, пощадите ее! Не убивайте! Я один во всем виноват!
– В чем? говорите ради бога! Где жена моя…
– Добрый, несчастный мой Григорий! Ты много пострадал, но это было только началом твоих бедствий. Много тебе надобно твердости, чтоб перенести все удары и еще больше великодушия, чтоб простить нас…
– В чем! Кого? Не мучьте! Скажите, что случилось. Где Вера? где жена моя?
– Она теперь жена другого!
Я посмотрел на Турова, хотел что-то сказать, но вдруг густой туман разостлался перед глазами… Я хотел встать, но почувствовал, что лишился употребления ног… я хотел ухватиться за что-то, но вокруг меня была одна пустота и мрак. Более ничего я не помню… И однако же, с той минуты помню я о какой-то другой фантастической жизни, которую проводил несколько времени, даже мне казалось, что несколько веков… Не знаю, что в это время было с моим телом, оно не принадлежало мне, или я не принадлежал ему; но мой дух, мое воображение и мучились, и насладились Удивительным, чудовищным существованием… Земля, люди – все это исчезло для меня! Я видел, осязал какие-то непостижимые существа, то проскальзывающие у меня сквозь пальцы, то безмерностью своею обхватывающие горизонт, то иногда светлые, воздушные, прозрачные, то мрачные и тяжелые, давящие мне грудь… Я их видел, говорил с ними, летал в их обществе между тысячами звезд, крутился в вихрях огненных, купался в океане, заливающем все мироздание… Иногда существа эти принимали знакомые земные образы; я напрягал свою память, чтоб вспомнить о них, силился, чтоб схватить их, но в ту же минуту они превращались в прежние фантастические существа и ускользали сквозь пальцы… Какая чудесная и непостижимая жизнь! Кто разгадает мне таинственную причину этих явлений, этого неземного существования?.. Да! Я уверен, что не был на земле в это время. Мне после сказали, что я несколько недель пролежал в горячке… Но я этого не знал, не помнил… это было самое восхитительное время моей жизни.
Когда я пришел в себя, то первым предметом, встретившимся мне, был Туров. Он радовался моему выздоровлению… Какое заблуждение! Мне прежде было гораздо лучше… Впрочем, земные мои отношения не скоро пришли мне на память. Долго я не понимал своего состояния и как будто собирал силы для страданий.
Наконец мало-помалу вспомнил я все и осыпал Турова вопросами. Он долго не хотел отвечать, говоря, что я слишком слаб… Но наконец уступил моим просьбам.
Ужасный рассказ! Я думаю, что болезнь тела отняла у меня в это время много способности, иначе я не постигаю, как я мог пережить этот рассказ.
Зачем приводить все подробности моих несчастий! Ведь это было только началом моих страданий. Дело в том, что после сражения, в котором я взят был в плен, все были уверены, что я убит. Громин, видевший мое падение с лошади, наверное полагал, что я падаю от смертельной раны. Притом же неприятельская кавалерия, несущаяся на меня, не оставила никакого сомнения в моей погибели. И он, и брат написали об этом Турову. Вера сделалась опасно больна, узнав о своем несчастии… Но молодость спасла ее (как и меня теперь). Мир был заключен… Войско возвратилось, и брат явился к Турову.
Каждый день являлся он к нему, утешал Веру, и наконец отец начал говорить ей о всеобщих слухах, чтоб она вышла замуж за брата… Долго противилась она… но даже я сам должен был убедить ее к этому. Брат отдал ей мой журнал, который он нашел в моем чемодане. Там я мечтал о моей смерти в первой битве, изъявлял все раскаяние в поступке моем с братом и даже сказал, что, в случае моей смерти, Вера, может быть, соединится с ним… Одним словом… ее принудили согласиться, выпросили разрешение на эту свадьбу, потому что первая была не совершена, и они обвенчались.
Вдруг получили они мои письма… Все ужаснулись… Один брат сохранил свое хладнокровие… Он уговорил всех сохранить по возможности молчание до тех пор, покуда он ко мне съездит и меня привезет. Через Громина достал он предписание херсонскому полицмейстеру, чтоб тот ему сдал того, кто называет себя Зембиным, и уехал ко мне. Остальное известно.
– Что ж вы теперь намерены делать? – спросил я у Турова.
– Плакать, раскаиваться и умереть, – отвечал старик.
– Но Вера…